Маятник культуры. От становления до упадка бесплатное чтение
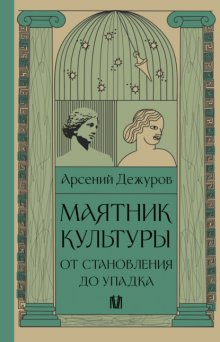
Иллюстрации Ии Смирновой
© А. С. Дежуров, 2022
© И. М. Смирнова, иллюстрации, 2022
© Open Sour©e + ®estricted Used Only
© Jules Durand – Some rights reserved
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2024
Введение
Физтехам
В 1924 году не без уныния знаменитый литературовед Б. И. Ярхо писал: «Быстрыми и верными шагами мы приближаемся к тому времени, когда людей, получивших классическое образование, станут показывать на ярмарках, как ацтеков»[1]. Эти времена настали. Кажется, результат даже превзошел ожидаемое – мы накануне эпохи, в которую человек, читавший Диккенса и Жюля Верна, будет считаться образованным. На современную молодежь можно посмотреть с холодным презрением – дескать, «мы знали больше». Можно посмотреть с состраданием – «мы были лучше, оттого что знали больше». Можно посмотреть на нее с пониманием – люди стали знать другое, не то, что знали старшие. Мы ведь вглядывались в образование XIX века с наивной мыслью, что знание мертвых языков и Закона Божия делало человека 100 лет назад умнее нас нынешних? Интерес к многознайству, столь ценимому XIX веком, уже давно снизился: на смену желанию знать пришло желание понимать. Если ушедшие времена стремились к всестороннему и скрупулезному анализу с лупой в руке, то современность смотрит на мир из космоса и взгляд современника синтетический – пора делать выводы. Очевидно, что у современного человека уже не будет времени читать классических авторов собраниями сочинений. Естественно, молодые люди будут предпочитать компьютер книге, музею и опере. Это значит, что современность требует от науки разговора на другом языке – понятном не слишком читающей молодежи с ее чаяниями, ее жизненным опытом и ее набором знаний. Этот разговор должен быть увлекательным столь же, сколь и серьезным.
Предлагаемые лекции были прочитаны очень молодым людям, которые мало что знали про мировую культуру, но хотели узнать о ней как можно больше и в наиболее сжатые сроки. Назначение этих лекций – помочь человеку, далекому от систематического изучения культуры, ориентироваться в мировом культурном процессе, обозревая тысячелетия с высоты птичьего полета. Автор старался говорить о сложных материях просто и понятно, не забывая, что, даже если человек сообщает мудрые и полезные истины, его трудно слушать полтора часа без перерыва. И все равно даже в полуторачасовых выступлениях сложно объять все, что можно поведать о мировом культурном процессе, а потому к лекциям предлагаются небольшие статьи по истории искусства, которые призваны более детально раскрыть некоторые затронутые в лекциях рассказать о незатронутых и описать культурные идеи на конкретных примерах.
Подготавливая стенограмму лекций к печати, я был вынужден кое-что убрать, что-то добавить, а некоторые абзацы переписать вновь, понимая, что читать эту книгу будут не только студенты, но и взрослые люди, а они могут рассердиться, если я буду говорить совсем уж без затей.
Студентам бывает безразлично, что лектор выдумал сам, а что взял из ученых книг, а в печати необходимо делать сноски, поясняя, что сведения проверены большой наукой. Я дал только самые, на мой взгляд, важные сноски и ссылки, чтобы не впасть в грех занудства, столь обычный для ученых людей, и не затруднять чтение. Кое-где, правда, я не делаю пояснений, чтобы не задеть достоинство образованных читателей. Например, я не отмечаю, кто такие Бальзак, Мария Склодовская-Кюри, Антон Рубинштейн. Если кто-то не знает, кто были эти персоны, то информацию о них можно найти в любом словаре. Зато я слежу за тем, чтобы было комментировано имя Н. А. Куна, увлекательную книгу которого читали все мои слушатели, и напоминаю, кому принадлежит знаменитый стишок про Ньютона и Эйнштейна, считающийся народным. Мне кажется, такие попутные сведения расширяют кругозор.
В некоторых случаях я считаю необходимым делать сноски, когда говорю о малоизвестных и курьезных на современный взгляд фактах древней и современной культуры. Действительно, многое в прошлом кажется больше похожим на современную фантазию, чем на некогда бывшую действительность. И тут необходимо еще раз подтвердить: да, это было именно так, вот где я это прочитал.
В разговоре я избегаю дат. Даты сильно осложняют беседу. Во-первых, слушатели отвлекаются, чтобы записать очередную цифру, и можно быть уверенным, что об этой цифре и ее значении уже более никогда не вспомнят. Кроме того, общеизвестно, что в хронологии Древнего мира все надо менять, ибо при расчете дат были избраны изначально неправильные ориентиры (это так же верно, как и то, что в хронологии ничего менять нельзя). Поэтому многие времена мне проще называть незапамятными, чем понуждать аудиторию рыться в метриках. При подготовке рукописи к изданию я, конечно, вставил в текст наиболее важные даты, но в лекции они почти не встречались. Из всей кавалькады памятных дат я обозначу три синхронных среза мировой культуры. Это греческая классика (V – первая половина IV века до Р. Х.), классический и постклассический Рим (I век до Р. Х. – I век от Р. Х.) и XIX–XX века. Вот те временные и пространственные границы, которые определяют материал наших бесед.
И напоследок важно сказать: мировая культура очень большая. За несколько лекций нельзя узнать ее «хорошо», можно лишь узнать, что узнавать ее интересно. Вот почему я поместил в конце этой книжки список книг, которым я доверяю и которые очень мне помогли. И сейчас мне кажется, что эта страница – самая важная в книжке.
Лекция I
Законы изменения языка мировой культуры
Когда вы открываете учебник – будь то учебник по литературе или по истории искусства – по любой гуманитарной дисциплине, вы для начала читаете сводку, какие политические и экономические потрясения испытала та или иная страна. Предполагается, что политика, экономика, войны, денежные реформы, иными словами, социальные катаклизмы каким-то образом повлияли на изменение языка литературы и искусства. Это возможная точка зрения на мировой культурный процесс, но совсем не единственная. Это взгляд социологической научной школы.
В России еще в начале XX века существовало много научных школ, исследующих литературу и искусство. Это психологическая школа, объяснявшая природу творчества отражением душевной личности автора; биографическая школа, которая погружалась в исследование биографии того или иного лица и видела все его произведения отражением его жизни; формальная школа; в 1950-е вызревают структуральная школа, культурно-историческая школа и, наконец, социологическая школа. В 1930-е годы в России над всеми научными школами восторжествовала только одна – социологическая. Основанием для удушения других научных школ явилось письмо Иосифа Виссарионовича Сталина драматургу В. Н. Билль-Белоцерковскому от 30 января 1929 года о том, что всякое явление мировой литературы (читай – культуры) должно иметь политическую окраску. Закономерно, что все явления мировой культуры эту политическую окраску тотчас получили. И закономерно, что единственная школа, которая уцелела в советской науке, – социологическая. Ведь она утверждала (и весьма обоснованно), что язык культуры меняется вместе с изменением общественно-политических формаций. Прочие научные школы или были раздавлены, или ушли в подполье, или продолжали свое развитие уже за пределами России.
Социологическая школа, зародившаяся в XIX веке, сделала много хорошего: к ней принадлежали выдающиеся ученые. Но мы понимаем, что социологический не единственно возможный подход, при помощи которого мы можем изучать мировую культуру.
Как развивается мировая культура? Искренний мой ответ – не знаю. Но поскольку я читаю лекции, я обязан занять какую-то позицию, я должен надеть на себя маску. К нашей поре даже далекому от философии человеку проясняется, что существует только тот мир, который создан чувствами, мыслями, фантазиями каждого из нас. И в общем-то, если мы сейчас представим себе, что можно остановить время, и попытаемся понять, сколько существует истин, получится – сколько мыслящих субъектов, сколько людей на этом свете (и эти «истины» меняются с носителем во времени). Проще говоря, сколько людей, столько точек зрения.
Возьмем жизнь отдельного человека, поделим на мгновения и миги – и мы понимаем, что каждый миг у него новый взгляд на мир, новая точка зрения. Мы проживаем в течение дня множество жизней, и каждое мгновение по всей жизни у нас меняется представление о добре и зле, о прекрасном и безобразном, о том, хороши мы или дурны по своей природе и каков окружающий мир.
Получается, что никакой единой истины не существует. Наша эпоха отчаялась ее найти. Искомая истина распадается на бессчетное множество «истин». Но когда разговор идет об истине, то бессчетное множество и нуль – это одно и то же. Получается, что истины, в общем-то, нет, она растворяется в бесконечных потоках сознания каждого из нас.
Таким образом, для того, чтобы рассуждать о культуре в самом высоком смысле слова, мне нужно надеть маску, привязать себя к определенной философской и научной доктрине. Я понимаю, что стоит мне сделать шаг в сторону и взглянуть на мою же концепцию другими глазами, как она не выдержит моей же собственной критики, покажется одновременно инфантильной и старообразной. Но тем не менее продолжаем разговор, в котором я выступаю адептом культурно-исторической школы.
Различные системы кодировки информации. Язык как таковой и языки искусства
Мы начнем с языка – для нас русского – как явления коммуникативного, как языка нашего общения.
Мы думаем, и думаем мы медленно, со скоростью прогулочного велосипеда, примерно 4 м/с (это скорость движения нервного импульса, хотя в разных обстоятельствах она варьируется от 0,5 до 120 м/с), но даже самые задумчивые из нас думают медленнее, чем говорят.
Думаем мы не словами. Законченными синтаксическими периодами мы мыслим очень редко: в состоянии тяжелой невротической депрессии или в печальной раздвоенности души, которая так хорошо описана в очерках по клинической психиатрии. Но, чтобы передать наши мысли собеседнику, нам нужно их зашифровать при помощи, в общем-то, ничего не значащих звуков. Мы избираем систему шифров – язык. Мы кодируем нашу мысль при помощи языка, передаем ее в таком виде собеседнику, он, в свою очередь, расшифровывает нашу фразу и (как правило, плохо) нас понимает. То есть язык – это информационная система, это система знаков для передачи информации. Достаточно ли нам языка для того, чтобы передавать информацию друг другу? Или есть мысли, которым мало словесной системы?
Вопрос: является ли музыка информативным искусством? Вы понимаете, любите музыку? Да. Разную? Разную. Можно ли пересказать музыку? Ну, можно… Можно пересказать музыку с помощью вульгарных «трам-пам-памов», то есть передать мелодию, если для этого у нас достаточно слуха и голоса. Но мелодия – самое простое, что есть в музыке. Она сродни сюжету в литературе: его можно пересказать, но это так мало!
Можно еще передать наши впечатления о музыке. Мрачная она, тяжелая, тоскливая, радостная, светлая, плясовая или плавная? Если мы хотя бы немного специалисты, мы тотчас начинаем говорить на языке сольфеджио, по преимуществу итальянском. Но пересказать музыку без потерь для этого искусства невозможно. Вернее, одна информационная система в другую без потерь не переводится. Точно так же, как, например, балет «Анна Каренина» сохраняет что-то от Льва Толстого, но говорит на совсем другом языке. Превратить без потерь книгу в балет нельзя. Музыку в слово – тоже. Для вашего развлечения я прочитаю начало одного известного вам сочинения на языке теории музыки, а вы попробуете угадать, что имеется в виду.
«Вначале я создаю фактурную вертикаль из трех уровней, для дифференциации которых применяю три типа структур. Основной, средний уровень строится из тон-пунктов, объединенных в группы по три, причем их диапазон то расширяется, то сужается. Одновременно на нижнем уровне образуется самостоятельная горизонталь тон-пунктов, которые могут оказывать решающее влияние на звуковысотные структуры среднего. Между ними существует достаточно строгая вертикальная корреляция. Одновременно на высшем уровне складываются самостоятельные группы, причем их изменения не синхронизированы с изменениями групп в среднем. Время течет на каждом из уровней по-разному. Характеристические текстуры (в основном легато, пиано), а также темп унифицированы в отношении всех трех уровней и допускают лишь незначительные агогические флуктуации»[2].
Догадаться мудрено даже специалисту. Это начало «Лунной сонаты».
Искусство сродни музыке – архитектура. Вы всегда понимаете, уютно вам в помещении или неуютно? Вы понимаете, вам здание отвратительно, оно подавляет вас, или наоборот, приятно для глаза и вам хочется войти в него? Понимаете. Но разве можно пересказать архитектуру? Если в музыке мы переходим на итальянский язык, то в архитектуре приходится говорить по-гречески. Если я презентую вам такое здание: на высоком цоколе стоят глубоко каннелированные колонны с композитной капителью, расстояние в интерколюмниях равно пяти радиусам… Вы чувствуете очарование этого здания? Но, в общем-то, даже если бы знали все эти слова, вы бы вряд ли прониклись прелестью этой архитектуры, потому что архитектуру нельзя перевести в слово, хотя это весьма информативный вид искусства. Вы понимаете архитектуру, но пересказать не можете.
Искусство «попроще» – живопись. Какая живопись кажется современным эстетам наивной, скучноватой и простодушной, но требующей нашего восхищения в память о восторге бабушек? Это живопись русского реализма – Айвазовский, Репин, Шишкин, Суриков. Почему ценителям изящного с трудом дается восхищение этой живописью? Мы-то знаем, что надо восхищаться картинами передвижников – не напрасно же их разместили в конце учебника родной речи? А в Америке, например, Третьяковскую галерею один остроумный эстет назвал «галереей русского китча». Он хотел задеть наше национальное самосознание? Не без того, наверное, все-таки это высказывание относится к эпохе холодной войны. Но все же, руку на сердце положа, Пикассо интереснее Васнецова. Почему русская живопись XIX века, созданная очень хорошими художниками, стала на нынешний вкус устаревшей? Разве бывают плохие картины, написанные гениальными художниками?
Возьмем шедевр русского реализма, который называется «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». «Каково содержание этой картины?» – задаем мы себе вопрос. И тотчас находим на него ответ: запорожцы пишут письмо турецкому султану. Иными словами, в этой картине ярко выражен литературный компонент. Ее можно пересказать, и это наименее интересная ее составляющая.
В разговоре о Караваджо, о Тициане мы говорим о соотношении цветовых объемов, световых пятен, говоря про Репина – о сюжете, о характерах. Сюжет, характеры – все это больше относится к литературе. Получается, что реалистическую картину можно пересказать, а если ты можешь выразить себя в словах, то зачем брать кисть в руки? Ведь искусство существует затем, чтобы передать невыразимое, чтобы рассказать невнятным и в то же время смутно понимаемым нами языком о тайне. Куда как интереснее, чем сюжет «Запорожцев», подумать о самой большой фигуре в белой бурке, которая развернута к нам тылом: казак не участвует в общем веселье, его лицо, повернутое к закату, неизвестно… Кто он? Но об этом мы поговорим в другой раз.
Другая живопись, которая тоже любима русским народом и при этом больше удовлетворяет современным вкусам, – импрессионисты. И вот задаем себе вопрос: о чем пишут импрессионисты? И можно ответить одним словом. Скажем, содержание всего творчества Огюста Ренуара – это счастье. Ренуар – один из немногих художников в мировой живописи пишет о счастье, поэтому так нравится женщинам и детям. А кроме этого, мы не можем сказать больше ничего о литературном содержании его картин, где непонятно, где заканчивается фон и начинается изображение на фоне, где нет никакого сюжета. Пересказать содержание живописи импрессионистов невозможно.
А вот еще картина, которая никого не оставляет равнодушным, – «Черный квадрат» Малевича. Она уже давно не современная, но все еще остается символом современного искусства. У всех есть точка зрения на эту картину, никто мимо нее не проходит, не сказав хоть пару слов. Каково содержание этой картины? Никто на самом деле не знает. Что думал о ней сам художник? Художников слушать бессмысленно: они городят полный вздор. Если бы художники умели говорить, они никогда бы не стали рисовать. Это наша задача, задача искусствоведов – объяснять словами то, что сказал бы художник, если бы умел. Так вот, сам Малевич-то – он боролся с этим черным квадратом, черный квадрат его подавлял, Малевич на него бросался, бился с ним и, наконец, его победил, причем нечестным образом, потому что одна-то сторона у квадрата скошена. Это не квадрат в полном смысле слова, это прямоугольная трапеция. Когда Малевич поделился с друзьями этими соображениями, все поняли, насколько он болен.
Мы понимаем, что точка зрения самого автора нам не много прояснила в этой картине. Смотреть на эту картину, пожалуй, неприятно. Но картина очень глубокомысленная: она отразила, более чем какая-либо другая, кризис искусства рубежа XIX–XX веков.
И посмотрите, когда мы говорим про картину Репина, то у нас точка зрения на нее, как правило, одна. Мы рассуждаем про запорожцев, про казачью вольницу. Смотрим на «Бурлаков» – рассуждаем, как плохо жили бурлаки. Смотрим на «Крестный ход в Курской губернии» – понимаем, как религия дурачит народ. То есть точка зрения оказывается одна. На Малевича – бесконечное число точек зрения. А что отличает художественное произведение? Где критерий художественности? Это как раз возможность посмотреть на него с разных позиций.
Научный текст однозначен, мы не можем его трактовать. Вот, скажем, фраза из генетики – науки, перенасыщенной терминологией: «Рецессивная аллель влияет на фенотип, только если генотип гомозиготен». Как можно трактовать эту фразу, что там можно прочитать между строк? Ничего. Она имеет одно только значение, то есть это не художественная фраза, в отличие от литературного текста. В логике этих рассуждений легко сделать вывод, что «Черный квадрат» – «более художественное» произведение, чем картина Репина. Это будет поспешностью. Но такой подход тоже возможен.
Возьмем очень сложную систему – литературу. Никогда литературу к искусству не причисляют, говорят всегда «литература и искусство». Почему? Потому что литература стоит на границе между искусством и языком. Это искусство, но в то же время оно использует язык как таковой.
Когда студенты-филологи готовятся к экзаменам по литературе, они не то чтобы увлеченно читают. Они созваниваются и расспрашивают друг друга, о чем произведение, про что книга. И что говорили об этом подруги-пятерочницы. Они пересказывают друг другу сюжет, то есть самое простое, что есть в литературе. И это губит студентов на экзамене – их удел бывает поистине плачевен.
В Новое время филологи подсчитали количество драматических ситуаций – какие жизненные коллизии лежат в основе литературного произведения. Таких сюжетных ситуаций около 30[3]. Ну вот, посмотрите-ка, хороший пример: он вернулся с чужбины, а она нашла себе другого. Завораживает? Нет. А ведь это «Горе от ума». Согласитесь, в основе сюжета грибоедовской комедии лежит именно эта драматическая ситуация. И если мы будем пересказывать друг другу сочинение Грибоедова таким образом, то вряд ли проникнем в глубинную суть комедии.
И все же до конца XIX века считали, что без сюжета литература (кроме лирики) невозможна. Но если взять великие книги XX века, тот тут и вовсе руками разведешь! Вот гений французской литературы Марсель Пруст написал семь томов самого большого в истории человечества романа «В поисках утраченного времени», в которых главное событие – герой пьет чай с печеньем. Реализм в нем разрушается при помощи инструментов реализма. Например, подробно будет описываться процесс капания воды – шесть страниц. Требование правдоподобия доведено до абсурда. И попробуй пересказать все это… Тем более что в XX веке все поняли, что наша внешняя жизнь – то, что мы передвигаемся в пространстве, учимся, работаем, встречаемся с людьми, женимся, рожаем детей, – оказывается совсем не важной. На самом деле основные события жизни нашего истинного, «внутреннего человека» могут произойти, когда мы переходим улицу, когда сидим в одиночестве на даче или когда пьем чай с печеньем, как герой Пруста.
Таким образом, самое не главное и неинтересное в литературе, как ни странно, – это то, что в ней можно пересказать.
Так что, получается, человеку недостаточно обычного языка для передачи информации, нужны еще другие информационные системы, при помощи которых мы общаемся. Почему-то в какое-то время нам нужно послушать именно эту музыку, нам хочется посмотреть именно на эту картину и чтобы именно она или ее копия висела у нас на стене. Мы испытываем желание взять вдруг, если у нас есть привычка к чтению, именно эту книгу. Никто не объяснит, в чем тут причина.
Есть еще множество не названных мной информационных систем. Например, мода: почему вдруг все люди хотят носить одно и то же – то, над чем смеялись вчера и над чем будут смеяться завтра, а сейчас вдруг все захотели одеться именно так?
Или невербальные средства общения, когда мы по позе и жестам человека делаем выводы о его внутреннем состоянии – открыт, доверчив или агрессивен, ждет удара от собеседника. Собеседник, может, пытается разговаривать от сердца к сердцу, а это вызывает у нас недоверие. Мы избегаем его, хотя, если нам не объяснить, что нас, собственно, смущает в этом человеке, по большей части не понимаем почему.
Так что есть множество систем, при помощи которых человек передает информацию и другие люди эту информацию воспринимают.
Особенность исторических законов, действующих в языке
Теперь вопрос: как меняется язык мировой культуры? Мы же видим, культура постоянно развивается. И пещеры каменного века, и живопись Высокого Возрождения, и русский реализм, и современное постмодернистское искусство, и язык китча, и рекламы, и язык нашей повседневности постоянно меняются, разительно отличаются в разные времена в пределах своих систем. Почему все меняется?
Социологическая школа сказала бы, что все меняется оттого, что мы движемся по пути прогресса, все меняется, потому что стремительно эволюционирует и вся мировая цивилизация прогрессивно развивается. Что мы идем от простых форм существования к более сложным. Как смотрит на мировой культурный процесс культурно-историческая школа, с позиций которой мы рассматриваем мировую культуру?
Опять мы возвращаемся к языку в качестве примера. Как развивается язык? Исторические законы, которые меняют язык, носят спонтанный (самозарождающийся) характер. Вот вы изучали английский язык, может, кто-то – французский, немецкий. Обратили внимание, с каким трудом далось постижение того, что в английском, французском, чуточку поменьше – в немецком языке существует несколько прошедших времен? По мере изучения мы входим в логику языка и понимаем, что наличие разветвленной системы прошедших времен совершенно оправданно. На этих языках говорить удобно и приятно, если под рукой есть несколько грамматических форм прошедшего времени. Нам сложно представить, что еще какие-то презренные 1000 лет назад (для мировой культуры ничтожно малая величина) русским людям было необходимо для разговоров о прошлом использовать четыре формы прошедшего времени. Их реликты остались в современном языке. Например, читая сказки, вы начинаете со слов «жили-были». Что такое «жили», понятно, а что такое «были»? «Жили-были» – это давнопрошедшее время, то, что называется «плюсквамперфект». Оно сохранилось в немецком, английском, французском языках. Оно передает события, которые происходили очень давно. И если припомнить с натугой грамматику изучаемого иностранного языка, строится это время в древнерусском языке точно так же, как в английском, немецком и французском, то есть из глагола «быти» в форме имперфекта и второго, «элевого» причастия. То есть глагол «жили» – это причастие, второе причастие (помните – третья форма глагола в английском, немецком, французском), а «были» – это глагол «быть» в форме прошедшего продолженного времени (уцелевший вовсе не без потерь). Сохранился только один обломок от этого древнего грамматического времени в народных сказках, и мы не задумываемся о том, что такое «жили-были», а когда-то это была живая грамматическая категория.
«Я ему – бац, он мне – трах, дзинь, блям…» Как квалифицировать такие слова в науке о языке? А это уцелевшие обломки древнего времени, которое называется «аорист»; оно сохранилось в болгарском языке, в сербохорватском, в лужицких языках. В русском языке в чистом виде оно уцелело в «Сказке о храбром портняжке», который «одним махом семерых побивахом». Одно из назначений этого времени – отражение стремительных событий в прошлом. Вполне понятно, что современные «бах, трах, дзинь, блям» не могут происходить в настоящем, они могут быть только в прошлом, потому что «трах!» – это слишком быстро, это мгновение – и оно уже в прошлом. Это позднее цветение аориста как грамматического времени.
Вовсе утратилось без малейших последствий для нас время «имперфект», отражающее протяженные события в прошлом. Сейчас мы скажем: я нес, я писал; ты нес, ты писал, – используя кусок древнего перфекта – составного прошедшего времени. А раньше сказали бы «аз несях, писах»; «ты несяше, писаше». Это протяженное время в прошлом, имперфект.
И наконец, последняя форма прошедшего времени, та, которая уцелела сейчас. Посмотрите, это время строится так же, как в английском языке: оно состоит из глагола бытия в настоящем времени (презенте) и второго причастия. «Благодарю тебя, Святая Троице (падеж, который сейчас утратился), яко не прогневался еси на мя, лениваго и грешнаго…» и т. д. Что значит «не прогневался еси»? «Аз – есмь, ты – еси, он – есть» – это спряжение глагола «быти» в настоящем времени. То есть «ты еси прогневался». «Ты», затем глагол бытия в настоящем времени и второе причастие. Потом этот глагол бытия в настоящем времени перестали проговаривать вслух, его у нас не озвучивают. Осталось только вот это второе причастие, которое мы и называем прошедшим временем, а на самом деле это перфект, такой же, как перфект в романо-германских языках. Четыре формы прошедшего времени в языке были естественны для русского народа.
Почему поменялся русский язык? Почему русскому народу прежде нужно было четыре времени, а осталось одно? Мы нуждались прежде в разветвленной системе прошедших времен, но при этом мы прекрасно обходились без будущего времени. А зачем оно нужно, если вдуматься, это будущее время? Посмотрите-ка на фразу: «Завтра я в кино». Вы поняли, что завтра? Поняли. Но я не употребил будущего времени – «я иду в кино», но завтра. То есть я могу говорить о будущем без использования категории будущего времени. Зачем мне тогда категория будущего времени? Современный эстонский язык без нее обходится; в эстонском языке, как ни покажется странным, нет будущего. Почему-то наш безграмотный народ, народ, который еще не освоил письменность, появившуюся у славян только в IX веке, взял и придумал такую сложную вещь, как грамматическое будущее время.
А вот еще из загадок языка. Вот мы видим: один стол, два стола… три, четыре стола… Пять и более – столов. Почему? Почему у нас два, три, четыре – стола, а все, что больше, – столов? В школе говорят, что мы используем при числительных «два», «три», «четыре» родительный падеж. Почему? Школьный учебник не объясняет. Мы не можем представить, что совсем недавно нам нужно было три формы числа. Что за вздор? Есть один предмет, есть много предметов. А было три: один предмет, пара предметов… Пара – это не обязательно два, пара – это два, три, четыре, то есть несколько предметов, а дальше начинается уже много предметов. Существовало так называемое двойственное число, воспоминание о котором осталось у нас при употреблении числительных «два», «три», «четыре». Остались «намеки» на это двойственное число, которое почти совершенно утратилось. Что-то, однако, осталось. Ну вот, посмотрите: «Одно око, два ока, многие очеса». «Одно ухо, два уха, многие ушеса». Уцелело какое число? Двойственное. Потому что ухо чаще встречается парами. Когда мы употребляем в речи «мои уши, твои уши», то, поскольку у человека, как правило, не более двух ушей, в таком случае мы используем двойственное число. А вот, посмотрите: одно небо, двух «неб» не бывает, но есть очень много неба, стало быть, небеса – это множественное число от «неба». А вот, например, взгляните, у Афанасия Фета романс «На заре ты ее не буди», музыка Варламова: «И чернеясь, бегут на плеча косы-ленты с обеих сторон». Почему «на плеча»? Потому что, вообще-то говоря, двойственное – это «плечи», но понятно, что у героини этого стихотворения было очень много плеч. Это были «плеча», то есть это множественное число вместо двойственного, иными словами, это большие, богатые, красивые, прекрасные плечи. Или, например, «одно коло, два кола, многие колеса». Посмотрите-ка, ведь по русской-то литературе вы ездили на двуколке, а не на «двухколеске»? Почему «двуколка»? Потому что одно – «коло». А что такое «дву»? И что такое «двою» – «двоюродный»? «Двунадесятые праздники» в церкви? Это числительное «два», да еще и в форме двойственного числа. Потому что «два» могло быть и в форме единственного числа. Непонятно? А такие парадоксы есть и в современном языке. Ведь вас не удивляет числительное «один», которое может употребляться в форме множественного числа – «мы одни». Хотя смысл слова «одни» уже подразумевает, что «не одни». Вас не поражает эта удивительная логика, что числительное «один» может существовать во множественном числе? Точно так же числительное «два» могло существовать в двойственном.
Мы сейчас обходимся тремя склонениями, было – шесть. Почему-то у Крылова Мартышка с очками – «то к темю их прижмет, то их на хвост нанижет», к «темю», а не к темени. И у Лермонтова слово рождается «из пламя и света», а не из пламени. Что это? Обломки древних склонений. Причудливые какие-то слова типа «мать» и «дочь», у которых появляется суффикс – ер, – матери, дочери; откуда он взялся, непонятно неспециалисту. То есть все это на самом деле исторические обломки, так называемые реликты языка. Язык меняется, но почему – гадательно.
Фонетика – то, что наиболее динамично меняется в языке. XVI век. Весь русский народ вдруг возжаждал после мягкого согласного перед твердым под ударением на месте звука «э» говорить «о». То есть, проще говоря, это называется переход «е» в «ё». С какой стати нашему русскому народу захотелось вдруг так перекривлять свой язык? Что на него повлияло и почему ему было не говорить, как прежде, «е» на этом месте? Были ведь «береза», «мед», «лед», стало – «берёза», «мёд», «лёд». И почему вдруг русский народ к концу XVI века расхотел дальше говорить «ё» на месте «е»? И все слова, которые не успели перейти из «е» в «ё», так и остались с «е», и мы говорим «современный», а не «совремённый». Опять-таки, иностранцы сходят с ума: никакого правила произношения «е» или «ё» наша орфография не дает. Шесть раз Академия наук пыталась ввести букву «ё» – она не приживается, ее нет в нашей азбуке. Сейчас, вы заметили сами, русский народ иногда, когда доходит до этого сочетания – «е» после мягкого перед твердым под ударением, – начинает вдруг говорить «ё». Спортивные комментаторы любят ввернуть словцо: «атлёт», а не «атлет», потому что соблюдается эта позиция. «Совремённый» – типичная ошибка. Или вот еще ошибка, которая всем ошибкам ошибка. Она стала настолько распространенной, что никто даже не обращает на нее внимания. Есть такое французское слово – afaire – «дело». После мягкого перед твердым под ударением, конечно, обратилось в «афёру». Это вообще чужое слово, оно не подчиняется нашим языковым законам.
Так что вот такие удивительные вещи происходят с нашим великим, могучим, правдивым, ну и, разумеется, свободным языком. И объяснить их не представляется возможным. Существует множество гипотез. Если бы вы говорили со специалистом, то он бы вам указал на различные концепции и школы толкования исторических законов, но, в общем-то, основные законы, действующие в языке, носят спонтанный характер, то есть они произвольно зарождаются, начинают действовать, а потом почему-то вдруг прекращают свое действие.
Исторические законы, действующие в иных информационных системах
Теперь, если мы изначально приняли положение, что существует несколько информационных систем для передачи мысли, мы можем с вами перенести выводы: если в языке действуют спонтанные законы и меняют его, стало быть, и в других информационных системах, вероятно, действуют спонтанные законы, которые их меняют. Спонтанно меняются язык живописи, язык архитектуры, язык музыки…
Когда вдруг меняется сознание масс, меняется одновременно язык всех информационных систем, меняется язык культуры в целом. Законы, действующие в информационных системах, носят глобальный характер. Вступает в действие какой-то закон, который мы большей частью не можем объяснить, но мы можем видеть – вступил в действие новый закон в мировой культуре, который одновременно влияет на литературу, музыку, моду, науку, язык повседневного общения, культуру быта – влияет на все. Каким образом? Как он вступает в действие? И мы можем обнаружить параллельные изменения в разных информационных системах, изменения во всех сферах коллективной деятельности человечества начинаются одновременно.
Далее мы возьмем как материал для исследования два века из истории Европы. Те два века, которые мы лучше всего знаем: XIX век – он кажется нам романтичным (вам бы очень не понравилось жить в ту пору) – и XX век, в котором мы жили с вами совсем еще недавно и знаем его еще лучше, чем XIX. Мы увидим, как внезапно и повсеместно произошел грандиозный поворот в сознании масс на рубеже XIX–XX веков, как вступил в действие новый исторический закон, который мы не можем сформулировать, но последствия которого наблюдаем на всех срезах общественного сознания.
Лекция II
Сопоставление культурного языка Европы XIX и XX веков
Теперь давайте посмотрим, какая идея владеет сознанием всего позапрошлого столетия. В основе любой философской или научной доктрины XIX века лежит идея об эволюционном развитии. XIX веку это кажется самоочевидным. Когда мы говорим слово «эволюция», конечно, перед нашими духовными очима сразу портрет кого? Чарльза Дарвина, естественно, который еще от своего дедушки Эразма унаследовал мысль о том, что, вероятно, человек произошел от обезьяны. Но не в обезьяне дело! А в самой идее эволюционного развития. Посмотрите-ка: Природа размышляет, как строить Мироздание. У нее в руках кремний и углерод – они очень похожи по своим свойствам и качествам. Некоторое время Природа находится в состоянии раздумий, какой из них предпочесть в качестве основного строительного материала. Выбирает углерод, и вот начинается строительство Мира. Появляется неорганическая материя. Но вслед за тем углерод с водородом дают соединения, из которых образуется другая материя – органическая, из этой более сложно организованной материи спонтанно, то есть сама собой, появляется первая клетка. Нарождается целый тип живых организмов – простейшие (Protozoa), они начинают размножаться и видоизменяться, но этим не заканчивается эволюция. Простейшие начинают мутировать, появляются первые многоклеточные организмы – новый тип жизни на земле – губки (Porifera), живые существа более высокого уровня развития, чем простейшие. И дальше мы видим, как развитие жизни на Земле продолжается в эволюционном порядке: как появляются кишечнополостные, низшие черви, моллюски, членистые, плеченогие, щетинкочелюстные, погонофоры, полухордовые, иглокожие, хордовые. И вот эти хордовые начинают пресмыкаться в воде и околоводном пространстве, вот какое-то из них встает на четыре опорные точки, а затем поднимается на две опоры и своей конечностью, которая уже слегка отличается от ноги, поднимает первое орудие труда. В этом орудии труда все заключено – это и топор, и молоток, и орудие убийства, и будущие деньги, то есть все функции предмета заложены в этом праорудии труда. Но на этом-то эволюция не заканчивается. Человеческое существо движется дальше по истории Европы. У него укорачивается кишечник, потому что не нужно употреблять жесткую пищу, уменьшается аппендикс, не у всех уже вырастают зубы мудрости, потому что не нужно грызть кости, наблюдается редукция, то есть выпадение, волос. Так что мы видим – эволюция продолжается. И мы видим, естественно, что в природе заложено стремление к развитию, ко все более сложно организованным, качественно лучшим формам. Для Дарвина это самоочевидно, как и для всего его века.
Центральное имя в экономике XIX века – Карл Маркс. О чем пишет Маркс? Первоначально было человеческое стадо, в котором зарождаются родоплеменные отношения. Из них закономерно вырастают отношения рабовладельческие, более высокие по отношению к родоплеменным. Затем феодализм, более высокий по отношению к рабовладению. Затем – капитализм, империализм как высшая стадия капитализма, предполагаемые фазы – социализм и коммунизм. То есть что получается? Так же как у Дарвина, у Маркса в основе его системы лежит общая для XIX столетия идея – идея эволюционного развития.
Иная сфера человеческого знания – историческая наука. Самая сильная историографическая школа складывается во Франции. Центральное имя – Жюль Мишле. Мишле в многотомной «Истории Французской революции» (публиковалась с 1847 года) пишет, что Французская революция могла произойти не в 1789-м, но обязательно произошла бы, потому что к этому ее подталкивала вся история французского народа. Революция была необходима, потому что она переводила французский народ на следующую, более высокую ступень его развития. То есть Мишле отстаивает идею: революции объективно необходимы, потому что они направляют общество по пути прогресса и с каждой революцией общество поднимается на более высокую ступень развития. То есть Мишле, который терпеть не может Карла Маркса, Мишле, христианин, который не может терпеть Дарвина, пишет о том же самом, для него самоочевидна идея прогрессивного развития.
Литература. Главное имя в литературе – это Бальзак. Он написал огромную книгу в 106 томах о жадности («Человеческая комедия»), главный герой этой книги – деньги. И вот Бальзак показывает, как меняется французское общество с 1816 по 1848 год. Мы от тома к тому видим, как общество поднимается на новую ступень развития, как при этом утрачиваются старые формы общественных отношений и приобретаются новые. Бальзак пишет о том же самом, что и другие современные ему мыслители. Общество развивается прогрессивно и эволюционно.
Музыка. Как идея прогресса может проявиться, например, в музыке? Смотрите. Был такой французский писатель Стендаль, он вам известен романом «Красное и черное». Он отвратительно играл на скрипке и еще хуже на кларнете. Слуха у него не было, но музыку он очень любил и стал одним из основоположников современной музыкальной критики. Так вот, Стендаль пишет в дневниковых записях, которые потом стали книжкой, что современную итальянскую музыку можно слушать не более двух лет, потом она устаревает. Что такое современная итальянская музыка для Стендаля? Это Паганини, Беллини. Для нас это священные чудовища истории музыки, устареть они не могут. Можно их не слушать, но говорить о них непочтительно нельзя. Вам, наверное, нравится такой композитор немецкого барокко – Себастьян Бах? У него есть произведения, которые, на наш слух, совершенно не устарели. В XIX веке Бах – прочно забытый композитор, предмет общественных насмешек. Немецкий поэт Генрих Гейне говорил: «Те, кто отрицают современную итальянскую музыку, на том свете будут обречены веки вечные слушать фуги Себастьяна Баха». В 1829 году известный исполнитель-виртуоз, композитор и дирижер Феликс Мендельсон устраивает концерт – были даны «Страсти по Матфею» Себастьяна Баха. Все собираются на этот концерт, но не затем, чтобы слушать Баха, а чтобы посмотреть, зачем Мендельсон это сделал, что кроется за этой шуткой гения? Зачем гениальный Мендельсон будет играть старого Баха? Любители Мендельсона пошли на концерт, чтобы посмотреть, как любимый исполнитель будет изворачиваться в сложной ситуации. Пришли и вышли ошеломленные. Выяснилось, что в истории музыки был еще один гениальный композитор. С этого момента к Баху возвращается его слава, хотя о нем прочно позабыли почти на 100 лет. Но это уже в виду XX века.
Вот русский композитор Балакирев пишет письмо нотоиздателю Юргенсону о переиздании собрания сочинений Михаила Глинки. Глинка, опять-таки, не самый популярный композитор в наше время, но мы знаем – великий. Нас научили этому. Балакирев мог бы тоже быть великим русским композитором, но распорядился своей жизнью иначе. И вот Балакирев пишет: надо переиздать то-то, то-то и то-то, все прочее – устаревший хлам. Это он пишет про своего учителя, про великого русского композитора Глинку. Для Балакирева однозначно, что все это хлам, потому что устарело.
Австрийский композитор, глава Новой венской школы, Арнольд Шёнберг создает принципиально новую концепцию музыки ровно в последний год XIX века, но говорит он о ней словами прежней эпохи. Он говорит: «Моя музыка продвинула музыкальную культуру Германии вперед на сто лет». Попытаемся эту фразу перевести на язык современности: «Моя музыка такая хорошая, что сто лет ее будут слушать как новую». Новая, стало быть, хорошая. Мы согласимся, наверное, что Петр Чайковский более интересный, сильный композитор, чем Антон Рубинштейн, например. (Чайковский действительно «лучше», чем Рубинштейн, говоря обиходным языком.) Но нам никогда в голову не придет дать такое обоснование нашему мнению: Чайковский лучше, чем Рубинштейн, потому что Чайковский новее. Так что, посмотрите, как ни странно, даже музыка и та в XIX веке воспринимается в категориях «новое – хорошо, прошлое – плохо». Старое – простое, новое – сложное, стало быть, качественно лучшее. Общая для европейского сознания идея прогресса проявляется и в музыке, и в музыкальной критике.
И наконец, последнее, о чем я говорю, – о политике. Центральное событие в XIX веке, с которого, по сути, начинается его политическая история, – это финал наполеоновских войн. Посмотрите, о наполеоновских войнах говорят как о событиях, имеющих прогрессивный характер. Наполеоновские войны переводят Европу на качественно новый уровень общественных отношений, это новая концепция науки, искусства, просвещения, гражданского, уголовного права – все политическое устройство Европы меняется благодаря Наполеону. И это было прекрасно. Наполеоновские войны были необходимы, потому что они продвигали общество по пути прогресса.
Я обращаю ваше внимание на то, что я именно о политике заговорил в самую последнюю очередь. Если бы мы принадлежали к социологической школе, мы бы начали с того, как Великая французская революция 1789–1794 годов и наполеоновские войны определили развитие XIX века, революция 1830-го дальше определяет, 1848-го – еще дальше… Мы бы пошли по традиционной схеме и увидели, как изменения в общественной жизни повлияли на искусство и литературу. А мы смотрим с другой позиции: мы видим – вступил в действие какой-то всеобъемлющий закон, который в разных, не связанных между собой информационных системах нашел одно и то же проявление того же самого закона и той же самой идеи.