Пески времени бесплатное чтение
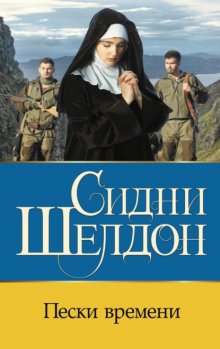
Серия «Бестселлеры Сидни Шелдона»
Sidney Sheldon
THE SANDS OF TIME
Перевод с английского Е. А. Ильиной
Серийное оформление и компьютерный дизайн А. И. Орловой
Печатается с разрешения Sidney Sheldon Family Limited Partnership.
© Sidney Sheldon Family Limited Partnership, 1988
© Перевод. Е. А. Ильина, 2022
© Издание на русском языке AST Publishers, 2023
Фрэнсис Гордон с любовью
Мертвым не нужно воскресать. Они теперь часть земли, а землю нельзя завоевать, ибо она будет существовать вечно и переживет любого тирана. Те, кто ушел в нее с честью – а ни один человек не ушел в нее с большей честью, чем те, кто умер в Испании, – уже обрели бессмертие.
Хемингуэй Э.
Глава 1
Памплона, Испания, 1976 г.
«Если план провалится, мы все умрем». Он в последний раз мысленно прошелся по всем пунктам в попытке проанализировать, обдумать и обнаружить слабые места, но не нашел ни одного. План был дерзкий, требовал предельного внимания и выверенности до секунды. Если все получится, победа будет поистине впечатляющей, достойной великого Эль Сида[1].
В противном случае…
«Впрочем, поздно терзаться сомнениями, – философски решил Хайме Миро. – Пришло время действовать». Шести футов ростом, с решительным умным лицом, мускулистой фигурой и задумчивыми темными глазами, Хайме Миро слыл легендой, был героем для басков и анафемой для испанского правительства. Те, кто с ним сталкивался, были склонны преувеличивать его рост, смуглость кожи и жестокость. Он был сложным человеком, реалистом, понимал, сколь невелики его шансы на победу, и романтиком, готовым умереть за то, во что верил.
В Памплоне царило небывалое оживление. Город словно сошел с ума. Наступило последнее утро забега быков, так называемой фиесты Сан-Фермин – ежегодного праздника, проводимого обычно с 7 по 14 июля. Тридцать тысяч туристов со всего мира наводнили город. Одни приехали просто посмотреть на устрашающее зрелище бегущих по узким улочкам Памплоны быков, другие же вознамерились принять участие в действе и доказать собственную храбрость, попытавшись убежать от разъяренных животных. Все номера в гостиницах были забронированы задолго до празднества, поэтому студентам из университета Наварры приходилось располагаться на ночлег на ступенях домов, в вестибюлях банков, автомобилях, на площадях и улицах города.
Туристы заполонили кафе и гостиницы, чтобы увидеть шумные красочные шествия огромных фигур из папье-маше и послушать выступления уличных оркестров. Облачение участников парада состояло из фиолетовых накидок с капюшонами зеленого, гранатового или золотистого цветов. Процессии растекались по улицам подобно радужным рекам. Взрывавшиеся на столбах и проводах трамвайных путей петарды лишь добавляли шума и неразберихи.
Толпы людей собрались для того, чтобы поприсутствовать на вечерних боях быков, но самым зрелищным действом оставалось энсьерро – утренний забег быков, коим предстояло участвовать в боях вечером. Накануне за десять минут до полуночи на темных улицах в нижней части города появились быки. Их выпустили из загонов, чтобы переправить по мосту через реку в другой загон в конце улицы Санто-Доминго, где они должны были провести ночь. Поутру они вновь обретут свободу, чтобы пуститься по узкой Санто-Доминго, огороженной на каждом углу деревянными заборами. Пробежав по улице, они окажутся в загоне на площади Хемингуэя, где и останутся до начала вечерних боев.
Слишком возбужденные, чтобы заснуть, наводнившие город туристы пили вино, распевали песни и занимались любовью. Так продолжалось с полуночи и до шести часов утра. На шеях участников забега красовались алые шарфы с изображением святого Фермина. Утром, без четверти шесть, по улицам двинулись оркестры, исполняющие волнующую душу музыку Наварры. Ровно в семь часов утра в воздух взмыла сигнальная ракета, возвестившая о том, что ворота загона открыты. Толпы зрителей замерли в лихорадочном предвкушении. Спустя мгновение небо осветила вторая ракета. На сей раз она предупреждала город о том, что быки начали свой забег.
Последовавшее за этим зрелище было поистине незабываемым. Сначала послышался звук. Тихий, едва различимый, напоминавший отдаленный шум ветра, он становился все громче и, наконец, взорвался грохотом копыт внезапно возникших перед взорами зрителей шести волов и шести огромных быков. Весом в пятнадцать сотен фунтов каждый, они неслись по улице Санто-Доминго подобно смертоносному поезду. За деревянными барьерами, что перекрывали примыкавшие к Санто-Доминго улочки и переулки, толпились сотни взволнованных, дрожащих от нетерпения молодых людей, вознамерившихся продемонстрировать собственную храбрость, оказавшись на пути у рассвирепевших животных.
Быки неслись с дальнего конца улицы мимо Эстафеты и Де Хавьер, мимо аптек, закрытых магазинов и фруктовых рынков к площади Хемингуэя, сопровождаемыми криками «оле!» ошалевшей от возбуждения толпы. Едва быки приближались, зрители в отчаянии пытались спастись от острых рогов и смертоносных копыт. Внезапное осознание приближающейся смерти заставляло участников забега искать спасения в подъездах домов и на пожарных лестницах. Их сопровождали насмешливые возгласы «Cobardon!»[2]. Тех, кто спотыкался и падал на пути у быков, быстро оттаскивали в сторону.
Маленький мальчик и его дедушка стояли за ограждением, затаив дыхание от волнения при виде разворачивавшегося в паре футов от них действа.
– Ты только погляди! – воскликнул старик. – Magnifico![3]
Мальчик вздрогнул.
– Tengo miedo, Abuelo[4].
Старик обнял мальчика за плечи:
– Si, Manolo. Выглядит пугающе. Но в то же время великолепно. Однажды я тоже принимал участие в забеге. Ничто с этим не сравнится. Ты встречаешься лицом к лицу со смертью и чувствуешь себя настоящим мужчиной.
Как правило, животным требовалось всего две минуты, чтобы преодолеть девять сотен ярдов улицы Санто-Доминго и оказаться в загоне на арене. Как только ворота загона закрывались за ними, в небо взмывала третья ракета. Однако в тот день этому не суждено было случиться, поскольку произошло нечто такое, с чем Памплона не сталкивалась ни разу за всю четырехсотлетнюю историю забега быков.
Когда быки неслись по узкой улице, полдюжины мужчин, разодетых в яркие праздничные костюмы, отодвинули деревянные ограждения, и быки, свернув с отведенной для забега Санто-Доминго, вырвались на свободу и ринулись в центр города. В мгновение ока веселый праздник обернулся кошмаром. Разъяренные животные врезались в толпу ошеломленных зрителей. Мальчик и его дедушка нашли смерть одними из первых, сбитые с ног и растоптанные быками. Смертоносные рога вонзились в детскую коляску, убив младенца и сбив с ног его мать, которая тут же была раздавлена. Повсюду в воздухе витала смерть. Животные набрасывались на беспомощных зрителей, валили на землю женщин и детей, пронзали своими жуткими длинными рогами прохожих, сметали лотки с продуктами, статуи, всех и вся, кто, на беду, оказался у них на пути. Кричавшие от ужаса люди в отчаянии пытались спастись от несших смерть чудовищ.
Внезапно на пути быков возник ярко-красный грузовик, и они, повернув к нему, понеслись вниз по улице Де Эстрелла, что вела к городской тюрьме Памплоны.
Тюрьма представляла собой мрачное двухэтажное здание из камня с толстыми решетками на окнах. На каждом из четырех его углов возвышались башенки, а над дверью развевался красно-желтый испанский флаг. Каменные ворота вели в небольшой дворик. На втором этаже здания располагались камеры, в которых содержались приговоренные к смертной казни заключенные. Здоровенный охранник в форме полиции, вооруженный автоматом, вел по коридору второго этажа священника, облаченного в простую черную сутану.
Заметив вопрос в глазах священника, бросившего взгляд на автомат, охранник пояснил:
– Осторожность никогда не помешает, падре. Ведь на этом этаже сидят самые отъявленные подонки.
С этими словами охранник указал священнику на металлоискатель вроде тех, что устанавливают в аэропортах.
– Мне жаль, падре, но таков уж порядок…
– Конечно, сын мой.
Когда священник прошел через рамку, тишину коридора прорезал визг сирены. Охранник инстинктивно сжал приклад автомата, но священник, обернувшись к нему, улыбнулся и произнес, снимая с шеи тяжелый металлический крест на серебряной цепочке:
– Моя оплошность.
Во второй раз рамка не издала ни звука. Охранник вернул крест священнику, и вместе они продолжили путь в недра городской тюрьмы. В разделявшем камеры коридоре стояла невыносимая вонь.
– По мне, вы лишь зря теряете здесь время, падре, – философски протянул охранник. – У этих животных нет души, которую можно было бы спасти.
– И все же мы должны попытаться, сын мой.
Охранник покачал головой:
– Говорю вам: врата ада уже давно распахнуты для обоих.
Священник с удивлением посмотрел на охранника:
– Для обоих? Мне сказали, исповедаться желают трое.
Охранник пожал плечами:
– Мы сэкономили вам немного времени. Самора умер сегодня утром в изоляторе. Сердечный приступ.
Мужчины подошли к двум самым дальним камерам.
– Пришли, падре.
Охранник отпер дверь и осторожно отошел в сторону, когда священник вошел внутрь. Заперев за ним камеру, он остался в коридоре, готовый мгновенно прийти на помощь. Священник подошел к человеку, лежавшему на грязной тюремной койке.
– Как тебя зовут, сын мой?
– Рикардо Мельядо.
Священник посмотрел на заключенного, но понять, как он выглядел, было невозможно. Его покрытое кровоточащими ранами лицо настолько распухло, что глаза почти закрылись. С трудом разлепив разбитые губы, несчастный произнес:
– Я рад, что вы смогли прийти, падре.
– Церковь считает своим долгом спасение твоей души, сын мой.
– Сегодня утром меня повесят?
Священник мягко похлопал заключенного по плечу:
– Тебя приговорили к казни гарротой[5].
Рикардо Мельядо вскинул голову:
– Нет!
– Мне жаль. Приказ отдан самим премьер-министром.
После этого священник положил руку на голову заключенного и произнес нараспев:
– Dime tus pecados…[6]
– Я много грешил в мыслях и деяниях и теперь всем сердцем раскаиваюсь в этом, – ответил Рикардо Мельядо.
– Ruego a nuestro Padre celestial par la salvation de tu alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo…[7]
Прислушивавшийся к происходящему в камере охранник думал про себя: «Что за неразумная трата времени. Господу на него плевать».
Священник закончил исповедь:
– Adios[8], сын мой. Да приимет Господь твою душу с миром.
Священник подошел к двери, охранник отпер ее, направив дуло автомата на заключенного и выпустив священника в коридор. Вновь заперев дверь на ключ, охранник подошел к следующей камере и открыл ее.
– Он ваш, падре.
Священник переступил порог. Находившийся в камере заключенный тоже подвергался избиениям. Священник с минуту смотрел на него.
– Как тебя зовут, сын мой?
– Феликс Карпио.
Заключенный оказался крепким мужчиной со свежим синевато-багровым шрамом на лице, который не могла скрыть даже густая борода.
– Я не боюсь смерти, падре.
– Это хорошо, сын мой. Ибо никого из нас она не обойдет стороной.
Пока священник выслушивал исповедь Карпио, до слуха находящихся в здании донесся какой-то шум. Приглушенный вначале, он становился все громче и отчетливее. Вскоре можно было различить грохот копыт и испуганные крики. Охранник прислушался, на его лице отразилось беспокойство.
– Вам лучше поторопиться, падре. На улице происходит что-то странное.
– Я закончил.
Охранник быстро отпер дверь камеры, а когда священник вышел в коридор, повернул ключ в замке. В этот самый момент снаружи у главного входа в здание раздался страшный грохот.
– Что это за шум, черт возьми? – спросил страж, посмотрев в узкое зарешеченное окно.
– Похоже, кто-то просит у нас аудиенции, – ответил священник. – Могу я позаимствовать у вас это?
– Что именно?
– Ваше оружие, por favor[9].
С этими словами священник почти вплотную подошел к охраннику, бесшумно отделил верхнюю часть массивного креста, висевшего на шее, обнажив длинное обоюдоострое лезвие спрятанного в нем стилета, и молниеносным движением вонзил его в грудь стража.
– Видишь ли, сын мой, Господь и я решили, что оружие тебе больше не понадобится. In Nomine Pater[10], – набожно перекрестившись, произнес Хайме Миро, забирая автомат из рук умирающего.
Охранник рухнул на цементный пол. Забрав у него ключи, Хайме Миро быстро отпер двери обеих камер и скомандовал:
– Пошевеливайтесь!
Шум на улице становился все громче.
Рикардо Мельядо забрал у него автомат и попытался растянуть в улыбке распухшие губы.
– Из тебя получился чертовски хороший священник, даже я почти поверил.
– Изрядно они вас отделали. Но ничего: они за это заплатят.
Обхватив товарищей за плечи, Хайме помог им дойти до конца коридора.
– Что случилось с Саморой?
– Охранники забили его до смерти. Мы слышали его крики. Они увели его в изолятор, а потом сказали, что он умер от сердечного приступа.
Впереди показалась запертая железная дверь.
– Подождите здесь.
Он подошел к двери и обратился к стоявшему за ней охраннику:
– Я закончил.
Дверь открылась.
– Вам лучше поспешить, падре. На улице, похоже, беспорядки…
Однако фразу закончить ему было не суждено: изо рта охранника хлынула кровь, когда в грудь ему вонзился стилет.
Хайме махнул заключенным.
– За мной.
Феликс Карпио забрал оружие охранника, и все вместе они начали спускаться по лестнице. За стенами тюрьмы царил настоящий хаос. Вокруг носились полицейские, пытаясь понять, что происходит, и разобраться с вопившей от ужаса толпой, ринувшейся на тюремный двор в поисках спасения от обезумевших животных. Один из быков бросился к зданию, разгромив каменный вход, второй терзал тело упавшего на землю охранника.
Во дворе стоял красный грузовик с работающим мотором. Из-за царившей вокруг суматохи бывшие заключенные прошли через двор практически незамеченными, а те, кто все же обратил на них внимание, были слишком заняты спасением собственной жизни, чтобы что-то предпринять. Не говоря ни слова, Хайме и его товарищи запрыгнули в грузовик, и тот рванул с места и понесся по улицам, распугивая толпы народа.
Представители гражданской гвардии – военизированного полицейского формирования – облаченные в зеленую униформу и шляпы из лакированной черной кожи, тщетно пытались утихомирить обезумевшую толпу[11]. Вооруженная полиция, осуществлявшая охрану правопорядка в столицах провинций, тоже оказалась беспомощной перед лицом царившего в городе безумия. Люди метались по сторонам в отчаянной попытке спрятаться от разъяренных быков, хотя опасность исходила не столько от быков, сколько от них же самих. Ведь в своем стремлении спастись люди давили и затаптывали своих товарищей по несчастью. Старики и женщины падали, оказываясь под ногами толпы.
Хайме, в страхе глядя на разворачивавшееся перед его глазами ужасающее действо, воскликнул:
– Мы не предполагали, что все обернется подобным образом!
Он беспомощно взирал на эту бойню, но ничего не мог предпринять, чтобы ее остановить, поэтому просто закрыл глаза, ограждая себя таким образом от этого ужаса.
Грузовик добрался до окраины Памплоны и направился на юг, оставив позади шум и смятение.
– Куда мы едем, Хайме? – поинтересовался Рикардо Мельядо.
– Близ Торре есть безопасное место. Дождемся темноты и двинемся дальше.
Феликс Карпио поморщился от боли. Хайме Миро посмотрел на него с сочувствием и тихо произнес:
– Скоро приедем, дружище.
Миро никак не мог выбросить из головы жуткую картину, увиденную в Памплоне. Через полчаса грузовик добрался до деревушки Торре и обогнул ее, чтобы добраться до уединенного жилища в возвышавшихся над деревней горах. Хайме помог своим товарищам выбраться из грузовика.
– Вас заберут в полночь, – сказал водитель.
– Пусть захватят врача, – велел Хайме. – И избавься от этого грузовика.
Втроем они вошли в дом. Он оказался небольшим и уютным, с камином в гостиной и балочными перекрытиями под потолком. На столе лежала записка. Хайме улыбнулся, прочитав единственную фразу, от которой веяло гостеприимством: «Mi casa es su casa»[12]. В баре стояло несколько бутылок вина. Хайме наполнил стаканы.
– Не знаю, как тебя благодарить, друг мой. За тебя, – произнес Рикардо Мельядо.
Хайме поднял свой стакан:
– За свободу.
Внезапно в клетке защебетала канарейка. Подойдя к ней, Хайме с минуту наблюдал, как она отчаянно бьет крыльями, потом открыл дверцу, осторожно вынул птичку из клетки и отнес к распахнутому окну, тихо сказав:
– Лети, pajarito[13]. Все живые существа должны быть свободными.
Глава 2
Мадрид
Премьер-министр Леопольдо Мартинес пребывал в ярости. Невысокого роста, в очках, он трясся всем телом, когда говорил, а сейчас визгливо кричал:
– Хайме Миро необходимо остановить! Вам понятно?
Он гневно обвел взглядом с полдюжины советников, собравшихся в его кабинете:
– Вся армия и полиция не в состоянии разыскать одного-единственного террориста!
Совещание проходило во дворце Монклоа – резиденции премьер-министра, расположенной в пяти ярдах от центра Мадрида, на Картера-де-Галисия – шоссе без единого опознавательного знака. Дворец представлял собой кирпичное здание с коваными железными балконами, зелеными жалюзи и сторожевыми башнями на каждом из углов.
День выдался сухим и жарким, и из окон, на сколько хватало глаз, можно было видеть волны горячего воздуха, поднимавшиеся от земли подобно батальонам призрачных солдат.
– Вчера Миро превратил Памплону в поле битвы. – Мартинес ударил кулаком по столу. – Он убил двух тюремных охранников и помог сбежать из тюрьмы двум террористам. Множество ни в чем не повинных людей погибло под копытами выпущенных им быков.
В кабинете воцарилось молчание. Еще при вступлении в должность премьер-министр самодовольно заявил: «Первым делом я собираюсь покончить с этими сепаратистскими группировками. Мадрид станет центром объединения андалузцев, басков, каталонцев и галисийцев и превратит их в испанцев». Его оптимизм мало кто разделял. Тех, кто сражался за независимость басков, подобное положение дел не устраивало, поэтому взрывы бомб, ограбления банков и массовые демонстрации, организованные террористами ЭТА[14], не прекращались.
Человек, сидевший справа от Мартинеса, тихо произнес:
– Я его найду.
Слова принадлежали полковнику Рамону Аконье – главе ГСО, Группы специальных операций, созданной для борьбы с баскскими террористами. Этому великану с уродливым шрамом на лице и холодными глазами цвета обсидиана перевалило за шестьдесят. Он начал свою карьеру офицера во время гражданской войны под командованием Франсиско Франко и до сих пор был фанатично предан его философии: «Мы ответственны лишь перед Богом и историей».
Блестящий офицер, Аконья был одним из помощников Франко и пользовался его безграничным доверием. Полковник скучал по железной дисциплине и незамедлительному наказанию тех, кто ставил под вопрос приказы начальства и нарушал закон. Ему довелось пережить неразбериху гражданской войны, во время которой националистический альянс монархистов, мятежных генералов, землевладельцев, церковной верхушки и фашиствующих фалангистов воевал с силами республиканского правительства, включающими в себя социалистов, коммунистов, либералов, баскских и каталонских сепаратистов. То было страшное время разрушений и убийств, безумие с привлечением людей и военного потенциала дюжины стран, повлекшее за собой ужасающие человеческие потери. И вот теперь баски вновь взялись за оружие и убивают. Группа Аконьи действовала эффективно и безжалостно, его люди работали под прикрытием, всегда в масках, никогда не фотографировались и не раскрывали свою личность, дабы избежать мести.
«Если кто-то и может остановить Хайме Миро, то только полковник Аконья, – думал премьер-министр. – Только вот кто остановит полковника Аконью?»
Вообще-то премьер-министр не собирался поручать полковнику руководство операцией, но среди ночи ему позвонили, и он сразу узнал голос.
– Мы крайне обеспокоены деятельностью Хайме Миро и его террористов. Предлагаем вам поставить во главе ГСО полковника Аконью. Это ясно?
– Да, сеньор. Я немедленно займусь этим.
На другом конце повесили трубку.
Голос принадлежал члену ОПУС МУНДО – тайной организации, включающей в себя банкиров, адвокатов, глав крупных корпораций и министров. Поговаривали, что эта организация располагала огромными денежными средствами, но откуда они поступали и на что расходовались, оставалось загадкой. Было небезопасно задавать слишком много вопросов.
Как и было приказано, премьер-министр поставил полковника Аконью во главе оперативной группы, но этот громила оказался ярым фанатиком, не поддающимся контролю. Его ГСО установила диктатуру террора. Премьер-министр вспомнил о баскских мятежниках, схваченных людьми Аконьи близ Памплоны. Их осудили и приговорили к повешению. Именно полковник Аконья настоял на том, чтобы они были казнены варварским способом: с помощью гарроты – металлической петли со штырем, которую постепенно затягивали, ломая позвоночник и разрывая спинной мозг.
Поимка Хайме Миро стала навязчивой идеей полковника, и он заявил: «Мне нужна его голова. Отрежьте ему голову, и движение басков умрет».
По мнению премьер-министра, это было преувеличением, хотя доля правды в словах полковника все же присутствовала. Хайме Миро был харизматичным лидером, фанатично преданным своим идеям и потому очень опасным. «Однако, – думал премьер-министр, – полковник Аконья тоже по-своему опасен».
Слово взял Примо Касадо – глава службы безопасности.
– Ваше превосходительство, никто не мог предвидеть, что в Памплоне случится подобное. Хайме Миро…
– Я знаю, кто он! – раздраженно оборвал его премьер-министр и повернулся к полковнику. – Теперь хочу знать, где он.
– Я иду по его следу, – ответил Аконья, и от голоса его повеяло холодом. – Хотелось бы напомнить, ваше превосходительство, что мы сражаемся не с одним человеком, против нас все баски. Они снабжают Хайме Миро и его людей провиантом и оружием, дают им кров. Этот человек их герой. Однако не стоит беспокоиться: от гарроты он не уйдет… после того как я предам его справедливому суду, естественно.
«Не «мы», а «я». Интересно заметили ли это остальные присутствующие? Да, скоро с этим полковником придется что-то делать», – подумал премьер-министр и поднялся со своего места.
– На сегодня это все, господа.
Присутствующие начали расходиться, и только полковник Аконья не тронулся с места.
Леопольдо Мартинес принялся расхаживать по кабинету:
– Проклятые баски! Почему их не устраивает их нынешнее положение? Чего еще они хотят?
– Они стремятся к власти, – ответил Аконья. – Им нужна независимость, собственный язык и флаг…
– Нет, ничего подобного не будет, пока я занимаю этот пост. Я не позволю им рвать Испанию на части. Лишь правительство решает, что они могут иметь и чего не могут. Они всего лишь сброд, который…
В кабинет вошел помощник премьер-министра и, словно извиняясь, произнес:
– Прошу прощения, ваше превосходительство. Приехал епископ Ибаньес.
– Просите его.
Полковник прищурился:
– Кто бы сомневался: за всем этим, конечно же, стоит церковь. Пришло время преподать им урок.
«Церковь – один из величайших парадоксов нашей истории», – с горечью подумал полковник Аконья.
В начале гражданской войны католическая церковь приняла сторону националистов. Папа римский поддерживал генералиссимуса Франко, тем самым позволяя ему провозглашать, что он воюет на стороне Бога, но когда баскские храмы, монастыри и священники стали подвергаться нападениям, церковь тут же изменила свою позицию: «Вы должны дать баскам и каталонцам больше свободы, положить конец казням баскских священников».
Генералиссимус Франко пришел в ярость: как церковь посмела указывать правительству?
Началась изнурительная война. Войска Франко продолжали нападать на церкви и монастыри, убивали священников и монахов, епископов сажали под домашний арест. По всей Испании на священников налагались штрафы за те проповеди, которые, по мнению правительства, призывали к мятежам. Лишь когда церковь пригрозила Франко отлучением, нападки на нее прекратились.
«Проклятые церковники! Теперь, когда Франко умер, они вновь вмешиваются в государственные дела», – подумал Аконья и повернулся к премьер-министру.
– Пора указать епископу, кто руководит Испанией.
Худощавый, с болезненным цветом лица и головой в обрамлении облачка седых волос епископ Кальво Ибаньес внимательно посмотрел на присутствующих сквозь стекла своего пенсне.
– Buenas tardes[15].
Полковник Аконья ощутил, как к горлу подступила желчь. От одного лишь вида служителей церкви его начинало подташнивать. Он считал их козлами Иуды, что ведут своих глупых козлят на убой[16].
Епископ ждал приглашения присесть, но такового не последовало. Премьер-министр даже не удосужился представить его полковнику, выказав тем самым пренебрежение, а только взглядом дал понять, что отдает ему пальму первенства.
– До нас дошли весьма тревожные новости, – начал Аконья. – Нам доложили, что баскские мятежники устраивают сборища в католических храмах. Нам так же доложили, что церковь позволяет хранить оружие для мятежников в монастырях. – В голосе полковника послышались стальные нотки. – Помогая врагам Испании, вы сами становитесь ее врагами.
Епископ Ибаньес долго смотрел на полковника, а потом повернулся к премьер-министру Мартинесу:
– Ваше превосходительство, при всем уважении должен заметить, что все мы – дети Испании. Баски вам не враги и ничего не просят, кроме свободы…
– Они не просят, – прорычал полковник Аконья, – а требуют! Они мародерствуют по всей стране, грабят банки, убивают полицейских. И вы еще осмеливаетесь утверждать, что они нам не враги?
– Я признаю: непростительные нарушения имели место, – но иногда, сражаясь за то, во что веришь…
– Да ни во что они не верят! Им нет никакого дела до Испании. Как сказал кто-то из наших писателей, всем плевать на общее благо: каждый преследует собственные интересы – и церковь, и баски, и каталонцы.
Епископ заметил, что полковник Аконья не совсем верно процитировал Ортегу-и-Гассета: тот упоминал армию и правительство, – но благоразумно промолчал и снова обратился к премьер-министру:
– Ваше превосходительство, католическая церковь…
Премьер-министр почувствовал, что полковник Аконья зашел слишком далеко.
– Не поймите нас превратно, епископ. В принципе, конечно, правительство полностью поддерживает католическую церковь.
Но не тут-то было.
– Однако мы не можем допустить, чтобы ваши церкви и монастыри использовались против нас. Если вы и дальше позволите баскам устраивать там склады оружия и сборища, то будьте готовы ответить за последствия.
– Позвольте мне усомниться в достоверности полученных вами сведений, – спокойно произнес епископ. – Но тем не менее я немедленно займусь выяснением всех обстоятельств.
– Благодарю вас, епископ, – проворчал премьер-министр. – На этом мы закончим аудиенцию.
Премьер-министр и полковник подождали, когда за епископом закроется дверь, и Мартинес спросил:
– Ну, и что вы думаете?
– Он все прекрасно знает.
Премьер-министр вздохнул. У него и так хватало проблем, а посему ему совершенно не хотелось портить отношения с церковью.
– Если церковь на стороне басков – значит, она против нас. – Голос Аконьи зазвучал жестче. – С вашего позволения мне хотелось бы преподать епископу урок.
Премьер-министр вздрогнул при виде лихорадочного блеска в глазах полковника, потом осторожно спросил:
– Вы действительно располагаете сведениями о том, что церкви оказывают помощь мятежникам?
– Конечно, ваше превосходительство.
У премьер-министра не было никакой возможности выяснить, правду ли сказал Аконья, но он прекрасно знал, как сильно полковник ненавидит церковь. Может, и неплохо, что церковь отведает кнута, при условии, что полковник Аконья не зайдет слишком далеко.
Премьер-министр Мартинес погрузился в раздумья, но полковник Аконья не дал ему на это времени:
– Если церковь укрывает террористов, ее стоит наказать.
Премьер-министр неохотно кивнул.
– С чего начнете?
– Хайме Миро и его людей видели вчера в Авиле. Вероятно, они укрылись в женском монастыре.
– Что ж, в таком случае обыщите его, – распорядился премьер-министр.
Это решение положило начало цепи событий, всколыхнувших не только Испанию, но и весь мир.
Глава 3
Авила
Тишина была подобна легкому снегопаду – мягкому, приглушенному, успокаивающему, точно шепот летнего ветерка, безмолвному, точно движение звезд на небе. Цистерцианский женский монастырь строгого послушания располагался за пределами обнесенного стеной городка Авила – самого высокогорного населенного пункта в семидесяти милях от Мадрида. Монастырь был построен как обитель безмолвия. Установленные в 1601 году правила оставались неизменными на протяжении столетий: богослужение, духовные практики, строгая изоляция, покаяние и безмолвие, постоянное безмолвие.
Монастырь представлял собой выстроенные четырехугольником сооружения, сложенные из грубого камня, сосредоточенные вокруг крытой галереи с возвышающейся над ней церковью. Свет проникал сквозь открытые арки во внутренний двор, выложенный широкими каменными плитами, по которому бесшумно скользили монахини. На территории монастыря проживало сорок женщин, с утра до позднего вечера молившихся в церкви. Женский монастырь в Авиле был одним из семи, сохранившихся после гражданской войны, в то время как сотни других были разрушены, когда церковь вновь подверглась нападкам, как уже не раз случалось в Испании на протяжении веков.
Жизнь в цистерцианском монастыре строгого послушания была посвящена исключительно молитвам. Здесь не замечали течения времени и смены времен года, и те, кто попадал сюда, оставались навсегда отрезанными от внешнего мира. Цистерцианская жизнь заключалась в созерцании и покаянии, богослужения совершались ежедневно, а уединение оставалось полным и неизменным.
Сестры одевались одинаково, и их облачение, как и все остальное в монастыре, было частью сложившейся веками символики. Плащ с капюшоном символизировал невинность и простоту; холщовая туника – отречение от мирской суеты и смирение; наплечник – небольшой кусок шерстяной ткани, накинутый на плечи, – стремление трудиться. Облачение довершал апостольник – льняной платок с вырезом для лица, складками ниспадавший на плечи.
В обнесенном стеной монастыре система лестниц и коридоров соединяла между собой трапезную, общую комнату, кельи и молельню. Вычищенные до блеска, они были пропитаны атмосферой холода и пустоты.
Окна с толстыми стеклами выходили в обнесенный высокой стеной сад. Каждое окно было надежно защищено железной решеткой и находилось выше уровня глаз, дабы ничто не могло отвлечь обитательниц монастыря.
Трапезная представляла собой длинное помещение с довольно строгим убранством, окна которого были не только занавешены изнутри, но и закрыты плотными ставнями снаружи. Свечи в старинных подсвечниках отбрасывали причудливые тени на стены и потолок.
За четыреста лет существования в стенах монастыря не изменилось ничего, кроме лиц его обитательниц. У сестер не было никаких личных вещей, поскольку они желали существовать в бедности по примеру Христа. Церковь на территории монастыря тоже была лишена каких бы то ни было украшений. Исключение составлял лишь бесценный крест из цельного куска золота, который преподнес в дар монастырю кто-то очень богатый, перед тем как вступить в религиозный орден. Поскольку крест никак не соответствовал спартанской обстановке монастыря, его держали запертым в шкафу трапезной, а в церкви над алтарем висел простой деревянный крест.
Женщины, посвятившие жизнь служению Господу, все делали вместе: работали, ели, молились, – но при этом никогда не прикасались друг к другу и никогда не разговаривали. Исключения составляли случаи, когда они присутствовали на мессе или когда мать-настоятельница Бетина обращалась к ним в уединении своего кабинета, но даже там она старалась по возможности пользоваться лишь древним языком жестов.
Разменявшая седьмой десяток мать-настоятельница, энергичная, жизнерадостная, с излучающим свет лицом, наслаждалась спокойной размеренной жизнью в монастыре, посвященной служению Господу. Она истово защищала своих монахинь, а если кому-то из них выпадало нести наказание, испытывала гораздо более сильную боль, чем та, что провинилась.
Монахини передвигались по коридорам монастыря, опустив глаза в пол и сложив на груди спрятанные в рукава руки. Сталкиваясь со своими сестрами по несколько раз на дню, они не произносили ни слова и не выказывали никаких знаков внимания. Единственным правом голоса в монастыре обладали его колокола, перезвон которых Виктор Гюго назвал оперой колоколен.
Приехавшие со всего света сестры попали в монастырь по разным причинам. Здесь были представительницы аристократических семей, дочери фермеров и военных… Богатые и бедные, образованные и невежественные, простые и высокопоставленные – все они теперь были равны в глазах Господа, объединенные желанием стать вечными невестами Христа.
В монастыре были спартанские условия жизни. Зимой в его стенах стоял пронизывающий холод, и унылый бледный свет с трудом проникал сквозь окна в свинцовых переплетах. Монахини спали полностью одетыми на соломенных тюфяках, укрываясь грубыми шерстяными одеялами. Каждой монахине отводилась отдельная келья, в которой единственным предметом мебели был простой деревянный стул с прямой спинкой. Умывальник отсутствовал. Вместо него монахини пользовались небольшим глиняным кувшином и тазом, стоявшими в углу.
Сестрам, за исключением преподобной матери Бетины, не дозволялось заходить в другие кельи. Праздности здесь не было места, только работа и молитвы. Монахини вязали, ткали, переплетали книги и пекли хлеб в специально отведенных для этого местах. Восемь часов в день посвящалось молитвам, для которых существовало определенное время. Помимо них уделялось внимание и молитвам благословения, гимнам и литаниям.
Первое богослужение дневного круга совершалось, когда одна часть земного шара спала, а другая погружалась во грехи. О рассвете возвещала утренняя молитва, восхваляющая восход солнца как олицетворение лучезарного и величественного лика Христа. Во время заутрени сестры просили у Господа благословить их на труды праведные. В девять часов утра совершалась молитва, посвященная Святому Духу святым Августином. Секста – молитва, произносимая в половине двенадцатого, – призывала умерить пыл человеческих страстей. В три часа дня – в час смерти Христа – сестры читали молитву про себя. После этого следовала вечерня. Завершался день молитвой отхода ко сну, являвшейся своеобразной подготовкой не только ко сну, но и к смерти, выражавшей преданность и смирение. «Manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. Redemisti nos, Domine, Deus, veritatis»[17].
В то время как в других религиозных орденах самоистязание было упразднено, в закрытых мужских и женских цистерцианских монастырях оно практиковалось по-прежнему. По меньшей мере раз в неделю, а иногда и каждый день монахини наказывали собственную плоть с помощью двенадцатидюймового кнута, представлявшего собой тонкий вощеный шнур с шестью завязанными узлами хвостами, удары которого причиняли нечеловеческую боль. Этим кнутом монахини хлестали себя по спине, ногам и ягодицам. Цистерцианский аббат-отшельник из Клерво проповедовал: «Тело Христа истерзано… и наша плоть должна быть подобна израненной плоти Господа нашего».
Обстановка в монастыре была строже тюремной, и все же его обитательницы пребывали в состоянии исступленной радости, коей никогда не испытывали в мирской жизни. Они отреклись от плотской любви, собственности и свободы выбора, но вместе с этим и от жадности и соперничества, ненависти и зависти, гнета и соблазнов, присущих мирской жизни. В стенах монастыря царил всепоглощающий покой и неописуемое чувство радости от единения с Богом. Стены монастыря и сердца его обитательниц наполняла невероятная безмятежность. Если кто-то и называл монастырь тюрьмой, то тюрьма эта располагалась в райском саду Господа и сулила счастливую вечность всем тем, кто добровольно выбрал заточение в ней.
Сестру Лючию разбудил звон монастырского колокола. Открыв глаза, она некоторое время смотрела в потолок, силясь понять, где находится. В крошечной келье, где она спала, царил зловещий полумрак. Колокольный звон возвестил о том, что пришло время ночной молитвы, три часа утра, хотя мир за стенами монастыря еще крепко спал.
«Черт! Этот распорядок меня убьет». Сестра Лючия откинулась на крошечный, ужасно неудобный матрас, умирая от желания закурить, но потом все же неохотно встала. Тяжелое монашеское облачение терло ее нежную кожу точно наждачная бумага, и она с тоской вспомнила свои красивые дизайнерские платья, что остались в римских шале в Гштааде.
Из-за двери доносился еле слышный шорох одежд шествующих по коридору монахинь. Небрежно заправив постель, сестра Лючия вышла в длинный коридор, где уже выстроились монахини, опустив глаза в пол. Медленно они двинулись в сторону часовни.
«Они похожи на стайку глупых пингвинов». Сестра Лючия никак не могла взять в толк, почему все эти женщины сознательно отказались от нормальной жизни, секса, красивой одежды и вкусной еды. Какой смысл жить без всего этого? А еще эти проклятые правила!
Когда Лючия только переступила порог монастыря, мать-настоятельница познакомила ее с первым: «Ходить надо с опущенной головой, руки держать в рукавах и сложенными на груди, шаги делать короткие, ступать медленно, не заглядывать в глаза другим сестрам и вообще не смотреть на них. А главное – не разговаривай: твои уши должны внимать лишь словам Господа».
В течение следующего месяца Лючия то и дело получала наставления, на которые следовало отвечать: «Да, мать-настоятельница».
«Сюда приходят, чтобы остаться наедине с Господом, а для этого необходимо полное душевное одиночество. Его надежно охраняют правила молчания».
«…Ты должна всегда повиноваться безмолвию глаз. Заглядывая в глаза другим сестрам, ты отвлекаешь себя ненужными образами».
«…Прежде всего ты должна исправить свою жизнь: искоренить старые привычки и мирские наклонности, стереть из памяти все образы прошлого. Тебе необходимо подвергнуть себя очищающему душу покаянию и привыкнуть к смирению, дабы избавиться от упрямства и себялюбия. Недостаточно сожалеть о своих прошлых поступках. Лишь узрев безграничную красоту и святость Господа нашего Иисуса, мы начинаем испытывать желание искупить не только свои собственные грехи, но и все те, что когда-либо совершались на этом свете».
«…Ты должна бороться с чувственностью; недаром Иоанн Креститель назвал ее помрачением сознания».
«…Каждая монахиня живет в безмолвии и уединении, словно уже вознеслась на небеса. В этом чистом драгоценном безмолвии, которого все мы так жаждем, она способна прислушаться к безграничной тишине и познать Господа».
В конце первого месяца в монастыре Лючия приняла свой первый обет. В день церемонии ей остригли волосы. Процедура оставила у нее не слишком приятные воспоминания. Мать-настоятельница занялась новой сестрой собственноручно. Вызвав Лючию в свой кабинет и жестом приказав сесть, она встала у нее за спиной, и, прежде чем та успела сообразить, что происходит, раздалось щелканье ножниц. Лючия хотела было воспротивиться, но вдруг поняла, что это ничего не изменит и подумала: «Волосы отрастут, а пока можно походить похожей на ощипанного цыпленка».
Отведенная Лючии мрачная клетушка напомнила ей змеиную нору. На голом дощатом полу лежал соломенный тюфяк с тонким одеялом и рядом стоял деревянный стул. Ей ужасно хотелось почитать хотя бы газету, но вряд ли здесь добудешь даже это, не говоря уж о радио или телевизоре. Связь с внешним миром в монастыре полностью отсутствовала.
Но более всего Лючии действовала на нервы противоестественная тишина. Для общения использовался лишь язык жестов, и его изучение сводило с ума. Если ей требовался веник, нужно было помахать вытянутой рукой из стороны в сторону, словно подметаешь. Если что-то вызывало недовольство матери-настоятельницы, она трижды крепко соединяла перед собой мизинцы, в то время как остальные пальцы прижимала к ладоням. Если ей казалось, что кто-то слишком медленно выполняет свою работу, она прижимала ладонь правой руки к своему левому плечу. Чтобы сделать замечание, она начинала скрести собственную щеку возле правого уха сверху вниз.
«Господи, – думала в таких случаях Лючия, – это выглядит так, словно ее одолели вши».
Войдя в часовню, сестры принялись мысленно читать молитвы, только вот Лючия думала совсем о другом: дай бог, через месяц-два полиция перестанет ее искать, и тогда можно будет выбраться из этого дурдома.
После утренней молитвы Лючия отправлялась вслед за остальными монахинями в трапезную, ежедневно нарушая установленные в монастыре правила тем, что тайком рассматривала их лица. Это стало ее единственным развлечением. То обстоятельство, что ни одна из сестер не знала, как выглядят другие, казалось ей просто невероятным.
Лица монахинь ее завораживали. Были среди них старые и молодые, красивые и уродливые. Лючия никак не могла понять, почему все они казались счастливыми. Она выделила три лица, пробудивших в ней наибольший интерес, и сумела разузнать их имена.
Первое принадлежало сестре Терезе – ей было не меньше шестидесяти. Лицо ее хоть и не назовешь красивым, однако присущая ему одухотворенность наделяла его каким-то неземным очарованием. Казалось, она постоянно мысленно улыбалась, словно хранила какой-то чудесный секрет.
Второй монахиней, что привлекла внимание Лючии, оказалась сестра Грасиела – ошеломляюще красивая, лет тридцати, с оливковой кожей, утонченными чертами лица и чудесными глазами, похожими на блестящие черные озера. Она вполне могла бы быть кинозвездой. Интересно, что могло заставить ее похоронить себя в этой дыре?
Третью монахиню, пробудившую интерес Лючии, звали сестра Меган: лет двадцати восьми, голубоглазая, со светлыми бровями и ресницами, она казалась такой свежей и открытой. Что она здесь делает? Что делают здесь все эти женщины? Запертые в стенах монастыря, они довольствовались крошечными кельями и отвратительной едой, молились чуть ли не сутки напролет, подвергали себя тяжелой изнурительной работе и почти не спали. Должно быть, все они лишились рассудка.
Положение Лючии было гораздо лучше, чем у них. Ведь все эти женщины обрекли себя на пребывание здесь до конца жизни, в то время как она через месяц-другой окажется на свободе. Лучше, чем здесь, ей нигде не спрятаться. С ее стороны было бы глупо торопить события. Пройдет время, полиция перестанет ее искать. А как только она выберется отсюда и сможет забрать хранящиеся в Швейцарии деньги, можно даже написать книгу об этом жутком месте.
Несколькими днями ранее мать-настоятельница послала Лючию в свой кабинет за какой-то бумагой, и та решила воспользоваться случаем, чтобы просмотреть хранящиеся там документы, но, к несчастью, была поймана на месте преступления.
«Ты должна искупить свою вину посредством этого кнута», – жестом потребовала настоятельница.
Лючия смиренно опустила голову: «Да, матушка».
Лючия вернулась в свою келью, и несколько минут спустя до слуха проходивших по коридору монахинь донеслись ужасающие звуки хлыста, со свистом рассекавшего воздух. Только вот не знали они, что хлестала сестра Лючия матрас. Может, этим сумасшедшим и доставляет удовольствие себя истязать, но только не ей.
В трапезной они сидели – за двумя длинными столами – по двадцать монахинь за каждым. Цистерцианская еда была строго вегетарианской. Поскольку плоть жаждала мяса, оно было запрещено. Задолго до рассвета сестры выпивали по чашке чая или кофе с сухарями. Основной прием пищи приходился на одиннадцать часов утра и состоял из жидкого супа, небольшого количества овощей и время от времени какого-нибудь фрукта.
Мать Бетина наставляла Лючию: «Мы здесь не для того, чтобы услаждать собственную плоть. Наше призвание – услаждать Господа», – а Лючия думала при этом: «Даже свою кошку я не стала бы кормить ничем подобным».
За два месяца пребывания в монастыре она потеряла не менее десяти фунтов. Прямо-таки санаторий для похудения, только в интерпретации Иисуса.
Когда завтрак заканчивался, две сестры приносили большие лохани для мытья посуды и ставили на край каждого стола. Монахини подходили по очереди со своими тарелками, та, что стояла возле лохани, их мыла, вытирала полотенцем и возвращала хозяйкам. С каждой тарелкой вода становилась все темнее и грязнее.
«И так они собираются прожить до конца дней, – с отвращением думала Лючия. – Ну да ладно: здесь все лучше, чем в тюрьме».
Только вот без курения совсем худо. Казалось, сейчас Лючия готова была за сигарету продать душу дьяволу.
А тем временем в пяти сотнях ярдов от монастыря полковник Рамон Аконья с двумя дюжинами лучших бойцов из Группы специальных операций готовился к штурму.
Глава 4
Полковник Рамон Аконья обладал почти звериным чутьем, любил погоню, но поистине глубокое удовлетворение получал от вида крови, не важно чьей: оленя, кролика или человека. Забирая чью-то жизнь, он чувствовал себя богом и испытывал сильнейший оргазм.
За время службы в военной разведке Аконья заработал себе репутацию блестящего офицера. Он был умен, бесстрашен до безрассудности и безжалостен. Сочетание этих качеств привлекло к нему внимание одного из ближайших соратников генерала Франко.
Аконья присоединился к его армии в чине лейтенанта и менее чем за три года дослужился до звания полковника, что было поистине неслыханно. Его поставили во главе фалангистов – специальной группы, осуществляющей террор в отношении противников Франко, – чему предшествовала краткая беседа с одним из представителей ОПУС МУНДО.
Аконье дали понять, что время от времени его подразделению придется выполнять особые секретные задания, порой очень опасные, о которых никто не должен знать.
За короткое время полковник Аконья выполнил для ОПУС МУНДО с полдюжины особых заданий. Как его и предупреждали, все они оказались очень опасными и секретными.
Выполняя одно из них, Аконья познакомился с очаровательной девушкой из хорошей семьи. До этого момента он привык иметь дело с проститутками или сопровождавшими армейские подразделения шлюхами, которых не считал за людей и обращался с ними соответственно. Если какая-то из них влюблялась в него по-настоящему, очарованная его мужской силой, то с ней он обращался особенно жестоко.
Сюзанна Серредилья принадлежала к другому миру. Дочь профессора Мадридского университета и преуспевающей адвокатессы, в свои семнадцать лет Сюзанна обладала телом взрослой женщины и ангельским ликом Мадонны. Еще никогда Рамон Аконья не встречал таких, как эта женщина-ребенок. Ее трогательная беззащитность пробуждала в нем нежность, хотя, как он думал, это чувство ему не было знакомо. Аконья безумно влюбился, и по каким-то никому не ведомым причинам девушка ответила взаимностью.
Свадьба и медовый месяц пролетели как одно мгновение. Аконье казалось, что до нее он не знал женщин. Ему была знакома похоть, однако еще никогда он не испытывал этого сладкого сочетания любви и страсти.
Через три месяца после свадьбы Сюзанна сообщила ему, что беременна. Радости полковника не было предела. Вдобавок к этому его перевели служить в небольшую деревеньку Кастильбланко в Стране Басков. Это произошло осенью 1936 года, когда противостояние республиканцев и националистов достигло своего пика.
Одним спокойным воскресным утром полковник Аконья с супругой пили кофе на деревенской площади, когда ее внезапно заполонили баскские демонстранты.
– Тебе стоит уйти, – сказал Аконья. – Могут начаться беспорядки.
– А как же ты?
– Прошу тебя. Обо мне не беспокойся.
Демонстранты распалялись все сильнее, и Рамон Аконья с облегчением подумал, что вовремя отправил Сюзанну в ближайшее укрытие – женский монастырь на другой стороне площади. Но как только она подошла к нему, ворота неожиданно распахнулись и на площадь хлынула толпа вооруженных басков, которые прятались за стенами монастыря. Аконья увидел, как жена упала под градом пуль, и зарычал от беспомощности. В тот день он поклялся мстить баскам и церковникам.
И вот теперь, перед штурмом другого женского монастыря, он напомнил себе, что и на сей раз никого не оставит в живых.
А в монастыре, в эти темные предрассветные часы, сестра Тереза, крепко сжимая в руке кнут, стегала себя по спине. Чувствуя, как впиваются в плоть его завязанные в тугие узлы хвосты, она мысленно молила о прощении. Ей хотелось кричать в голос, но поскольку любые звуки были запрещены, она проговаривала про себя: «Прости мне, Иисусе, мои грехи. Видишь, я наказываю себя так же, как истязали Тебя, наношу себе такие же раны, какие нанесли Тебе. Позволь мне страдать, как страдал Ты».
Сестра Тереза едва не потеряла сознание от боли. Еще трижды ударив себя кнутом, изнемогая от страданий, она тяжело опустилась на матрас. Монахиня не стала истязать себя до крови, поскольку это было запрещено. Морщась от боли, причиняемой малейшим движением, сестра Тереза убрала кнут в черный кожаный чехол, стоявший в углу кельи и служивший постоянным напоминанием о том, что за малейший грех последует наказание.
Проступок сестры Терезы заключался в том, что, сворачивая за угол сегодня утром с привычно опущенной головой, она столкнулась с сестрой Грасиелой и, вздрогнув от неожиданности, заглянула ей в лицо. Сестра Тереза немедленно сообщила о своей провинности преподобной Бетине, и та, неодобрительно сдвинув брови, жестом показала, что этот проступок заслуживает наказания. Соединив кончики большого и указательного пальцев и сжав руку в кулак, словно держала в ней рукоять кнута, она трижды провела ею от плеча к плечу.
Лежа на матрасе у себя в келье, сестра Тереза никак не могла выбросить из головы образ невероятно красивой девушки, в лицо которой она так опрометчиво заглянула сегодня утром. Она знала, что никогда в жизни не заговорит с ней и не посмотрит на нее еще раз, ибо любое проявление близости между сестрами сурово наказывалось. Атмосфера строгой морали и аскетизма категорически запрещала какие бы то ни было отношения. Если сестры, работавшие бок о бок, начинали испытывать удовольствие от молчаливого общества друг друга, мать-настоятельница незамедлительно их разъединяла. Сестрам также не разрешалось сидеть за столом с одной и той же соседкой два раза подряд. Теплые отношения между сестрами церковь тактично именовала особенной дружбой. Суровое наказание следовало незамедлительно. Вот и сестра Тереза жестоко поплатилась за то, что нарушила правило.
Раздавшийся в тишине колокольный звон долетел до слуха сестры Терезы словно откуда-то издалека и показался осуждающим гласом Господа. Отзвуки этого колокольного звона нарушили сон и сестры Грасиелы, занимавшей соседнюю келью. Во сне на нее надвигался обнаженный мавр с восставшей от вожделения плотью и протягивал руки, намереваясь схватить ее. Сестра Грасиела открыла глаза. Сердце отчаянно колотилось, а остатки сна точно рукой сняло. В ужасе оглядевшись, она поняла, что находится в келье и совершенно одна, а тишину нарушает лишь ободряющий звон колокола.
Сестра Грасиела опустилась на колени и мысленно взмолилась: «Господи Иисусе, благодарю Тебя за помощь в избавлении от прошлого, за радость пребывания здесь в лучах Твоего света. Позволь мне наслаждаться счастьем Твоего бытия. Помоги мне, возлюбленный мой Иисус, быть верной призванию, дарованному Тобой. Помоги облегчить печаль Твоего святого сердца».
Монахиня поднялась с колен, аккуратно застелила ложе грубым одеялом и присоединилась к остальным сестрам, безмолвно шествовавшим в сторону часовни к утренней молитве. Вдыхая знакомый запах горящих свечей, ощущая под обутыми в сандалии ногами вытертые от времени плиты каменного пола, она постоянно успокаивалась и возвращалась к своему обычному состоянию.
В первые дни своего пребывания в монастыре сестра Грасиела никак не могла уяснить, что значат слова матери-настоятельницы, будто монахиня – это женщина, отказавшаяся от всего, чтобы обрести все. Ей было тогда всего четырнадцать лет, и лишь теперь, семнадцать лет спустя, до нее дошел сакральный смысл этого определения. В своих мыслях она обрела все, ведь именно так ум находил отклик в душе. Теперь дни сестры Грасиелы были наполнены восхитительным умиротворением.
«Спасибо за то, что ниспослал мне забвение, Отец наш Небесный. Спасибо за то, что всегда защищаешь меня. Без Тебя я не смогла бы смотреть в лицо своему ужасному прошлому… Спасибо Тебе… Спасибо…»
Закончив молиться, сестры разошлись по своим кельям, чтобы поспать до следующей утренней молитвы на рассвете.
А за стенами монастыря в темноте быстро и бесшумно передвигались бойцы полковника Рамона Аконьи. Подойдя к воротам, полковник предупредил своих людей:
– Хайме Миро и его смутьяны вооружены, так что глядите в оба.
Он окинул взглядом фасад монастыря, и на мгновение у него перед глазами возникли ворота другого монастыря с выбегавшими баскскими партизанами, и падающая под градом пуль Сюзанна с их нерожденным ребенком.
– Живыми их брать вовсе не обязательно, – добавил полковник жестко.
Сестру Меган разбудила тишина, но не привычная, а наполненная движением, быстрыми порывами воздуха и перешептыванием. До ее слуха донеслись звуки, коих она не слышала в стенах монастыря на протяжении пятнадцати лет. В груди тотчас же возникло предчувствие чего-то ужасного.
Она бесшумно поднялась с постели в окружавшей ее темноте, приоткрыла дверь кельи и не поверила своим глазам, увидев заполненный мужчинами коридор. Из кельи настоятельницы появился великан со шрамом на лице, который тащил за руку мать Бетину. Меган ошеломленно смотрела на происходящее и думала, что ей приснился кошмар: не может быть, чтобы все эти мужчины находились здесь.
– Где он! Говори! – грозно потребовал Аконья.
На лице матери-настоятельницы отразился ужас.
– Тише! Вы находитесь в храме Божьем и оскверняете его. – Ее голос заметно дрожал. – Вы должны немедленно отсюда уйти.
Однако в ответ он еще сильнее сжал ей руку и хорошенько тряхнул:
– Мне нужен Миро. Скажи, где он, и мы уйдем.
Кошмар оказался явью.
Начали открываться двери других келий, ошеломленные и растерянные монахини выходили посмотреть, что случилось. Еще ни разу в жизни не сталкивались они ни с чем подобным, поэтому были совершенно не готовы к столь неожиданному повороту событий.
Полковник Аконья оттолкнул мать-настоятельницу и повернулся к своему главному помощнику Патрико Ариетте.
– Обыщите монастырь вдоль и поперек.
Бойцы ГСО мгновенно рассредоточились по монастырю, врываясь в кельи, грубо вытаскивая монахинь из постелей и сгоняя в часовню. Монахини молча повиновались, даже в этой ситуации не нарушая обет молчания. Происходящее напоминало кадры немого кино.
Иначе вели себя бойцы ГСО. Все они были фалангистами и прекрасно помнили, что церковь отвернулась от них во время гражданской войны, поддержав лоялистов, сражавшихся против их возлюбленного генералиссимуса Франко. И вот теперь им выпала возможность отомстить, чем они и не преминули воспользоваться. Стойкость и молчание монахинь лишь еще больше их злили и распаляли.
Проходя мимо келий, полковник Аконья услышал дикий крик, а заглянув внутрь одной из них, увидел, как один из его бойцов срывает с монахини одежду, но никак не отреагировал, а просто прошел мимо.
Лючию тоже разбудили громкие мужские голоса, она в панике села на матрасе, и первой ее мыслью было: «Все, меня нашли. Нужно поскорее уносить отсюда ноги».
Но вот незадача: кроме центральных ворот, в монастыре не было другого выхода.
Лючия поспешно поднялась и выглянула в коридор. Ее глазам открылось ошеломляющее зрелище. Коридор заполонили вовсе не полицейские, а вооруженные люди в штатском, и вели они себя как обычные грабители: разбивали светильники и мебель, переворачивали все вверх дном.
Преподобная мать Бетина стояла посреди этого безумия, сложив ладони перед грудью, и безмолвно читала молитву, в то время как варвары оскверняли дорогую ее сердцу обитель. К ней подошла сестра Меган, и Лючия решила присоединиться к ним.
– Какого ч… что происходит? Кто эти люди?
Это были первые слова, произнесенные вслух с момента ее появления в монастыре. Преподобная мать трижды сунула правую руку под мышку, давая понять, что нужно прятаться. Лючия не верила своим глазам.
– Ну теперь-то вы можете заговорить. Давайте убираться отсюда, ради Христа. Именно ради Христа.
Патрико Ариетта подошел к полковнику:
– Мы обыскали все, полковник, но никаких следов ни Хайме Миро, ни его людей не нашли.
– Еще раз проверьте каждую щель! – потребовал Аконья.
Именно тогда мать-настоятельница вспомнила о единственном сокровище монастыря и, наклонив голову, прошептала сестре Терезе:
– Вы должны выполнить очень важное задание. Заберите из трапезной золотой крест и доставьте его в монастырь в Мендавии. Нужно непременно вынести его отсюда. Поспешите!
Сестру Терезу била такая дрожь, что тряслись даже складки ее апостольника. Она оцепенело смотрела на мать Бетину. Последние тридцать лет сестра Тереза провела в монастыре и даже не могла допустить мысли выйти за его пределы. В ужасе она подняла руку, что означало: «Я не могу».
Мать-настоятельница едва не впала в отчаяние:
– Крест не должен попасть в руки этих слуг Сатаны. Сделайте это ради Господа нашего Христа.
В глазах сестры Терезы вспыхнул свет. Она распрямила плечи и вздохнула: «Ради Иисуса», – потом развернулась и поспешила в трапезную.
К монахиням присоединилась сестра Грасиела, тоже совершенно ошеломленная царившим вокруг безумием. Люди полковника все больше входили в раж, крушили все на своем пути, а их предводитель с полнейшим безразличием наблюдал за происходящим.
Лючия повернулась к Меган и Грасиеле:
– Не знаю, как вы, а я собираюсь убраться отсюда и поскорее. Вы со мной?
Монахини лишь тупо смотрели на нее, слишком потрясенные, чтобы ответить. Тем временем к ним спешила сестра Тереза и несла что-то завернутое в кусок холста.
– Думайте скорее! – поторопила их Лючия, увидев, что незваные гости принялись загонять монахинь в трапезную.
Сестры Тереза, Меган и Грасиела с минуту медлили в нерешительности, но потом все же последовали за Лючией к огромной входной двери, но, свернув за угол в конце длинного коридора, увидели, что она выломана.
Внезапно перед ними возник вооруженный мужчина.
– Куда это вы, дамы? Возвращайтесь. Мои бойцы на вас очень рассчитывают.
– У нас есть для тебя подарок, – произнесла Лючия, с улыбкой взяв один из тяжелых металлических подсвечников, что стояли на столах в холле.
Мужчина озадаченно взглянул на подсвечник:
– И что ты собираешься с ним делать?
– А вот что. – Лючия с силой ударила подсвечником мужчину по голове, и тот рухнул на пол.
Монахини в ужасе смотрели на происходящее, но Лючия скомандовала:
– Быстрее!
Спустя мгновение Лючия, Меган, Грасиела и Тереза спешно пересекли двор, а потом вышли из ворот монастыря в звездную ночь. Через некоторое время Лючия остановилась.
– Теперь наши пути расходятся. Вас будут искать, поэтому вам лучше поскорее уйти отсюда.
С этими словами она развернулась и направилась в сторону возвышавшихся в отдалении гор, решив укрыться там, выждать немного, а потом отправиться в Швейцарию. Черт бы побрал этих ублюдков: лишили ее такого замечательного укрытия.
Отойдя на некоторое расстояние, Лючия обернулась. С возвышения ей было прекрасно видно, что происходит возле монастыря. Невероятно, но монахини все еще стояли перед воротами подобно трем черным изваяниям. «Ради всего святого! – мысленно воскликнула Лючия. – Уходите же, пока вас не поймали!»
Но ее мольбы не были услышаны: женщины не двинулись с места. Долгие годы пребывания в полной изоляции парализовали их сознание: они никак не могли осмыслить происходящее. Монахини продолжали смотреть себе под ноги, потрясенные настолько, что утратили способность мыслить здраво. Они так долго были отрезаны от мира, и теперь, оказавшись за пределами спасительных стен, пребывали в полной растерянности и панике и понятия не имели, в какую сторону идти и что делать. В стенах монастыря их жизнь была размеренной и организованной. Их кормили, одевали, говорили, что и когда делать, они следовали строгим правилам, а теперь их внезапно этого лишили. Что от них нужно Господу? Что он для них уготовил? Они неуверенно топтались на одном месте, боясь заговорить, боясь взглянуть друг на друга.
Сестра Тереза неуверенно указала рукой на мерцающие в отдалении огни Авилы: «Туда», – и женщины нерешительно двинулись в сторону города.
Стоя на возвышении и наблюдая за их действиями, Лючия думала: «Да нет же, идиотки! В городе вас станут разыскивать в первую очередь. Впрочем, это ваши проблемы, а мне нужно разобраться со своими». Она еще некоторое время стояла, наблюдая за монахинями, что брели навстречу своей погибели. Черт!
Лючия быстро спустилась с холма, едва не оступившись на каменистой осыпи, и побежала за ними, путаясь в тяжелых складках своего одеяния.
– Подождите! Стойте!
Сестры остановились и обернулись. Едва не задыхаясь, Лючия подбежала к ним.
– Вы идете не туда. Первым делом вас начнут искать именно в городе. Нужно где-то спрятаться на время.
Монахини молча смотрели на нее.
– В горы, – проговорила Лючия, выходя из себя. – Нужно подняться в горы. Идите за мной.
Развернувшись, она направилась туда, откуда только что спустилась. Сестры некоторое время смотрели ей вслед, а затем гуськом двинулись за ней.
Время от времени Лючия оборачивалась, дабы убедиться, что они не отстали, думая при этом: «И зачем я с ними связалась? К чему мне лишние проблемы? С ними куда опаснее», – но тем не менее продолжала идти вверх по тропе, стараясь не выпускать сестер из вида.
Подъем давался им непросто, и каждый раз, когда сестры замедляли шаг, Лючия останавливалась, чтобы они могли ее догнать, торопила и при этом думала: «Отделаюсь от них утром».
Тем временем обыск в монастыре закончился. Ошеломленных и перепуганных монахинь в разорванной, покрытой кровью одежде посадили в грузовики без опознавательных знаков.
– Отвезите их в Мадрид, в штаб, – приказал полковник Аконья. – Никого к ним не допускать.
– Их обвиняют в…
– Пособничестве террористам.
– Есть, полковник, – ответил Патрико Арриетта и, немного помедлив, добавил: – Четыре монахини пропали.
Глаза полковника превратились в куски льда.
– Разыщите их.
– Хайме Миро сбежал до того, как мы вошли в монастырь, – начал Аконья доклад премьер-министру.
– Да, я слышал, – кивнул Мартинес, хотя сильно сомневался, что Хайме Миро вообще туда заглядывал.
Полковник Аконья становился все более опасным и начал выходить из повиновения. Жестокое нападение на монастырь породило бурю гневных протестов, поэтому теперь в разговоре с полковником премьер-министр тщательно подбирал слова.
– Газетчики атакуют меня, требуя разъяснений относительно произошедшего.
– Они делают из этого террориста героя, – произнес Аконья с каменным лицом. – Мы не должны позволять им оказывать на нас давление.
– Он доставляет правительству массу хлопот. Да еще эти четыре монахини… Если они заговорят…
– Не беспокойтесь. Они не смогут далеко уйти. Я отыщу их и поймаю Миро.
Премьер-министр уже решил для себя, что больше не может рисковать.
– Полковник, я хочу, чтобы вы лично убедились, что с захваченными вами тридцатью шестью монахинями обращаются хорошо. Я также отдам приказ о присоединении армии к поискам Миро и его приспешников. Вы будете работать с полковником Состело.
Повисла долгая зловещая пауза.
– И кто из нас будет руководить операцией? – Глаза полковника Аконьи источали ледяной холод.
Премьер-министр судорожно сглотнул:
– Вы, конечно же.
Лючия и ее спутницы встретили рассвет по пути на северо-восток, в горы, подальше от Авилы и монастыря. Привыкшие молчать и двигаться бесшумно, монахини не издавали ни звука. Окружающую их тишину нарушал лишь шелест одежды, постукивание четок, хруст случайно сломанной ветки да прерывистое дыхание.
Они добрались до плато Сьерра-де-Гуадаррама и двинулись дальше по изрытой колеями дороге, по обе стороны которой тянулись каменные стены. Монахини миновали поля с пасущимися на них овцами и козами и на рассвете, пройдя несколько миль, оказались в лесистой местности в окрестностях городка Вильякастин.
«Оставлю их здесь, – приняла решение Лючия. – Пусть о них теперь заботится их Господь. Обо мне он уже изрядно позаботился: Швейцария стала еще дальше, чем прежде. У меня ни денег, ни паспорта, да еще и одета, как сотрудница похоронного бюро. Сейчас те, кто напал на монастырь, уже знают, что мы сбежали, и будут нас искать, пока не найдут. Чем быстрее я отделаюсь от монашек, тем лучше».
Однако в это самое мгновение случилось то, что заставило Лючию изменить планы.
Пробираясь сквозь деревья, сестра Тереза споткнулась и выронила сверток, который так заботливо оберегала с момента побега из монастыря. Содержимое выпало из холстины, и Лючия изумленно уставилась на большой, украшенный искусной резьбой золотой крест, блестевший в лучах восходящего солнца.
«Это же чистое золото!» – подумала Лючия. Кто-то там, наверху, действительно решил о ней позаботиться. Этот крест – манна небесная, причем самая настоящая. Вот он, билет в Швейцарию.
Наблюдая, как сестра Тереза бережно заворачивает крест в холстину, Лючия мысленно улыбнулась. Забрать его не составит труда. Эти монахини сделают все, что она скажет.
Авила была охвачена волнением. Известие о нападении на монастырь быстро распространилось по городу, поэтому отец Беррендо был выбран для разговора с полковником Аконьей. За обманчиво хрупкой внешностью этого семидесятилетнего священника скрывалась недюжинная внутренняя сила. Для своих прихожан он был добрым и понимающим пастырем, но сейчас кипел от еле сдерживаемого гнева.
Священнику пришлось в течение часа ждать аудиенции, и только после этого полковник Аконья соизволил пригласить его в свой кабинет.
– Вы напали на монастырь безо всяких на то причин, – без предисловий начал старый священник. – Это был акт совершеннейшего безумия.
– Мы просто выполняли свой долг, – бросил полковник. – В монастыре укрывался Хайме Миро и шайка сопровождавших его головорезов, так что сестры сами виноваты. Мы задержали их для допроса.
– Вы нашли в монастыре Хайме Миро? – гневно спросил священник.
– Нет, – спокойно ответил полковник. – Вместе со своими людьми он успел скрыться, прежде чем мы вошли в монастырь. Но мы найдем их, и правосудие свершится.
«Я совершу правосудие», – добавил мысленно полковник Аконья.
Глава 5
Одеяние монахинь не было приспособлено для прогулок по пересеченной местности, цеплялось за кусты и ветви деревьев. Подошвы сандалий оказались слишком тонкими, чтобы защитить ступни от жесткой каменистой почвы, и передвигались монахини медленно. Сестра Тереза не могла перебирать четки во время чтения молитв: ей приходилось обеими руками защищать лицо от ветвей. При свете дня неожиданная свобода казалась им еще более ужасной. Господь выбросил сестер из рая в чужой пугающий мир и лишил своего покровительства, на которое они привыкли полагаться. Они оказались в неведомой стране без карты и компаса. Стены, на протяжении долгого времени защищавшие их от бед и напастей, исчезли, и сестры чувствовали себя голыми и беззащитными. Опасности подстерегали повсюду, и укрыться от них было негде. Сестры стали изгоями. Непривычные звуки и картины природы ошеломляли. Жужжание насекомых, пение птиц, вид голубого неба атаковали их органы чувств, причиняя почти физическую боль. Но не только это вызывало у них беспокойство.
Оказавшись за воротами монастыря, Тереза, Грасиела и Меган избегали смотреть друг на друга, инстинктивно следуя привычным правилам, но теперь каждая ловила себя на том, что жадно изучает лица своих подруг по несчастью. К тому же после долгих лет молчания они вдруг осознали, что слова даются им с трудом, а когда все же их произносили, то очень медленно и постоянно запинались, словно осваивали что-то новое и незнакомое. Собственные голоса казались им чужими. Одна лишь Лючия вела себя свободно и уверенно, поэтому остальные безропотно приняли ее лидерство.
– Пожалуй, теперь, когда мы увидели лица друг друга, стоит познакомиться. Меня зовут Лючия.
Возникла неловкая пауза, которую робко прервала ослепительная темноволосая красавица:
– Я сестра Грасиела.
– Я сестра Меган, – последовала ее примеру молодая блондинка с потрясающими голубыми глазами.
– А я сестра Тереза, – тихо сказала самая старшая из всех.
Добравшись до ближайшего леса, монахини прилегли отдохнуть, и Лючия подумала: «Они похожи на едва вылупившихся птенцов, выпавших из гнезда: в одиночку не продержатся и дня. Что ж, ничего не поделаешь, не менять же из-за них планы. Мне нужен крест, чтобы отправиться в Швейцарию».
Лючия пробралась к опушке и, раздвинув ветви деревьев, посмотрела вниз, на раскинувшийся у подножия холма городок. По улицам ходили люди, но похожих на тех, что напали на монастырь, видно не было. «Момент вроде подходящий», – подумала Лючия и повернулась к остальным.
– Спущусь вниз и постараюсь добыть нам чего-нибудь поесть. Ждите здесь, а вы, – кивнула она сестре Терезе, – пойдем со мной.
На лице сестры Терезы отразилось замешательство. На протяжении тридцати лет она подчинялась лишь приказам преподобной матери Бетины, и вот теперь бразды правления внезапно взяла в свои руки такая же монахиня, как они сами. «На все воля Божья, – подумала сестра Тереза. – Он направил ее, чтобы помочь нам, и говорит с нами ее устами».
– Я должна как можно скорее доставить этот крест в монастырь в Мендавии.
– Верно. Когда спустимся в город, попросим указать нам дорогу.
Пока они спускались по склону холма, Лючия внимательно смотрела по сторонам, но все было спокойно. Указатель на окраине городка сообщал, что это Вильякастин. Прямо перед ними начиналась главная улица, а чуть левее – более узкая и пустынная.
«Вот и хорошо, – подумала Лючия. – Свидетели мне ни к чему».
Она указала на боковую улицу:
– Сюда. Здесь меньше вероятность кого-нибудь встретить.
Кивнув, сестра Тереза послушно пошла за Лючией. Теперь оставалось придумать, как забрать у нее крест. Можно, конечно, просто выхватить крест у нее из рук и убежать, но она наверняка закричит и тем самым привлечет ненужное внимание. Нет, нужно сделать так, чтобы она не подняла шум.
Вдруг прямо перед ними упал с дерева сук, перегородив дорогу. Лючия остановилась, а потом наклонилась и подняла его. Он оказался довольно тяжелым. Отлично.
Монахиня в недоумении посмотрела на Лючию, когда та крепко сжала сук, явно намереваясь ее ударить, но тут у них за спиной раздался мужской голос:
– Да пребудет с вами Господь, сестры.
Лючия резко развернулась, готовая броситься наутек, но увидев мужчину в коричневой монашеской рясе с капюшоном, высокого и худощавого, с орлиным носом и самым безгрешным выражением лица, какое только возможно, передумала. Его глаза излучали теплый свет, а голос звучал мягко и напевно.
– Я Мигель Каррильо, монах.
Мысли Лючии пустились в бешеный перепляс. Ее первоначальный план провалился, но теперь у нее внезапно появился другой, лучше прежнего.
– Слава богу, мы с вами встретились! Мы из цистерцианского монастыря близ Авилы, – пояснила Лючия. – Прошлой ночью на обитель напали неизвестные, всех монахинь увезли, только нам удалось сбежать.
– Я из монастыря Сан-Хенерро, где провел последние двадцать лет. На нас тоже напали позавчера ночью. – Он вздохнул. – Я знаю, что Господь уготовил свою судьбу для всех, но, должен признаться, пока не могу взять в толк, что уготовано мне.
– Эти люди ищут нас, – добавила Лючия. – Поэтому нам необходимо как можно скорее оказаться за пределами Испании. Вы не знаете, как это можно сделать?
Монах Каррильо одарил ее теплой улыбкой:
– Думаю, я сумею помочь вам, сестра. Господь не зря свел нас вместе. Отведи меня к остальным.
Пришлось вернуться в лес и представить нового знакомого спутницам.
Монахини по-разному отреагировали на появление мужчины. Грасиела не осмеливалась поднять на него взгляд, Меган, напротив, поглядывала с интересом, а Тереза отнеслась к нему как к посланнику Господа, который покажет им дорогу в Мендавию, к монастырю.
– Те, кто напал на монастырь, наверняка не прекратят поиски, – заметил монах Каррильо. – Но искать будут четырех монахинь. Поэтому прежде всего вам необходимо переодеться.
– У нас нет другой одежды, – растерянно сказала Меган.
Монах одарил ее блаженной улыбкой:
– У Господа нашего обширный гардероб. Не переживай, дитя мое: он нам поможет. Давайте вернемся в город.
Было два часа пополудни, время сиесты. Монах Каррильо и четыре сестры шли по главной улице городка, внимательно посматривая по сторонам, чтобы вовремя заметить погоню.
Магазины были закрыты, а вот рестораны и бары продолжали работать. Странная, непривычная музыка, что лилась из их окон, поражала монахинь своими резкими, диссонирующими звуками.
Монах Каррильо заметил выражение лица сестры Терезы и пояснил:
– Это рок-н-ролл. Очень популярен среди молодежи.
Две молодые женщины, стоявшие возле одного из баров, уставились на монахинь, а те в свою очередь тоже смотрели на них широко открытыми глазами, дивясь их странным нарядам. Юбка одной девушки была настолько короткой, что едва прикрывала бедра, юбка другой была длиннее, но зато с разрезами по бокам почти до пояса. На обеих красовались обтягивающие трикотажные кофточки без рукавов.
«Все равно что раздеты», – с ужасом подумала сестра Тереза и перекрестилась.
В дверях стоял мужчина в свитере с высоким горлом и странного вида пиджаке без воротника, на шее его блестела толстая цепь с кулоном.
Когда компания проходила мимо винного погребка, сестер приветствовали незнакомые ароматы никотина и виски. Увидев что-то на противоположной стороне улицы, Меган остановилась.
– Что такое? В чем дело? – встревожился монах, проследив за ее взглядом.
Меган смотрела на женщину с младенцем на руках. Сколько лет прошло с тех пор, как она последний раз видела младенца или ребенка? Тринадцать лет назад в сиротском приюте. Шок от увиденного заставил Меган осознать, как сильно она была оторвана от внешнего мира все эти годы.
Сестра Тереза тоже смотрела на младенца, только ее мысли текли в ином направлении. Младенец на противоположной стороне улицы заплакал, и ей вспомнился другой ребенок, которого она бросила. Но нет, это невозможно: прошло тридцать лет. Сестра Тереза отвернулась, и, когда они двинулись дальше, детский плач еще некоторое время звенел у нее в ушах.
Теперь их внимание привлекла афиша, извещавшая, что в кинотеатре идет фильм под названием «Три любовника». На ней были изображены две полуголые женщины, обнимавшие по пояс обнаженного мужчину.
– Господи, они же… они же почти голые! – в ужасе воскликнула сестра Тереза.
Монах Каррильо нахмурился:
– Да уж, просто стыд, что сейчас дозволено показывать в кинотеатрах. Этот фильм – настоящая порнография. Все самое сокровенное выставляется напоказ, отчего дети Господа нашего уподобляются животным.
Монахини прошли мимо скобяной лавки, парикмахерской, цветочного магазина и кондитерской. Все было закрыто на время сиесты, но они все равно останавливались у каждой витрины и во все глаза смотрели на некогда знакомые, но давно позабытые предметы, выставленные за стеклом.
Перед магазином женской одежды монах Каррильо попросил спутниц задержаться. Жалюзи на окнах были опущены, а табличка на двери гласила: «Закрыто».
– Подождите меня здесь, пожалуйста.
Монах свернул за угол и скрылся из вида, и женщины в недоумении переглянулись. Куда это он? А что, если не вернется?
Однако волновались они зря: спустя несколько минут послышался звук открываемой двери, а потом на пороге возник сияющий монах Каррильо и помахал им рукой:
– Скорее.
Когда они вошли в магазин и монах запер за ними дверь, Лючия спросила:
– Как вам удалось?..
– Господь отворил нам заднюю дверь, – с серьезным видом ответил брат Каррильо, однако прозвучавшие в его голосе озорные нотки вызвали у Меган улыбку.
Сестры с благоговением оглядывались по сторонам. Магазин напоминал им рог изобилия, заполненный разноцветными платьями и свитерами, бюстгальтерами и чулками, туфлями на высоких каблуках и болеро. Они не видели красивой одежды многие годы, и теперь от этого многообразия разбегались глаза. На полках магазина так же красовались сумочки, шарфы, пудреницы и множество флаконов и коробочек. Женщины стояли посреди магазина, открыв рты от изумления.
– Нам нужно поторопиться, – предупредил их брат Каррильо, – и уйти отсюда до окончания сиесты, когда магазин опять откроется. Так что не стесняйтесь – выбирайте все, что понравится.
«Слава богу, я снова смогу одеться как женщина», – подумала Лючия и, подойдя к стойке с платьями, принялась изучать ассортимент. Перебрав с десяток платьев и костюмов, она наконец остановила свой выбор на бежевой юбке и светло-коричневой шелковой блузке в тон. Не Баленсиага, конечно, но на первое время сойдет. Подобрав нижнее белье и удобную обувь, она зашла в примерочную и, быстро переодевшись, была готова идти дальше.
Остальным монахиням потребовалось время.
Грасиела выбрала белое хлопчатобумажное платье, прекрасно оттенявшее ее черные волосы, смуглую кожу и сандалии. Меган отыскала платье из синего хлопка с рисунком, длиной ниже колена, и туфли на низких каблуках. Труднее всего пришлось сестре Терезе. Слишком богатый выбор окончательно сбил ее с толку. Ее окружали шелка, фланели, твиды и кожа, саржа, хлопок и вельвет самых разнообразных оттенков в клетку, полоску и рубчик. Только вся представленная в магазине одежда казалась ей слишком… откровенной – именно это слово пришло ей на ум при виде такого изобилия.
Последние тридцать лет ее тело было благопристойно прикрыто тяжелым одеянием, полностью соответствующим ее образу жизни. И вот теперь ей предстояло избавиться от него и облачиться в эти непристойные тряпки. Она наконец сняла с вешалки самую длинную юбку, какую только смогла отыскать, и хлопчатобумажную блузку с длинными рукавами и воротником-стойкой, полностью закрывавшим шею.
– Быстрее, сестры, – поторопил монахинь брат Каррильо. – Переодевайтесь.
Женщины смущенно переглянулись.
Монах улыбнулся:
– Я подожду вас в подсобном помещении – поговорю пока с хозяином.
С этими словами он отправился в дальний конец магазина, а сестры принялись переодеваться, мучительно остро ощущая собственную наготу в присутствии друг друга.
Оказавшись в подсобке, брат Каррильо подставил стул к окну, выходившему в торговый зал, и принялся наблюдать за раздевавшимися сестрами, одновременно раздумывая, кем из них заняться в первую очередь.
Мигель Каррильо начал воровать, когда ему было всего десять лет. Природа наградила его вьющимися светлыми волосами и ангельским личиком, что оказало неоценимую помощь в выбранной им сфере деятельности. Он начинал с самых низов: вытаскивал из карманов кошельки, крал по мелочи в магазинах, но с возрастом стал работать по-крупному: грабил пьяных и охотился на богатых, как правило, – женщин. Привлекательная внешность помогла ему добиться небывалых успехов на этом поприще. Аферы, что он проворачивал, с каждым разом становились все оригинальнее и изощреннее. Но вот последняя затея его едва не погубила.
Прикинувшись монахом из отдаленного монастыря, Каррильо путешествовал по церквям и просил ночлега. Он никогда не встречал отказа, когда же поутру священник открывал двери церкви, выяснялось, что все ценности пропали вместе с добрым монахом.
Но однажды удача ему изменила. За два дня до описываемых событий в Бехаре – небольшом городке близ Авилы – священник вернулся в самый неподходящий момент и застал Мигеля Каррильо на месте преступления в церковной ризнице. Святой отец оказался на редкость крепким: сумел скрутить его и хотел было сдать в полицию, но под руку воришке попался тяжелый серебряный потир, упавший на пол. Им он и ударил служителя церкви по голове.
То ли потир оказался слишком тяжелым, то ли череп священника слишком хрупким, но умер он на месте.
Мигель Каррильо в панике бежал, мечтая оказаться как можно дальше от злополучной церкви. Добравшись до Авилы, он услышал историю о нападении бойцов полковника Аконьи на женский монастырь, расположенный в окрестностях города, а потом судьба свела его с четырьмя беглыми монахинями.
И вот теперь, дрожа от нетерпения, он рассматривал их обнаженные тела и раздумывал о представившейся ему блестящей возможности. Раз полковник Аконья и его люди разыскивают этих монахинь, за их головы наверняка дадут щедрое вознаграждение. Так что он сначала позабавится с ними, а потом сдаст полковнику.
Женщины, кроме уже одетой Лючии, были полностью обнажены. Каррильо наблюдал, как они неловко натягивают новое белье, а потом неуклюже застегивают непривычные пуговицы и молнии, торопясь покинуть магазин, пока их не поймали.
«Пора приниматься за работу», – решил Каррильо и, спустившись со стула, вышел в зал, подошел к женщинам и одобрительно оглядел их с ног до головы.
– Прекрасно. Никому и в голову не придет, что вы монахини. Я бы посоветовал вам повязать головы шарфами.
Он сам выбрал шарф для каждой и, наблюдая, как они покрывают головы, принял решение: первой станет Грасиела, без сомнения, самая красивая из них. А тело! И как ей только пришло в голову столь бездарно им распорядиться! Ничего, он научит ее, как с ним обходиться.
– Вы, должно быть, голодны, – обратился Каррильо к Терезе, Меган и Лючии. – Предлагаю вам пойти в кафе, мимо которого мы проходили, и подождать нас там. Я же отправлюсь в церковь и займу у священника немного денег, чтобы расплатиться за еду. – Он повернулся к Грасиеле: – Будет лучше, если ты пойдешь со мной, сестра, и сама расскажешь священнику, что случилось в монастыре.
– Я… хорошо.
Каррильо обратился к остальным:
– Мы скоро к вам присоединимся. Я бы посоветовал вам выйти через заднюю дверь.
Он дождался, пока троица покинет магазин и за ними захлопнется дверь, и повернулся к Грасиеле. «Хороша! Может, стоит взять ее с собой и приобщить к делу? Это было бы здорово!»
Грасиела посмотрела на монаха:
– Я готова.
– Еще нет. – Каррильо сделал вид, будто рассматривает ее наряд. – Боюсь, это платье совсем тебе не подходит. Снимай его.
– Но… почему?
– Не слишком хорошо сидит, – тут же нашелся мошенник. – Это могут заметить, а ты ведь не хочешь привлечь к себе внимание?
Немного поколебавшись, Грасиела зашла в примерочную.
– Только поспеши: у нас мало времени.
Грасиела неловко стянула платье через голову и осталась в одних трусиках и бюстгальтере, когда перед ней неожиданно возник Каррильо и хрипло потребовал:
– Снимай все!
Грасиела, ошеломленная, уставилась на него и вдруг закричала:
– Что? Нет! Я… не могу. Пожалуйста…
Каррильо подошел ближе:
– Я помогу тебе, сестра.
Резким движением он сорвал с нее бюстгальтер и потянулся к трусикам.
– Нет! – взвизгнула Грасиела. – Вы не можете! Перестаньте!
Каррильо усмехнулся:
– Мы только начали, carita[18]. Тебе понравится.
Крепкие руки обхватили женщину за талию и увлекли на пол. Каррильо задрал свою рясу, и Грасиела почувствовала себя так, словно в ее сознании опустился занавес. Мавр снова пытался ворваться в глубины ее лона, а в ушах зазвучал визгливый крик матери. «Нет! – подумала Грасиела в ужасе. – Только не это. Пожалуйста…»
Она яростно отбивалась в попытке сбросить с себя насильника и подняться на ноги, пока тот не закричал:
– Черт бы тебя побрал!
От удара кулаком в лицо девушка откинулась на спину, теряя сознание. Ей показалось, что она возвращается назад, в прошлое. Назад… снова…
Глава 6
Лас-Навас-дель-Маркес, Испания
Ей было пять лет, и в воспоминаниях о том времени фигурировали многочисленные обнаженные незнакомцы, сменявшие друг друга в постели ее матери.
– Все они твои дяди, – объясняла ей мать. – И ты должна их уважать.
Только ни один из этих «дядюшек» не проявлял к ней ни капли тепла: скорее наоборот. Кто-то оставался на одну ночь, кто-то на неделю или месяц, а потом они исчезали. После ухода очередного любовника Долорес Пикьеро сразу же бросалась на поиски нового.
В молодости она слыла настоящей красавицей, и Грасиела унаследовала ее внешность. Даже ребенком она была ошеломляюще хороша: высокие скулы, оливковая кожа, блестящие черные волосы, густые длинные ресницы. Даже совсем детское, ее тело обещало стать невероятно соблазнительным.
С годами Долорес Пикьеро располнела и обрюзгла, а горькие удары судьбы исказили точеные черты ее некогда красивого лица. Растеряв привлекательность, она по-прежнему оставалась легкодоступной и снискала репутацию страстной и опытной любовницы. Мастерство в постели было ее единственным талантом, и она пользовалась им, чтобы ублажать мужчин в надежде удержать их подле себя подольше. Заработка швеи едва хватало на жизнь. Долорес выполняла свою работу настолько некачественно, что ее услугами пользовались лишь те, кто не мог позволить себе кого-то получше.
Собственную дочь она терпеть не могла, поскольку та была живым напоминанием о единственном мужчине, которого она когда-то любила. Долорес без раздумий отдалась красавцу механику, который наобещал ей золотые горы, а когда узнал о ее беременности, тут же испарился, оставив Долорес наедине с зарождающейся в ее чреве жизнью.
Долорес обладала скверным характером и всю свою злобу вымещала на ребенке. Стоило Грасиеле ей чем-то не угодить, как Долорес принималась ее колотить с криками: «Тупица! Вся в отца!»
Девочке было некуда деться от бесконечных побоев и ругани. Просыпаясь каждое утро, Грасиела молила Всевышнего лишь об одном: «Прошу тебя, Господи, сделай так, чтобы мама сегодня меня не била. Пусть хотя бы сегодня она почувствует себя счастливой, пусть скажет, что любит меня».
В дни, когда Долорес действительно воздерживалась от побоев, она просто не обращала на дочь никакого внимания. Грасиела сама готовила себе еду и стирала одежду. Взяв в школу собственноручно приготовленный завтрак, она говорила учителю: «Сегодня мама испекла мне empanadas[19]. Она знает, как я их люблю». Или: «Я порвала платье, но мама его зашила. Она все для меня делает». Или: «Завтра мы с мамой идем в кино».
Эти слова разбивали учителю сердце. Лас-Навас-дель-Маркес городок маленький, в часе езды от Авилы, и, как во всех подобных городках, здесь все про всех знали.
Соседи осуждали образ жизни Долорес Пикьеро, и это отражалось на Грасиеле. Другие родители детям не разрешали с ней играть, опасаясь дурного влияния, так что в школе подругами она так и не обзавелась. Будучи одной из самых способных учениц, она тем не менее получала плохие оценки. Ей было трудно сосредоточиться, поскольку она постоянно испытывала усталость. Учителя говорили ей, что нужно пораньше ложиться спать. Чтобы успешно учиться, следует соблюдать режим дня и хорошо высыпаться.
Грасиела с матерью жили в крошечной двухкомнатной квартире. Девочка спала на кушетке в комнатушке, отгороженной от спальни лишь тонкой, видавшей виды занавеской. Разве могла Грасиела рассказать учителю о непристойных звуках, будивших ее по ночам и не дававших заснуть? Девочке приходилось лежать и слушать, как мать предается утехам с очередным кавалером.
Когда Грасиела приносила домой табель с оценками и мать начинала бушевать: обзывать ее тупицей, дурой, идиоткой, девочка ей верила и изо всех сил крепилась, чтобы не расплакаться.
После уроков Грасиела в одиночестве бродила по узким извилистым улочкам города, среди акаций и платанов, мимо выкрашенных белой краской каменных домов, где жили счастливые семьи. У Грасиелы же отец, братья и сестры существовали только в ее воображении, как и друзья. Симпатичные девочки и привлекательные мальчики приглашали ее на садовые вечеринки, где потчевали вкуснейшими пирожными и мороженым. Эти воображаемые друзья, добрые и любящие, считали ее умной и способной. Когда матери не было поблизости, Грасиела представляла, что в ней все нуждаются, она всем готова помочь, и вела с ними долгие беседы: «Ты не поможешь мне сделать домашнее задание, Грасиела? Мне не очень даются задачи, а ты так легко с ними справляешься». «Чем займемся сегодня вечером, Грасиела? Может, отправимся в кино или в парк или попьем кока-колы». «Мама отпустит тебя к нам на обед, Грасиела? У нас сегодня паэлья». А она каждому отвечала: «Боюсь, ничего не получится. Маме очень одиноко, когда меня нет рядом. Знаете, ведь, кроме меня, у нее никого нет».
По воскресеньям Грасиела просыпалась рано и, стараясь одеться как можно тише, чтобы не разбудить мать и очередного дядю в ее постели, отправлялась в церковь Святого Иоанна Крестителя, где отец Перес рассказывал о радостях жизни после смерти и сказочной жизни в Царстве Христовом. Слушая святого отца, девочка мечтала: вот бы поскорее умереть и встретиться с Иисусом.
Отец Перес, привлекательный сорокалетний мужчина, приехав в Лас-Навас-дель-Маркес, стал помогать всем: богатым и бедным, больным и здоровым. В городке не было ни одной тайны, в которую он не был бы посвящен. Отец Перес постоянно видел девочку в церкви и был наслышан о бесконечной веренице мужчин, сменявших друг друга в постели ее матери. Такие условия жизни совсем не подходили юному созданию, однако никто не мог ничего с этим поделать. Священник искренне недоумевал, как Грасиеле удается со всем этим справляться: добрая и милая, она никогда ни на что не жаловалась.
Каждое воскресное утро она появлялась в церкви в чистой опрятной одежде, которую, как догадывался священник, стирала и латала сама. Он знал, что дети в городке сторонятся Грасиелы, и при мысли об этом его сердце обливалось кровью. Святой отец взял за правило проводить с ней некоторое время по окончании воскресной службы, а когда выдавалась свободная минутка, водил ее в небольшое кафе, чтобы угостить мороженым.
Зимой жизнь Грасиелы становилась еще более тоскливой, однообразной и удручающей. Лас-Навас-дель-Маркес располагался в долине, окруженной со всех сторон горами, и из-за этого зима здесь длилась целых шесть месяцев. Пережить лето было гораздо легче, ведь в это время года в городок стекались туристы, наполняя его смехом и танцами. С ними все вокруг оживало. Туристы собирались на площади Мануэля Дельгадо Барредо возле небольшой эстрады, чтобы послушать оркестр или полюбоваться на местных жителей, отплясывавших сардану – старинный национальный танец каталонцев. Босые, в яркой одежде, они грациозно двигались по кругу, взявшись за руки. Грасиела любила смотреть на туристов, расположившихся в придорожных кафе, чтобы выпить аперитив, прогуливавшихся по pescaderia[20] или что-то покупавших в аптеке. В час дня туристы заполняли местный винный погребок, потягивали вино и закусывали морепродуктами, оливками и чипсами.
Но более всего Грасиеле нравилось наблюдать вечерами за paseo[21]. Юноши и девушки прогуливались небольшими группками по главной площади. Парни поглядывали на девушек, но их родители, а также бабушки с дедушками зорко наблюдали, как бы чего не вышло, сидя за столиками в небольших уличных кафе. Все это было частью традиционного свято соблюдаемого ритуала смотрин. Грасиеле ужасно хотелось принять в нем участие, но мать запрещала.
«Хочешь стать шлюхой! – бушевала Долорес. – Держись от парней подальше. Все они хотят от тебя только одного. – И горько добавляла: – Знаю по собственному опыту».
Если днем жизнь Грасиелы можно было считать более-менее сносной, то ночи превращались в настоящее мучение. Из-за тонкой занавески, разделявшей их с матерью кровати, до слуха девочки доносились громкие стоны, звуки возни, тяжелое дыхание и сопение, сопровождаемые непристойностями и непечатными словами.
Грасиеле не было и десяти лет, а она уже знала почти все неприличные слова, что есть в испанском языке. Их то произносили шепотом, то выкрикивали со стонами и дрожью в голосе. Возгласы страсти вызывали у Грасиелы отвращение и в то же время пробуждали в теле странное томление.
Когда девочке исполнилось четырнадцать лет, в их доме поселился мавр. Таких огромных мужчин ей еще не доводилось видеть. Его иссиня-черная кожа лоснилась, голова была обрита наголо, широченные плечи, мощный торс вызывали страх, как и громадные ручищи. Мавр появился в их доме посреди ночи, когда Грасиела спала, поэтому увидела его она только утром, когда он отдернул занавеску и, совершенно голый, прошел мимо ее кровати в уборную на улицу. Взглянув на него, Грасиела едва не вскрикнула от ужаса: каждая часть его тела была поистине исполинских размеров, – и подумала: «Он же убьет мою мать».
Мавр уставился на нее:
– Так-так. И кто это тут у нас?
Выскочив из постели, Долорес Пикьеро загородила собой Грасиелу и коротко бросила:
– Моя дочь.
Волна стыда накатила на девочку при виде голой матери рядом с мавром, но тот лишь улыбнулся, сверкнув красивыми ровными белоснежными зубами.
– Как тебя зовут, guapa?[22]
Однако нагота мавра настолько смутила девочку, что она лишилась дара речи.
– Ее зовут Грасиела. Она туповата.
– Зато настоящая красавица. Наверняка и ты в молодости была не хуже.
– Я что, сейчас старуха? – огрызнулась Долорес и повернулась к дочери: – Одевайся, иначе в школу опоздаешь.
– Да, мама.
Мавр не отрывал взгляда от девочки.
Долорес взяла его за руку, кокетливо произнесла:
– Идем в постель, querido[23]. Мы еще не закончили.
– Позже, – отмахнулся мавр, пожирая глазами Грасиелу.
Мавр поселился в доме Долорес, и каждый день, возвращаясь из школы, Грасиела молилась, чтобы он ушел. По каким-то непонятным причинам он вселял в нее ужас. Он был с ней вежлив и не пытался приставать, и все же каждый раз при мысли о нем Грасиелу охватывала дрожь.
А вот с ее матерью он обращался иначе. Целый день мавр проводил в пристройке, напиваясь до беспамятства, и забирал все заработанные Долорес деньги. Иногда ночью Грасиела слышала, как во время совокуплений с матерью мавр ее поколачивал, и поутру Долорес выходила из спальни с синяком под глазом или рассеченной губой.
– Мама, почему ты все это терпишь? – как-то не выдержала Грасиела.
– Ты все равно не поймешь, – угрюмо буркнула Долорес. – Он настоящий мужчина, не такая мелочь, как другие. Он знает, как доставить женщине удовольствие, к тому же безумно в меня влюблен.
Грасиела в это не верила: мавр попросту использует ее мать, однако спорить не осмеливалась, поскольку панически боялась гнева Долорес. Когда та пребывала в гневе, ее словно охватывало безумие. Как-то раз она даже гонялась за Грасиелой с кухонным ножом, потому что та посмела налить чаю одному из «дядь».
Как-то воскресным утром Грасиела поднялась пораньше, намереваясь одеться поприличнее, чтобы идти в церковь. Ее мать ушла еще затемно: нужно было отнести готовые платья клиенткам. Но только Грасиела сняла ночную сорочку, занавеска отодвинулась, и перед ней возник мавр, совершенно голый.
– Где твоя мать, guapa?
– Уже ушла по делам.
Мавр с вожделением рассматривал тело Грасиелы, потом тихо произнес:
– А ты и впрямь красавица.
Грасиела ощутила, как ее лицо заливает краска стыда. Она знала, что надо было поскорее одеться и уйти прочь, но вместо этого стояла, не в силах пошевелиться, и смотрела, как мужская плоть стремительно наливается и увеличивается в размерах.
В ее ушах звучали неприличные слова, которые она слышала по ночам, и ей казалось, что она вот-вот лишится чувств.
– Ты совсем ребенок, – хрипло произнес мавр. – Одевайся и уходи.
И тут Грасиела вдруг обрела способность двигаться и пошла навстречу мавру, обняла за талию и, почувствовав его упирающуюся ей в живот затвердевшую плоть, простонала:
– Нет, я не ребенок.
Боль, которую он ей причинил, нельзя было сравнить ни с чем: ее словно разорвали, проткнули насквозь, и вместе с тем ничего восхитительнее и слаще она не испытывала. Грасиела крепко сжимала плечи мавра, вскрикивая от охватившего ее экстаза. Волны удовольствия следовали одна за другой, и наконец она поняла, в чем заключалось таинство. Как это было чудесно – узнать тайну мироздания, стать частью настоящей жизни, познать радость, настоящую и вечную.
– Какого черты вы тут делаете? – раздался пронзительный крик Долорес, и все мигом закончилось и словно застыло во времени.
Женщина стояла возле кровати и смотрела на сцепившихся в объятиях мавра и собственную дочь.
Взглянув на мать, Грасиела от ужаса лишилась дара речи. В глазах Долорес плескалась безумная ярость.
– Ах ты, сука! – взвизгнула она. – Мерзкая сука!
– Мама… пожалуйста…
Схватив с прикроватного столика тяжелую железную пепельницу, Долорес с силой опустила ее на голову дочери.
Это было последним, что отпечаталось в памяти Грасиелы.
Она пришла в себя в огромной больничной палате с белыми стенами и двенадцатью кроватями. Усталые санитарки суетились возле пациенток.
Голова раскалывалась, при малейшем движении все тело словно охватывало огнем. Девочка лежала на кровати, прислушиваясь к крикам и стонам соседок по палате.
Вечером у ее кровати остановился врач: молодой, чуть больше тридцати, но, возможно, возраста ему добавляла усталость.
– Ну вот ты наконец и очнулась, – произнес он.
– Где я? – с трудом выдавила Грасиела.
– В благотворительной палате провинциальной больницы Авилы. Тебя привезли вчера в ужасающем состоянии, так что пришлось наложить швы на лоб. Кстати, это сделал завотделением собственноручно. Сказал, что нельзя такую красоту уродовать шрамами.
«Зря старался, – подумала Грасиела. – Шрамы останутся у меня на всю жизнь».
На второй день девочку навестил отец Перес. Санитарка принесла для него стул и поставила рядом с кроватью. Священник посмотрел на юное создание, лежавшее в постели, и сердце его сжалось от боли.
То, что случилось, потрясло весь Лас-Навас-дель-Маркес, но изменить ничего уже нельзя. Долорес Пикьеро сказала полиции, что ее дочь разбила голову, когда случайно споткнулась и упала.
– Тебе лучше, дитя мое? – спросил отец Перес.
Грасиела кивнула, и в висках вновь запульсировала боль.
– Полицейские расспрашивают о случившемся. Ты не хочешь мне что-нибудь рассказать? Я бы передал им твои слова.
Повисла долгая пауза, а потом Грасиела ответила:
– Я просто упала.
Видеть выражение глаз девочки было просто невыносимо.
– Понимаю, – произнес священник. То, что он должен был ей сказать, причиняло ему невыносимую боль. – Грасиела, я говорил с твоей матерью…
Девочка поняла, что последует дальше.
– Мне… мне нельзя вернуться домой, верно?
– Боюсь, что так. Мы еще поговорим об этом. – Отец Перес взял руку Грасиелы в свою. – Зайду к тебе завтра.
– Спасибо, падре.
После его ухода Грасиела лежала и молилась: «Господь всемилостивый, позволь мне умереть. Я не хочу жить».
Ей было некуда и не к кому идти. Никогда больше она не увидит родной дом, школу, учителей. В этом мире у нее ничего не осталось.
У ее кровати остановилась санитарка.
– Может, что-нибудь нужно?
Грасиела в отчаянии посмотрела на нее. Что она могла ответить?
На следующий день вновь появился тот же молодой врач и сообщил, явно испытывая неловкость:
– У меня хорошие новости. Ты уже чувствуешь себя достаточно неплохо, чтобы выписаться. Ну а если правду, то нужно освободить место.
Итак, надо уходить, но вот только куда?
Спустя час в больницу приехал отец Перес в сопровождении еще одного священника.
– Это отец Беррендо, мой старинный друг.
Грасиела взглянула на хрупкого худощавого священника и, опустив глаза, произнесла:
– Падре…
«А он прав, – подумал отец Беррендо, – она и впрямь красавица».
Отец Перес рассказал ему о случившемся, и священник ожидал увидеть в девочке признаки проживания в неблагополучной среде: черствость, дерзость, попытки вызвать жалость, но ничего этого не отразилось даже на ее лице.
– Сожалею, что тебе так досталось, – произнес отец Беррендо, и Грасиела поняла, что он ей не верит, а слова отца Переса и вовсе ввергли ее в панику:
– Я должен вернуться в Лас-Навас-дель-Маркес, так что оставляю тебя на попечение отца Беррендо.
Вот и все: оборвалась последняя ниточка, связывавшая ее с домом.
– Не уходите!
Отец Перес взял ее руку в свою:
– Я понимаю, тебе одиноко, но ты не одна. Поверь мне, дитя мое.
К кровати подошла санитарка со свертком в руках и передала его Грасиеле.
– Здесь твоя одежда. Тебе пора…
Девочку охватила еще бо́льшая паника.
– Сейчас? Но куда?
Священники переглянулись.
– Почему бы тебе не одеться? – предложил отец Беррендо. – Мы сможем поговорить и решить, что делать дальше.
Спустя четверть часа они вышли из полумрака больницы на солнечный свет. Грасиела была слишком потрясена, чтобы заметить красоту клумб с пестрыми цветами и яркую зелень деревьев.
– Отец Перес мне сказал, что тебе некуда пойти, – поведал священник, когда они расположились в его кабинете.
Грасиела кивнула.
– У тебя что, вообще нет родственников?
– Только… – Как же трудно было произнести это слово! – Только… мама.
– Отец Перес сказал, что ты дисциплинированная прихожанка: не пропускаешь ни одной службы.
– Да.
Грасиела прекрасно помнила, как просыпалась каждое утро, чтобы отправиться на службу в церковь, как радовала ее красота убранства и как хотелось ей убежать от своей невыносимой жизни и встретиться с Иисусом.
– Дочь моя, а ты никогда не задумывалась о том, чтобы уйти в монастырь?
– Нет. – Девочка даже вздрогнула при одной лишь мысли об этом.
– Здесь, в Авиле, есть женский монастырь, цистерцианский. Там о тебе могли бы позаботиться.
– Я… я не знаю. – Мысль о монастыре пугала.
– Конечно, такая жизнь подходит не всем, – продолжал отец Беррендо. – И я должен тебя предупредить, что там самые строгие порядки. Переступив порог монастыря и приняв постриг, ты даешь клятву Господу никогда не покидать его пределов.
Грасиела сидела и смотрела в окно, а голова ее кружилась от противоречивых мыслей. То, что придется закрыться от мира, ужасало. Ведь это все равно что добровольно отправиться в тюрьму. Но с другой стороны – что ждет ее в миру? Невыносимая боль и отчаяние. Она стала часто думать о том, чтобы уйти из жизни, так что предложение святого отца не такой уж плохой выход из создавшегося положения.
– Решение за тобой, дитя мое, – произнес отец Беррендо. – Если примешь мое предложение, я отвезу тебя познакомиться с преподобной матерью-настоятельницей.
Грасиела кивнула:
– Хорошо.
Преподобная мать-настоятельница внимательно вгляделась в лицо стоявшей перед ней девушки. Прошлой ночью впервые за многие годы она услышала голос: «К тебе придет юное дитя. Защити ее».
– Сколько тебе лет, милая?
– Четырнадцать.
Достаточно взрослая. В IV веке папа провозгласил, что девочки могут принимать постриг с двенадцати лет.
– Мне страшно, – произнесла Грасиела, глядя на преподобную мать Бетину.
«Мне страшно». Эти слова до сих пор звучали в ушах матери Бетины. Как давно это было! Она беседовала со своим священником, и когда он сказал: «Бетина, первая встреча с Господом всегда тревожит. Тебе непросто будет принять решение посвятить свою жизнь служению ему», – ответила: «Не знаю, есть ли у меня к этому призвание, падре. Мне страшно».
Она никогда не интересовалась религией и, как могла, избегала посещения церкви и воскресной школы. В подростковом возрасте она больше увлекалась вечеринками, нарядами и мальчиками. Если бы ее мадридских друзей попросили составить список претенденток на роль монахини, ее имя оказалось бы в этом списке последним, а если точнее – вообще бы туда не попало. Но когда ей исполнилось девятнадцать, начали происходить события, полностью изменившие ее жизнь.
Девушка мирно спала в своей постели, когда в голове ее прозвучал голос: «Бетина, встань и выйди на улицу». Она открыла глаза, в испуге села на кровати и, включив настольную лампу, убедилась, что в комнате одна. Какой странный сон.
Но голос был таким реальным…
Бетина снова легла, однако заснуть так и не смогла.
«Бетина, встань и выйди на улицу».
«Это всего лишь причуды подсознания, – подумала девушка. – С чего мне выходить на улицу посреди ночи?»
Она выключила было свет, но через минуту опять включила: безумие какое-то! – надела халат и тапочки и спустилась вниз.
Все в доме спали.
Она открыла дверь кухни, и в это же самое мгновение ее окатила волна страха. Она вдруг поняла, что просто обязана выйти во двор. Бетина огляделась в темноте и заметила отблеск луны, отражавшейся от поверхности старого холодильника, в котором теперь хранились инструменты.
Бетина внезапно осознала, зачем она здесь. Словно под гипнозом, подошла к холодильнику, открыла дверцу и обнаружила внутри своего трехлетнего брата. Он был без сознания.
Это было первое происшествие. Со временем Бетина благоразумно рассудила, что ничего странного в нем не было. Она, должно быть, услышала, как брат выбрался из своей кроватки и вышел во двор. Про холодильник она знала, беспокоилась из-за брата, и поэтому вышла проверить, все ли в порядке.
Но следующее происшествие, которое случилось спустя месяц, объяснить оказалось не так-то просто.
Во сне Бетина снова услышала голос: «Ты должна потушить огонь».
Девушка тотчас же проснулась и села на кровати с отчаянно колотившимся сердцем. Заснуть после этого она, конечно же, не смогла. Надев халат и тапочки, она вышла в коридор: ни дыма, ни огня, – открыла дверь спальни родителей: все спокойно. В комнате брата огня тоже не было. Бетина спустилась на первый этаж и обошла все помещения. Никаких признаков пожара.
«Какая же я дурочка, – подумала Бетина. – Это был всего лишь сон».
Она уже хотела вернуться в постель, когда стены дома сотряслись от взрыва. Слава богу, пожарные прибыли вовремя, и никто из членов ее семьи не пострадал. Оказывается, в подвале взорвался котел.
Третье происшествие случилось через три недели, на этот раз днем.
Бетина читала на заднем дворе, когда увидела странного незнакомца. Он взглянул на нее, и исходившая от него злоба показалась ей почти осязаемой. После этого он отвернулся и исчез из вида, но Бетина никак не могла выбросить его из головы.
Спустя три дня она ждала лифта в одном из офисных зданий. Когда двери кабины распахнулись и Бетина хотела уже войти внутрь, ее взгляд упал на лифтера. Им оказался тот самый человек, которого она видела во дворе. Бетина в испуге попятилась назад, двери закрылись, и кабина поехала вверх, а через несколько мгновений произошла трагедия: она рухнула вниз, и погибли все, кто в ней находился.
В ближайшее воскресенье Бетина отправилась в церковь.
«Боже милостивый, я не знаю, что происходит, и мне очень страшно. Прошу Тебя, направь меня и скажи, чего Ты от меня хочешь».
Ответ пришел той же ночью, когда Бетина спала. Голос произнес единственное слово: «Жертвы».
Бетина обдумывала услышанное всю ночь, а наутро отправилась к священнику. Он внимательно выслушал ее и сказал:
– Что же, радуйся, сестра: тебя избрал Господь.
– Избрал для чего?
– Ты никогда не думала посвятить свою жизнь служению Господу?
– Я… я не знаю. Мне страшно.
Бетина ушла в монастырь, и время показало, что это было правильное решение. Никогда прежде она не испытывала такого счастья…
И вот теперь эта покалеченная жизнью девочка сказала: «Мне страшно».
Преподобная Бетина взяла руку Грасиелы в свою:
– Не торопись, дитя мое: Господь никуда не денется. Обдумай все хорошенько, а потом возвращайся, и мы все обсудим.
Только вот что тут было обдумывать? Все равно идти некуда, рассуждала Грасиела. А тишина – это же великолепно. Какое счастье спать и не слышать тех ужасных звуков. Она посмотрела на мать-настоятельницу и твердо сказала:
– Я с радостью приму обет молчания.
Это произошло семнадцать лет назад, и с того самого момента Грасиела наконец-то обрела покой, посвятив свою жизнь служению Господу. Прошлое ей больше не принадлежало. Господь помог ей забыть все те ужасы, среди которых она выросла. Она стала его невестой и в конце концов присоединится к нему на небесах.
Годы безмолвия летели один за другим, и, несмотря на мучившие Грасиелу время от времени ночные кошмары, ужасные звуки постепенно стирались из ее памяти.
В монастыре ей поручили работу в саду: ухаживать за цветами – чудесными творениями Господа, похожими на крошечные радуги, – и она не переставала любоваться их великолепием. Каменные стены монастыря возвышались подобно горным хребтам, но никогда не давили на нее, а скорее ограждали от ужасного мира, который она больше не желала видеть.
Жизнь в монастыре протекала тихо и безмятежно, и вот теперь все кошмарные сны Грасиелы внезапно стали явью. В ее мир вторглись варвары и выгнали из убежища в мир, от которого она отреклась навсегда. Прежние грехи нахлынули на нее с новой силой, наполняя душу ужасом. Мавр вернулся. Грасиела ощущала его горячее дыхание на своем лице. Отбиваясь от него, она открыла глаза и увидела пытавшегося овладеть ею монаха, который все повторял:
– Не сопротивляйся, сестра. Тебе понравится!
– Мама! – закричала Грасиела. – Мама! Помоги мне!
Глава 7
Лючия Кармин чувствовала себя превосходно, шагая по улицам города с Меган и Терезой. Было так чудесно вновь надеть женскую одежду и ощутить гладкость шелка, нежно ласкающего кожу.
Она перевела взгляд на своих попутчиц. Они явно нервничали, чувствуя себя неуютно и неловко в новой одежде. Женщины выглядели так, словно попали на Землю с другой планеты. «Они здесь совершенно чужие, – думала Лючия. – Не хватает лишь таблички «Нас разыскивают».
Из них трех наибольший дискомфорт испытывала Тереза. За тридцать лет жизни в монастыре в ней укоренилось стремление к скромности и сдержанности, но обрушившиеся на ее голову события все разрушили. Мир, к которому она когда-то принадлежала, теперь казался совершенно чуждым и ненастоящим. Настоящим был монастырь, и сестра Тереза всем сердцем стремилась вновь обрести убежище за его высокими надежными стенами.
Ощущая на себе взгляды мужчин, Меган заливалась краской до корней волос. Она жила в мире женщин так долго, что уже позабыла, как выглядят представители противоположного пола, не говоря уже об их адресованных ей улыбках. Все это сбивало с толку, казалось неприличным, но в то же время… волновало. Мужчины пробуждали в Меган давно похороненные чувства. Впервые за много лет она вновь ощутила себя женщиной.
Они шли мимо уже знакомого им бара, из распахнутых окон которого лилась на улицу громкая музыка. Как ее назвал брат Каррильо? Рок-н-ролл. Очень популярен среди молодежи. Меган что-то насторожило. Когда они проходили мимо кинотеатра, он сказал: «… просто стыд, что сейчас дозволено показывать в кинотеатрах. Этот фильм – настоящая порнография. Все самое сокровенное выставляется напоказ».
Сердце Меган забилось быстрее. Если брат Каррильо провел в монастыре последние двадцать лет, откуда ему известно о рок-музыке и содержании фильма? Что-то здесь было не так.
Повернувшись к Лючии и Терезе, она взволнованно произнесла:
– Нам нужно вернуться.
Не дожидаясь их ответа, Меган развернулась и побежала назад, и они, не говоря ни слова, поспешили за ней.
…Грасиела на полу отчаянно отбивалась и царапалась в попытке освободиться.
– Черт бы тебя побрал! Не дергайся! – Насильник тяжело дышал, уже выбиваясь из сил. Услышав какой-то звук, он вскинул голову, и последним, что он запомнил, был занесенный над его головой каблук.
Меган подняла с пола дрожащую всем телом Грасиелу и крепко обняла.
– Ш-ш-ш. Все хорошо. Он больше тебя не тронет.
Прошло несколько минут, прежде чем Грасиела обрела дар речи.
– Он… он… это было не по моей вине.
В магазин вбежали Тереза и Лючия. Сомнений в том, что здесь произошло, у них не было.
– Ублюдок! – воскликнула Лючия и, схватив с прилавка несколько ремней, крепко связала ему руки за спиной, а потом скомандовала Меган: – Свяжи ему ноги.
Та принялась за работу. Наконец все было сделано, и Лючия удовлетворенно посмотрела на их работу.
– Ну вот. Когда магазин откроется после перерыва, ему придется объяснять, что он здесь делает. – Лючия внимательно посмотрела на Грасиелу. – Ты как?
– Уже ничего…
– А нам лучше поскорее отсюда уйти, – сказала Меган. – Одевайся. Быстро.
Они уже собрались было уходить, но Лючия сказала:
– Подождите-ка минутку.
Она подошла к кассовому аппарату и нажала на рычаг. Внутри оказалось несколько сотен песет. Забрав деньги, она сложила их в один из новеньких кошельков, лежавших на прилавке, а заметив отразившееся на лице сестры Терезы неодобрение, пояснила:
– Взгляните на это вот с какой стороны: если бы Господь не хотел, чтобы мы воспользовались этими деньгами, то не оставил бы их здесь.
Спустя некоторое время они уже сидели в кафе и обсуждали дальнейшие действия.
– Нужно как можно скорее доставить крест в монастырь в Мендавии, – сказала сестра Тереза. – Там мы все будем в безопасности.
«Только не я, – подумала Лючия. – Моя безопасность в швейцарском банке, но чтобы до него добраться, нужно заполучить этот крест».
– Монастырь Мендавии находится к северу отсюда, верно?
– Да.
– Нас наверняка будут искать в окрестных городах, поэтому сегодня лучше заночевать в горах.
Никто ничего не услышит, даже если сестра Тереза будет кричать.
Официантка принесла меню. Взглянув на названия блюд, сестры озадаченно сдвинули брови, но Лючия сразу поняла причину их замешательства. В монастыре они ели то, что перед ними ставили, а теперь им предстояло сделать выбор, что было непросто после стольких лет отсутствия такой возможности.
Сестра Тереза первой нарушила молчание.
– Я… я буду кофе и хлеб.
– Я тоже, – подхватила сестра Грасиела.
Меган же сказала:
– Нам предстоит долгий путь, поэтому я предлагаю заказать что-нибудь более питательное. Яйца, например.
Лючия посмотрела на нее другими глазами и подумала: «С ней надо держать ухо востро», – а вслух сказала:
– Сестра Меган права. Позвольте мне сделать заказ, сестры.
Взглянув в меню, Лючия заказала нарезанные ломтиками апельсины, картофельные лепешки, бекон, горячие булочки, джем и кофе.
– Только побыстрее, мы очень торопимся, – обратилась она к официантке.
Сиеста заканчивалась в половине пятого, город начинал просыпаться, и Лючия хотела убраться отсюда до того, как кто-нибудь обнаружит в магазине Мигеля Коррильо.
Когда официантка принесла еду, сестры с минуту молча смотрели на тарелки, но Лючия поторопила:
– Ешьте, нам надо спешить.
Сестры начали трапезу: сначала робко, а потом со все большим аппетитом, который взял верх над чувством вины.
Проблемы возникли только у сестры Терезы. Она положила в рот кусочек, но тут же выплюнула:
– Нет… я не могу. Это отказ от обета.
– Сестра, ты же хочешь добраться до монастыря, верно? – обратилась к ней Меган. – Для этого потребуются силы, поэтому ты должна поесть.
– Ладно, – неохотно согласилась Тереза. – Так и быть: поем, – но, клянусь, мне это не доставит никакого удовольствия.
– Это ничего, сестра. Ешь, – едва не рассмеялась Лючия.
Когда с обедом было покончено, Лючия расплатилась деньгами, что взяла из кассы, и сестры вышли под жаркое вечернее солнце. Улицы начали оживать, магазины постепенно открывали свои двери для покупателей. «Этого мерзавца Каррильо, наверное, уже нашли», – подумала Лючия. Им с Терезой не терпелось оказаться за пределами города, но Грасиела и Меган шли медленно, завороженные окружающими их звуками, запахами и видами.
Лишь когда они очутились на окраине и направились в сторону возвышавшихся в отдалении гор, Лючия позволила себе немного расслабиться. Сестры шли строго на север, поднимаясь все выше, медленно продвигаясь по гористой местности. Лючию так и подмывало спросить сестру Терезу, не хочет ли та передать ей на время свою ношу, но она боялась, что какое-нибудь неосторожное слово вызовет у монахини подозрения.
Когда женщины вышли на небольшую ровную поляну, окруженную со всех сторон деревьями, Лючия сказала:
– Можем заночевать здесь, а утром отправимся в Мендавию.
Сестры с готовностью согласились.
Солнце медленно плыло по голубой равнине неба, на поляне царила тишина, нарушаемая лишь убаюкивающими звуками лета. Наконец наступила ночь.
Женщины улеглись на зеленой траве. Лючия не смыкала глаз и, прислушиваясь к тишине, ждала, пока ее попутчицы крепко заснут, чтобы начать действовать. Сестре Терезе почему-то не спалось. Она испытывала странные чувства, лежа под усыпанным звездами небом рядом с другими сестрами. Теперь все они обрели имена, лица и голоса, и она опасалась, что Господь накажет ее за это запретное знание, поэтому чувствовала себя ужасно потерянной.
Сестра Меган, слишком взволнованная событиями прошедшего дня, тоже никак не могла заснуть. Как она догадалась, что монах – мошенник? И как у нее хватило храбрости броситься на помощь сестре Грасиеле? Не в силах удержаться, она улыбнулась, довольная собой, хотя и знала, что гордыня – грех.
И только Грасиела спала: происшествие в магазине вымотало ее морально и физически, хотя ворочалась и металась во сне.
Лючия Кармин лежала и ждала. Прошло часа два, прежде чем она осмелилась подняться с земли и тихо подкрасться в темноте к сестре Терезе, чтобы забрать сверток и исчезнуть, но увидела, что та стояла на коленях и молилась. Проклятье!
Лючии пришлось вернуться на свое место и улечься на землю в попытке набраться терпения. Не будет же сестра Тереза молиться всю ночь, ведь ей необходимо хоть немного поспать.
Лючия начала обдумывать план действий. Денег из кассы магазина должно хватить, чтобы купить билет на автобус или поезд до Мадрида. А уж там будет несложно найти ростовщика. Лючия представила, как зайдет в контору и протянет ему золотой крест. Ростовщик, скорее всего, заподозрит, что крест ворованный, но это не столь важно. У него наверняка найдутся клиенты, которые пожелают его купить.
Лючия даже мысленно проговорила, что ему скажет и что он ответит.
– Я дам вам за него сто тысяч песет.
– Скорее я пойду торговать собой.
– Сто пятьдесят тысяч.
– Уж лучше я его расплавлю и спущу в сточную канаву.
– Двести тысяч песет. Это последняя цена.
– Это грабеж средь бела дня, но я принимаю ваше предложение.
Ростовщик алчно протянет руки.
– Но при одном условии.
– Что за условие?
– Я потеряла паспорт. Может, знаете, кто сумеет сделать мне новый? – Говоря это, она будет крепко сжимать крест в руках.
Ростовщик немного помедлит, но потом все же произнесет:
– Есть у меня один знакомый: наверняка поможет.
На этом они ударят по рукам. И она отправится в Швейцарию, навстречу свободе.
Лючия вспомнила слова отца: «Там столько денег, что тебе не потратить и за десять жизней».
Глаза девушки стали закрываться: день был таким долгим, – но тут до ее слуха донесся издалека звон колокола. Этот звук навеял воспоминания о другом месте, другом времени…
Глава 8
Таормина, Сицилия
Каждое утро ее будил звон колоколов церкви Сан-Доменико, расположенной на вершине горы в Таормине, горах Пелоритани. Лючии нравилось неспешно просыпаться и по-кошачьи томно потягиваться в постели. Она не спешила открывать глаза, зная, что вспомнит нечто чудесное. Что же это? Вопрос словно дразнил ее, но она отгоняла его прочь, желая растянуть удовольствие. А потом ее охватывала всепоглощающая радость. Она – Лючия Кармин, дочь Анжело Кармина. Этого было достаточно, чтобы сделать счастливым любого человека на земле.
Они жили на большой сказочной вилле с таким количеством слуг, что пятнадцатилетней девочке непросто было сосчитать. Каждое утро телохранитель отвозил Лючию в школу на бронированном лимузине. Она росла в окружении самых красивых нарядов и самых дорогих игрушек во всей Сицилии, что неизменно вызывало зависть одноклассников.
Главным в жизни Лючии всегда был отец. Она считала его самым красивым мужчиной на свете: невысокий, но крепко сложенный, он обладал правильными чертами лица и прожигающим насквозь взглядом излучающих силу карих глаз. Из троих детей дочь была его любимицей, он обожал свою девочку. И Лючия его боготворила. Когда священник в церкви говорил о Боге, она неизменно представляла своего отца.
По утрам он подходил к ее кровати и говорил:
– Пора собираться в школу, faccia d’angelo[24].
Конечно же, Лючия знала, что это неправда: она никогда не была красавицей. Привлекательной – возможно, но не более. Беспристрастно разглядывая собственное отражение в зеркале, она видела девушку с чистым овальным лицом, ровными белыми зубами, решительным подбородком, чувственными пухлыми губами и проницательными темными глазами. Но если лицо Лючии и не дотягивало до стандартов красоты, то тело с лихвой восполняло этот пробел. В пятнадцать лет она обладала формами взрослой женщины: округлой упругой грудью, тонкой талией и роскошными бедрами, маняще покачивавшимися при ходьбе.
– Придется подыскать тебе мужа, – поддразнивал частенько Лючию отец. – Ведь скоро ты начнешь сводить мужчин с ума, моя маленькая шалунья.
– Если только он будет таким, как ты, папа. Но таких больше нет.
Анжело смеялся:
– Не переживай. Мы подыщем тебе самого лучшего. Ты родилась под счастливой звездой, и однажды узнаешь, каково это – утопать в объятиях любящего мужчины.
Лючия заливалась краской смущения:
– Ну, папа, что ты говоришь…
Вообще-то она уже прекрасно знала, что такое мужские объятия. Бенито Патас, один из ее телохранителей, приходил к ней в спальню, когда отца не было в городе. Оттого что занимается любовью в собственном доме, Лючия ощущала невероятный выброс адреналина. Ведь она знала, что отец убьет их обоих, если вдруг тайна его любимицы раскроется.
Бенито было за тридцать, и ему льстило то обстоятельство, что красивая юная дочка могущественного Анжело Кармина обратила на него внимание.
– Все было так, как ты себе и представляла? – спросил он ее после их первой ночи.
– О да, – выдохнула Лючия. – Даже лучше. – И подумала: «Он, конечно, не так хорош, как Марио, Тони или Энрико, но лучше Роберто и Лео». Имена остальных она не смогла припомнить.
Когда ей исполнилось тринадцать, Лючия решила, что пора покончить с девственностью. Изучив свое окружение, она сочла, что счастливчиком станет Паоло Костелло – сын личного врача Анжело Кармина. Высокий и сильный, семнадцатилетний Паоло был звездой футбола в своей школе. Лючия безумно влюбилась в него с первого взгляда и старалась как можно чаще попадаться ему на глаза. Паоло и в голову не приходило, что эти многочисленные якобы случайные встречи были тщательно спланированы. Ведь он относился к привлекательной дочери Анжело Кармина как к ребенку. И вот как-то жарким августовским днем Лючия решила, что не может больше ждать, и позвонила Паоло под предлогом, что ее отец хотел бы с ним поговорить и предлагает встретиться сегодня после обеда в их садовом домике у бассейна.
Паоло с благоговением относился к Анжело Кармину, хотя даже не представлял, что этот могущественный мафиози знает о его существовании, поэтому был удивлен и польщен одновременно.
– С удовольствием приду, – ответил он Лючии. – В котором часу он меня ждет?
– В три.
Время сиесты, когда все вокруг будут погружены в сон. Садовый домик располагался в уединенном месте в дальнем конце обширных владений Анжело. К тому же его самого не было в городе. Так что им никто не помешает.
Паоло приехал в точно назначенное время. Ворота были открыты, и он направился прямиком к бассейну. У закрытой двери домика он остановился и постучал.
– Синьор Кармин? Можно?
Ответа не последовало, и Паоло, взглянув на часы, осторожно открыл дверь и вошел внутрь. Помещение утопало в полумраке.
– Синьор Кармин?
К нему двинулась чья-то тень.
– Паоло…
Это был голос Лючии.
– Твой отец здесь?
Девушка подошла ближе, и Паоло, увидев, что она совершенно голая, ахнул.
– Какого?..
– Я хочу, чтобы мы занялись любовью.
– С ума сошла! Ты совсем еще ребенок. Я пошел. – Паоло направился к двери.
– Давай, уходи. А я скажу отцу, что ты меня изнасиловал.
– Ты этого не сделаешь.
– Сомневаешься?
Паоло остановился. Если Лючия действительно сделает то, о чем говорит, то его участь будет предрешена: Анжело Кармин его просто кастрирует.
Он решил попытаться образумить Лючию, но никакие доводы на нее не действовали.
Когда она подошла к нему, схватила его руку и положила к себе между бедер, он понял, что у него нет выбора.
В полумраке Паоло видел округлые холмики ее грудей, тугие соски и кудрявые темные волосы, покрывавшие лоно. Ну как тут устоишь?
Лючия подвела его к дивану, помогла освободиться от одежды, встала на колени, обхватила губами его плоть и легонько втянула в себя. Паоло не сомневался, что она уже проделывала подобное и прежде, поэтому не церемонясь подмял ее под себя и погрузился в гостеприимные глубины ее лона, Лючия крепко обхватила его за плечи и жадно обвила ногами. «О Господи, она восхитительна!» – промелькнуло у Паоло.
Лючия пребывала на вершине блаженства. Ей казалось, что именно для этого она и рождена. Интуиция ей подсказывала, как доставить удовольствие ему и как удовлетворить себя. Все ее тело было охвачено огнем страсти. Она взмывала все выше и выше, чувствуя приближение развязки, и когда это случилось, громко вскрикнула от охватившей ее радости.
Уставшие, они лежали рядом, стараясь отдышаться, потом Лючия прервала молчание.
– Завтра в это же время.
Когда Лючии исполнилось шестнадцать, Анжело Кармин решил, что ей пора посмотреть мир, и в сопровождении престарелой тетушки Розы отправил ее во время школьных каникул на Капри, остров Искья, в Венецию, Рим и дюжину других мест.
Перед отъездом между дочерью и отцом состоялась беседа.
– Ты должна быть культурной, а не такой невеждой, как твой отец. Путешествие расширит твой кругозор. На Капри тетушка Роза покажет тебе картезианский монастырь Сан-Джакомо, виллу Сан-Микеле, Морской дворец…
– Да, папа, с радостью.
– В Венеции ты увидишь собор Святого Марка, дворец Дожей, церковь Сан-Джорджо-Маджоре и Галерею академии.
– Хорошо, папа.
– Рим – это мировая сокровищница. Тебе непременно нужно посетить Ватикан, собор Санта-Мария-Маджоре и, конечно же, виллу Боргезе.
– Обязательно.
– А Милан! Ты обязательно должна сходить на концерт в консерваторию. Я закажу билеты в «Ла Скала» для тебя и тетушки Розы. Во Флоренции тебе непременно нужно сходить в Академию изящных искусств и галерею Уффици. К тому же там множество других музеев и церквей.
– Да, папа.
Несмотря на тщательно спланированную поездку, Лючия умудрилась не посетить ни одну из этих достопримечательностей. Тетушка Роза настаивала на ежедневной сиесте и рано ложилась спать по вечерам. Лючия соглашалась, однако в то время, когда тетушка спала, бегала на танцы в отель «Куисизана» на Капри, каталась в карете, запряженной лошадью, в украшенной перьями шляпе, развлекалась со студентами в гавани Марина-Пиккола, выезжала на пикники в Баньи-ди-Тиберио, поднималась на фуникулере на Анакапри, где познакомилась с группой французских студентов, а потом отправилась выпить на площадь Умберто I.
В Венеции красивый гондольер приглашал Лючию на дискотеку, а местный рыбак – на рыбалку в Кьоджу. А тетушка Роза спала…
В Риме Лючия пила вино из Апулии, и не пропустила ни одного самобытного ресторана вроде «Марте», «Раньери» и «Джиджи Фаци».
Куда бы ни отправилась, Лючия везде находила неприметные маленькие бары и ночные клубы, заполненные романтичными привлекательными мужчинами, думая при этом: «Ты был прав, дорогой папочка: путешествия расширили мой кругозор». В постели Лючия научилась говорить на разных языках и решила, что такие уроки ей больше по душе, гораздо интереснее, чем в школе.
Вернувшись в Таормину, Лючия рассказала своим ближайшим подругам, как гуляла голышом в Неаполе, напилась в стельку в Салерно, осталась одна с кучей мужиков во Флоренции и переспала с кем-то в Лукке.
Сицилия оказалась потрясающим местом, островом греческих храмов, римских и византийских амфитеатров, часовен, арабских бань и швабских замков.
Палермо оказался живописным шумным городом, и Лючия с удовольствием бродила по району Кальса и старому арабскому кварталу, заходила в театр марионеток «Опера деи Пупи». Но более всего она любила Таормину – город, в котором родилась. Расположенный на горе, с которой открывался восхитительный вид на Ионическое море, он напоминал открытку. Город изобиловал магазинами одежды, ювелирными салонами, барами и живописными старыми площадями, ресторанчиками и великолепными отелями вроде «Эксельсиор палас» и «Сан-Доменико».
Извилистая узкая дорога, ведущая к городу из морского порта Наксос, считалась очень крутой и опасной, но Лючия ездила по ней с того самого момента, как получила машину в подарок на свое пятнадцатилетие, нарушая все возможные правила дорожного движения, и ни разу не была остановлена карабинерами: ведь она дочь Анжело Кармина.
Для тех, кто оказывался слишком смел или слишком глуп, чтобы начинать расспросы, синьор Кармин занимался недвижимостью. Отчасти это было так, поскольку семья Кармин владела виллой в Таормине, домом на озере Комо в Черноббио, шато в Гштааде, апартаментами в Риме и огромной фермой в его окрестностях, но занимался Кармин и другим, менее респектабельным делом. Он был владельцем дюжины публичных домов, двух казино, шести кораблей, перевозивших кокаин с плантаций в Колумбии, и других прибыльных заведений, да к тому же занимался ростовщичеством. Анжело Кармин был крестным отцом сицилийской мафии, а посему его богатство никого не удивляло. История его жизни служила источником вдохновения для многих, поскольку демонстрировала, как бедный сицилийский крестьянин, если он амбициозен и трудолюбив, может стать богатым и преуспевающим.
Кармин начал свою карьеру посыльным у мафиози еще в возрасте двенадцати лет, а в пятнадцать служил вышибалой у ростовщика: выколачивал деньги из должников. В шестнадцать он совершил первое убийство, что стало его боевым крещением. Вскоре после этого он женился на матери Лючии Анне. В последующие несколько лет Кармин взобрался по шаткой карьерной лестнице до самого верха, выстлав себе путь многочисленными трупами. Он сильно изменился, в то время как Анна так и осталась простой крестьянской девушкой, на которой он когда-то женился. Она родила ему троих прекрасных детей, и на этом ее миссия в жизни Анджело была закончена. Словно поняв, что ей больше нет места в этой семье, она покорно покинула этот мир, постаравшись сделать это как можно деликатнее, чтобы не доставить никому лишних хлопот.
Арналдо и Виктор принимали активное участие в семейном бизнесе, и Лючия с детства обожала подслушивать под дверью захватывающие беседы отца с братьями о том, как они перехитрили и победили своих врагов. Отец представлялся Лючии рыцарем в сверкающих доспехах, и ничего дурного в том, чем занимались ее отец и братья, она не видела, напротив: они же помогали людям. Если им нравилось играть, зачем это запрещать с помощью каких-то дурацких законов? Если мужчины покупали проституток, чтобы получить удовольствие, то почему не помочь им в этом? А как великодушны ее отец и братья – давали взаймы тем несчастным, кому отказали в ссуде бесчувственные банкиры. По мнению Лючии, отец и братья были самыми образцовыми гражданами, и доказательством тому служили друзья отца. Раз в неделю Анжело Кармин устраивал на своей вилле грандиозные званые обеды. И какие люди собирались за его столом! В доме семейства Кармин бывал мэр, члены городского правления и судьи. С ними соседствовали кинозвезды и оперные певцы, частенько захаживал начальник полиции и настоятель местной церкви. Несколько раз в год в доме Анжело Кармина появлялся сам губернатор.
Жизнь Лючии представляла собой идиллию в круговороте вечеринок, среди красивой одежды и драгоценностей, дорогих машин и слуг, в окружении могущественных друзей, но в феврале, в ее двадцать третий день рождения, всё внезапно изменилось.
Всё началось довольно безобидно. На виллу повидать ее отца приехал его друг, шеф полиции, в сопровождении лейтенанта.
– Прошу меня простить, padrone[25], – извинился шеф полиции, – это всего лишь простая формальность, но я не могу нарушить приказ комиссара. Будьте любезны проследовать со мной в полицейский участок, а я прослежу, чтобы вы вернулись домой вовремя на празднование дня рождения своей дочери.
– Без проблем, – улыбнулся Кармин. – Сочту своим долгом. Это тот новый комиссар, которого назначил президент? Слышал, очень ретивый малый. Энергичный бобер, как говорят наши друзья американцы.
– Боюсь, вы правы, – вздохнул шеф полиции. – Но не волнуйтесь. На нашем с вами пути не раз встречались подобные занозы в заднице, а, padrone? Как пришел, так и уйдет.
Рассмеявшись, приятели поехали в полицейский участок.
В тот день Анжело Кармин так и не вернулся домой на праздник дочери. На следующий день тоже. Он вообще больше не увидел ни одного из своих домов. Суд предъявил ему обвинение, состоявшее из сотни пунктов и включавшее в себя убийства, торговлю наркотиками, содержание притонов, поджоги и множество других преступлений. Прошение о внесение залога было отклонено. Полицейская сеть накрыла всю преступную организацию Кармина. Он рассчитывал, что могущественные друзья на Сицилии помогут ему опровергнуть все обвинения, но вместо этого его посреди ночи перевезли в Рим, в печально известную тюрьму «Реджина Коэли». Его поместили в крошечную камеру с зарешеченными окнами, единственной отопительной батареей, узкой койкой и отверстием в полу вместо туалета. Это его возмутило больше всего. Даже в страшном сне Анжело Кармин не мог представить себе подобного унижения.
Поначалу он был уверен, что адвокат Томмазо Конторно непременно вытащит его под залог, тем более что тот успокоил его, что все будет в порядке.
Однако оптимизм адвоката был преждевременным: следователь отказался от предложенной взятки, а за два дня до начала процесса Анжело Кармина и его соратников мафиози перевезли в «Ребибиа приджионе» – тюрьму с усиленной охраной в двенадцати милях от Рима, а сам зал суда был похож на основательно укрепленный бункер. Сто шестьдесят задержанных доставили туда по подземному туннелю в наручниках и цепях, после чего поместили в тридцать клеток из стали и пуленепробиваемого стекла. И внутри, и снаружи зала заседаний стояли вооруженные охранники, а наблюдателей обыскивали перед тем, как впустить внутрь.
Когда Анжело Кармин вошел в зал суда, его сердце подскочило от радости, поскольку в суде председательствовал Джованни Бушетта, который работал на него последние пятнадцать лет и часто бывал у него в гостях. Теперь Кармин не сомневался, что фортуна на его стороне.