Мысли о мире во время воздушного налета бесплатное чтение
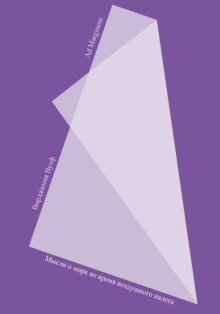
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2024
От издателя
Первая, почти в два раза меньшая по объему, версия этого сборника выходила уже более десяти лет назад под названием «Кинематограф», что ввело тогда многих читателей в заблуждение. Новый состав отправляется в типографию под вывеской «Мысли о мире во время воздушного налета», одного из последних публичных выступлений писательницы (предшествующего реальной бомбардировке, разрушившей лондонский дом Вулфов и ту самую свою комнату менее чем полгода спустя). Оно также может увести внимание в другую сторону и добавить этим статьям излишней определенности. Дабы противопоставить определенности, безусловно, присутствующей в названии, мимолетность, создающую внутреннюю динамику опытов Вулф, подчеркнем его произвольность, которая демонстрирует не только обстоятельства написания, но и воздушность ее мысли.
Большинство эссе, вошедших в эту крайне субъективную и случайную подборку, не были изданы при жизни гранд-дамы модернистской литературы Вирджинии Вулф (1882–1941). Все они относятся к зрелому периоду творчества, написаны уже признанным творцом, после принесшего первую серьезную славу романа «Мисс Дэллоуэй» и книги «Обыкновенный читатель», в которую вошли эталонные эссе – размышления о книгах, писателях и литературе. Впрочем, некоторое общее движение вошедшие в эту книжечку статьи объединяет: это все тексты-мгновения, трудно уловимые наброски, картины и интуиции нового века, в которых Вулф проявила себя как чуткий регистратор современности, посвящены они чему угодно, но не литературе в конвенциональном смысле слова. Модернизм, modernity здесь не столько художественная стратегия, сколько сама реальность, пронизываемая новой чувственностью, складывающейся под влиянием новых медиа, мировой войны и урбанизации. Предметом медитаций Вулф становятся размышления о кинематографе, свет электрических фонарей, звуки машин и шум лондонских улиц, наблюдения за рождением актуального медиапространства, культуриндустрии и, конечно, открытие феминистической позиции, позволяющей по-новому взглянуть и на мир, и на себя. Еще одно и, пожалуй, самое важное общее свойство этих текстов – они появились на русском в результате конгениального творческого усилия переводчицы Светланы Силаковой. Те немногие эссе, которые уже существовали на русском, переведены для этого издания заново и звучат так, как, кажется, до этого Вулф еще не звучала. Светлане Силаковой удалось передать ту амбивалентность, флюидность, которая есть и условие возникновения, и главное содержание письма Вулф. Проект перевода продолжается и можно надеяться, что через пару лет эта книга дополнится новыми текстами и тем самым будет длиться во времени как летний вечер в Сассексе, увиденный из почти недвижущейся в пейзаже машины.
Михаил Котомин
Три картины
Написано в июне 1929 года
Картина первая
Невозможно не видеть картин, оглянувшись вокруг; понимаете, если мой отец был кузнец, а ваш – пэр Англии, мы с вами обязательно будем картинами в глазах друг дружки. И никакими усилиями не вырвемся из рам, хотя оба произносим абсолютно естественные для нас слова. Вы видите меня в дверях кузницы: как я стою с подковой в руках, прислонившись к косяку, – видите и думаете, проезжая мимо: «Картинно!» А я увижу, как вы вальяжно расселись в своем автомобиле и, кажется, вот-вот милостиво кивнете простолюдинам, увижу и подумаю: вот живая картина старой роскошной аристократической Англии! Конечно, мы оба глубоко заблуждаемся, но наши заблуждения неизбежны.
Только что, у поворота дороги, я увидела одну такую картину. Она могла бы называться «Возвращение моряка» или как-то в этом роде. Статный молодой моряк с узелком; девушка берет его под руку; соседи толпятся вокруг; буйство цветов в саду коттеджа; проезжая мимо, читаешь под картинкой пояснительный текст: мол, моряк вернулся из плавания в Китай, и в гостиной его ждет обильное угощение, а в узелке лежит подарок для молодой жены, а жена скоро родит ему первенца. Всё хорошо, всё как надо, всё так, как и должно быть, – вот какое чувство вселяет эта картина.
Что-то здоровое, что-то отрадное содержалось в зрелище этого безмерного счастья, и жизнь вдруг показалась приятнее и завиднее, чем прежде.
С этой мыслью я проехала мимо, стараясь впитать картину целиком, насколько это было в моих силах: подметила цвет ее платья и цвет его глаз, увидела кошку песочной масти, которая выскользнула из дверей.
Какое-то время эта картина плавала в моих глазах, и сквозь нее почти всё казалось намного ярче, теплее и проще, чем обычно; а что-то еще – пустяшным; а что-то третье – неправильным, а что-то четвертое – правильным и более осмысленным, чем прежде. В тот день и назавтра эта картина приходила мне на ум в самые неожиданные моменты, и тогда думалось с завистью – с белой завистью – о счастливом моряке и его жене; чем-то они заняты в эту минуту, о чем разговаривают? Фантазия подбрасывала другие картины, которые отпочковались от первой: вот моряк пилит дрова, достает воду из колодца, и говорят они о Китае; вот девушка ставит его подарок на каминную доску, чтобы видели все, кто ни зайдет, и она шьет вещи для малыша, и все двери и окна распахнуты настежь, в сад, чтобы птицы порхали и пчелы жужжали, и Роджерс – так его фамилия – прямо выразить не может, до чего ему всё это приятно после китайских морей. А сам покуривает трубку, выставив ноги в сад.
Картина вторая
Посреди ночи по деревне прокатился громкий крик. Затем послышалось какое-то глухое шарканье, и больше ничего – мертвая тишина. Из окна ничего не видать, кроме ветки сиреневого куста на той стороне улицы, ветки, обвисшей неподвижно и жутко. Ночь была душная, безветренная. Безлунная. После крика всё приобрело зловещий оттенок. Кто кричал? Отчего она кричала? Голос был женский, но какое-то переживание, дошедшее до крайности, сделало его почти бесполым, почти бессмысленным: он словно бы не выражал никаких чувств. Казалось, сама человеческая натура возопила против какой-то несправедливости, какого-то невыразимого ужаса. Тишина была мертвая. Звезды сияли, не изменившись ни капельки. Поля раскинулись недвижно. Ни одно дерево не шевелилось. Но всё казалось виновным, приговоренным к суровой каре, зловещим. Появилось чувство, что надо что-то сделать. Вот-вот засияет какой-нибудь огонек – пусть он дрожит над землей, взволнованно приближаясь. Пусть кто-нибудь прибежит с того конца улицы. Пусть в окнах коттеджа загорится свет. А потом, пожалуй, – потом пусть послышится другой крик, но не столь бесполый, не столь бессловесный, а крик облегчения, успокоения. Но свет всё не загорался. Не слышались шаги. Второго крика не было. А первый растворился, и мертвая тишина длилась.
Лежишь в темноте, напряженно прислушиваясь. Это был только голос. Невозможно увязать его с какой бы то ни было причиной. Не возникла ни одна картина, способная истолковать его, пролить на него свет. Но когда мрак наконец-то развеялся, стал виден только смутный человеческий силуэт, почти бесформенный, воздевающий гигантскую руку, тщетно пытаясь заслониться от какой-то чудовищной несправедливости.
Картина третья
Хорошая погода установилась надолго. Если бы не тот одинокий крик в ночи, могло бы показаться, что наша планета зашла в гавань; что жизни надоело идти полным ветром[1]; что жизнь добралась до какой-то тихой бухты, встала на якорь и почти бездвижно замерла посреди зеркальной глади. Но голос не унимался. Куда ни пойди – допустим, прогуляться к вершинам дальних холмов – под поверхностью самых обыденных вещей словно бы что-то встревоженно ворочается, и тогда покой и стабильность, окружающие тебя со всех сторон, кажутся немножко наигранными. На склоне холма сгрудились овцы; долина образует длинные, сужающиеся к концу уступы, точно каскад из ровных гладких волн. Набредаешь на уединенные фермы. Во дворе катается по земле щенок. В зарослях дрока резвятся бабочки. Тишь да гладь, спокойнее и быть не может. И всё же тебя не оставляет мысль: эту тишину вспорол крик; в ту ночь вся эта красота была соучастницей преступления; она согласилась; согласилась хранить невозмутимость, сиять прелестью, как сияла; в любой момент ее вновь могут разъять на части. Эта благостность, эта безопасность – только фасад.
И тогда, чтобы ободрить себя, прогнать тревожное настроение, цепляешься за картину «Возвращение моряка». Снова видишь ее всю целиком, и всплывают мельчайшие подробности – синева ее платья, тень дерева с желтыми цветами, – которыми ты не дополняла ее прежде. Как стояли они у двери коттеджа, он – с узелком, перекинутым через плечо, она – легко-легко касаясь пальцами его рукава. А из двери выскользнула кошка песочной масти. И так, постепенно рассматривая каждую деталь картины, мало-помалу убеждаешь себя: если что и скрыто под зримой поверхностью вещей, то скорее уж этот покой, отрада и добросердечие, чем какое-то коварство, чем зловещие пучины. Овцы на пастбище, волны долины, ферма, щенок, пляска бабочек – все они внутренне таковы, какими кажутся снаружи. Поворачиваешь, направляешься обратно домой, и думаешь только о моряке и его жене, и рисуешь себе картины из их жизни, одну за другой, чтобы картины счастья и приволья, одна за другой, заслонили собой эту тревогу, этот ужасающий крик: пусть налягут на него, заглушат всей своей толщей, раздавят его в порошок.
И вот наконец деревня и погост, через который нужно пройти; и, входя в его ворота, думаешь, по своему обыкновению: «Как тут мирно», думаешь о тени под тисами, истертых надгробиях, безымянных могилах. Кажется, здесь сама смерть жизнерадостна. И верно: гляньте, какова картина! Мужчина копает могилу, а дети устроили пикник прямо на краю ямы, где он работает. Из могилы вылетают бурые комья глины, дети, развалившись на земле, жуют хлеб с вареньем, запивая молоком из больших кружек. Жена могильщика, белокурая толстушка, привалилась спиной к надгробию, ее расстеленный фартук заменяет стол. Между кружек и блюдец упало несколько комьев. Я спрашиваю, кого это хоронят. Что, старый мистер Додсон наконец испустил дух? «О нет! Это для молодого Роджерса, для моряка, – отвечала женщина, пристально глядя на меня. – Позавчера ночью помер, от какой-то заморской лихорадки. Разве вы не слышали, как его жена?.. Она выбежала на улицу, вскрикнула… Эй, Томми, да ты же весь изгваздался глиной!»
Какова была картина!
Кинематограф
Впервые опубликовано в Arts в июне 1926 года
Говорят, в нас уже ничего не сохранилось от дикарей, а наша цивилизация – точно почти докуренная сигарета, говорят, что всё уже сказано и больше не к чему стремиться. Но философы, которые так говорят, наверняка забыли о кинокартинах. Они ни разу в жизни не видели, как дикари XX века смотрят кино. Никогда эти философы не усаживались перед экраном, никогда не задумывались над тем, что, несмотря на все предметы одежды, стягивающие их тела, несмотря на ковры под их ступнями, сами они не так уж далеко ушли от голых людей с горящим взглядом, которые азартно колотят железкой об железку и различают в этом лязге предчувствие музыки Моцарта.
Правда, в случае с кинематографом железки подверглись настолько искусной обработке и настолько обросли инородными наносами, что почти ничего не расслышишь отчетливо. Только шум да гам, толчея да катавасия. Мы заглядываем в котел, где словно бы варятся на медленном огне обрывки и ошметки самых разных форм и вкуса; иногда из пучины всплывает какой-то исполинский силуэт и, кажется, уже готов выскочить из хаоса наружу. Между тем на первый взгляд искусство кинематографа кажется незамысловатым и даже глупым. Вот король здоровается за руку с футболистами, вот яхта сэра Томаса Липтона[2], а вот Джек Хорнер приходит первым на Больших Национальных скачках[3]. Взгляд слизывает всё это мгновенно, а мозг, чувствуя приятную щекотку, ограничивается созерцанием происходящего, не понукая себя к размышлениям. Ибо обычный глаз, глаз английский, не склонный эстетствовать, – это несложный механизм, который оберегает тело от падения в угольные бункеры[4], снабжает мозг игрушками и сладостями, чтобы не капризничал, и вообще берет на себя обязанности надежной, опытной няньки, пока ум сам не сочтет, что пора просыпаться. Сами посудите, как удивится мозг, если посреди сладкой дремы его внезапно растолкают и попросят о помощи? У глаза трудности. Глаз нуждается в подсказках. Глаз говорит мозгу: «Не пойму, что тут творится. Без тебя не обойтись!» Вместе они рассматривают короля, яхту, скакуна, и мозг сразу подмечает, что все эти существа и предметы обрели свойство, которым не наделен обыкновенный фотоснимок действительности. Они стали красивее, в том смысле, в каком красивы картины, но заодно… попробуем назвать их (наш лексикон, увы, слишком скуден) «более реальными» или «реальными, но по-иному», не похожими на то, как мы воспринимаем реальность нашей повседневной жизни. Мы зрим их такими, каковы они, когда нас рядом нет. Видим жизнь такой, какова она, когда мы к ней непричастны. Нас словно бы изъяли из реального существования со всеми его красотами, вытащили наружу, и теперь мы предаемся созерцанию. Конь не сшибет нас с ног. Король не прикоснется к нашим рукам. Волна не замочит нам ступни. Пока мы пребываем на этой выгодной смотровой площадке, пока мы наблюдаем со стороны за нелепыми выходками своих собратьев, у нас вдруг появляется свободное время для того, чтобы испытать жалость и изумление, сделать обобщения, приписать одному человеку свойства всего рода человеческого. Глядя, как плывет яхта, как разбиваются о ее корпус волны, мы находим время для того, чтобы впустить красоту в широко распахнутые двери своего сознания и на самом пике поймать себя на странном ощущении: эта красота уцелеет, эта красота будет цвести вне зависимости от того, видим мы ее или нет. Да что там: мы же видим то, что случилось десять лет назад, как нам поясняют. Зрим мир, уже поглощенный волнами. Из Аббатства выходят невесты – сегодня они уже матери; витийствуют шаферы – сегодня они умолкли; плачут матери невест; веселятся гости; что-то мы приобрели, а что-то другое – потеряли, и всё прошло и быльем поросло. Прямо у подножия всей этой невинности и невежества разверзла свою пропасть война, но именно так мы танцевали и выписывали пируэты, трудились и вожделели, именно так сияло солнце и неслись по небу облака, неслись до последней минуты.
Но кинофабрикантов явно не устраивают такие самоочевидно интересные темы, как ход времени или способность реальности нашептывать нам глубокие мысли. Полет чаек, суда на Темзе, принц Уэльский, Майл-Энд-роуд и Пикадилли-сёркус – всё это они презирают. Им хочется всё усовершенствовать, перекроить, создать собственные произведения искусства, и это естественно, ибо, казалось бы, их власть огромна. Казалось бы, множество разных искусств уже толпится вокруг, с готовностью предлагая свою помощь. Например, литература. Все знаменитые романы всего мира, их общеизвестные персонажи, их знаменитые сцены, кажется, прямо просятся на экран. Что может быть легче и проще? Кинематограф жадно накинулся на эту добычу и по сей день питается преимущественно телом своей несчастной жертвы. Но плоды его трудов – катастрофа как для кинематографа, так для литературы. Противоестественный союз. Глаз и мозг тщетно пытаются действовать в связке, но их безжалостно тянут в разные стороны. Глаз говорит: «Вот идет Анна Каренина». Перед нами возникает пышная дама в черном бархате и жемчугах. Мозг, однако, возражает: «Это такая же Анна Каренина, как королева Виктория». Ибо мозг знает Анну почти исключительно по фибрам ее души: ее очарованию, ее страсти, ее отчаянию. А кинематограф делает упор исключительно на ее зубах, жемчугах и бархате. Затем «Анна влюбляется во Вронского» – иначе говоря, дама в черном бархате падает в объятия некого господина в военном мундире, и они целуются очень сочно, с крайней медлительностью и нескончаемой жестикуляцией на софе в великолепно обставленной библиотеке, пока садовник – так уж случайно вышло – стрижет газон. Так, шатаясь и спотыкаясь, мы пробираемся через самые знаменитые в мире романы. Так мы разжевываем их, излагая немудрящими словами, которые словно бы записаны корявым почерком незадачливого школьника. Поцелуй – это любовь. Разбитая чашка – ревность. Ухмылка – счастье. Катафалк – смерть. Ничто из этого не имеет ни малейшего отношения к роману, написанному Толстым, и только когда мы опускаем руки, перестав тщетно искать соответствия между картинками и книгой, то догадываемся по какой-нибудь случайной сцене – например, с садовником, стригущим газон, – что мог бы совершить кинематограф, если бы его обязали обходиться собственными силами.