Бог, которого не было. Красная книга бесплатное чтение
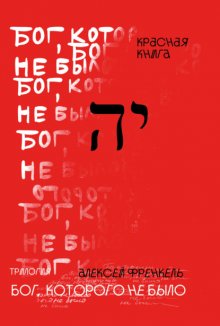
© Френкель А. Р., текст, художественное оформление, 2022
© Иванов И., иллюстрации, 2023
© Петрова А., иллюстрации, 2024
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «Рипол классик», 2024
* * *
Продолжение книги