Собачьи годы бесплатное чтение
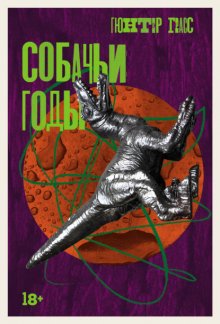
Переводчик: Михаил Рудницкий
Дизайн обложки: Петр Банков
Издатель: Павел Подкосов
Главный редактор: Татьяна Соловьёва
Руководитель проекта: Мария Ведюшкина
Арт-директор: Юрий Буга
Корректоры: Татьяна Мёдингер, Зоя Скобелкина
Верстка: Ольга Макаренко
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Günter Grass: Hundejahre
© Steidl Verlag, Göttingen 1993 (1963)
© Günter und Ute Grass Stiftung, Lübeck
All rights reserved
© М. Л. Рудницкий, перевод, примечания, 1997
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2024
Памяти
Вальтера Хенна
Книга первая
Утренние смены
Первая утренняя смена
Рассказывай ты. Нет, лучше вы расскажите. Или ты будешь рассказывать? Может, лучше господин артист начнет? Или пугала, все скопом? А может, подождем, покуда восемь планет не сойдутся в знаке Водолея?{1} Ну хорошо, прошу вас, начинайте вы! В конце концов, ведь это ваш кобель тогда… Да, но прежде чем мой кобель, ваша сука тоже… а до нее многие суки от многих кобелей… Но должен же кто-то начать – ты или он, вы или я… Итак: давным-давно, много-много закатов тому назад, задолго до того, как мы появились на свет, уже текла, не отражая нас в своих водах, Висла, текла каждый божий день и впадала куда следует.
Летописца, чье перо выводит эти строки, в данное время зовут Брауксель, и он по роду работы командует то ли рудником, то ли шахтой, где добывается, однако, не руда, не уголь и не калийная соль, но где, тем не менее, в поте лица своего трудятся сто тридцать четыре рабочих и служащих, вкалывая на откаточных штреках и промежуточных горизонтах, в забоях и квершлагах, не покладая рук ни в бухгалтерии, ни на отгрузке, и все это изо дня в день, из смены в смену.
Неуправляемо и коварно несла свои воды Висла в прежние времена. Покуда не созваны были многие тысячи землекопов и в году одна тысяча восемьсот девяносто пятом не прорыли между косовыми деревнями Шивенхорст и Никельсвальде с севера к югу протоку, так называемый «стежок». И он, этот «стежок», приняв воды Вислы в свое прямое, как по шнурку протянутое русло, уменьшил опасность наводнений и паводков.
Летописец Брауксель по большей части пишет свое имя через «кс», как «ксива», но иногда и через «хс» – Браухсель. А иной раз, в соответствующем настроении, он именует себя Брайксель, почти как Вайксель, то бишь Висла по-немецки. Игривость и педантизм водят его рукою попеременно и ничуть друг другу не мешают.
От горизонта к горизонту протянулись вдоль Вислы дамбы, и под присмотром главного комиссара водорегулирующих сооружений в Большой Пойме Мариенвердер надлежало этим дамбам противостоять как могучим весенним половодьям, так и августовским «доминиканским» паводкам{2}. И не приведи бог, если в дамбе заводились мыши.
Тот, чье перо выводит сейчас эти строки, тот, кто командует то ли рудником, то ли шахтой и пишет свое имя по-разному, изобразил на расчищенной для такого случая столешнице с помощью семидесяти трех сигаретных бычков, добытых честным двухдневным трудом заядлого курильщика, русло Вислы в двух вариантах – до и после урегулирования: табачная труха вперемешку с рыхлым серым пеплом обозначит течение реки со всеми его тремя устьями, обгорелые спички – это дамбы, что удерживают строптивую реку в ее зыбких берегах.
Итак, много-много закатов тому назад: вот и господин главный комиссар водорегулирующих сооружений не спеша спускается вниз по склону, где возле села Кокоцко, аккурат против меннонитского кладбища{3}, в восемьсот пятьдесят пятом прорвало дамбу – в кронах деревьев потом неделями торчали гробы, – он же, пеший ли, конный или на лодке, в своем неизменном сюртуке с неизменной чекушкой рисовой араки в оттопыренном кармане, он, Вильгельм Эренталь{4}, тот самый, что в свое время в потешных и торжественных, на античный манер сложенных виршах сочинил знаменитую «Дамбоспасительную эпистолу», после публикации преподнеся ее с дружественным напутствием всем окрестным смотрителям дамб{5}, сельским учителям и меннонитским проповедникам, он, упомянутый здесь в первый и последний раз, дабы никогда больше не появиться на этих страницах, – вот он блюдет свой неусыпный дозор вверх ли, вниз по течению, пристально оглядывая плетеные перемычки и полузапруды-буны и нещадно гоняя с дамбы поросят, ибо, согласно земельно-правовому уложению от ноября месяца года одна тысяча восемьсот сорок седьмого, параграф восемь, пункт два, «запрещается всякой скотине, пернатой равно копытной, на дамбах пастись и особливо рыться».
По левую руку солнце падает к закату. Брауксель ломает надвое спичку: второе устье Вислы возникло второго февраля тысяча восемьсот сорокового без какого-либо участия землекопов, когда река, запруженная льдом, прорвала косу, слизнув по пути две деревни, что, в свою очередь, привело к образованию двух новых селений, рыбацких деревушек Западный Нойфер и Восточный Нойфер. Однако, сколь ни богаты обе эти деревушки своими байками, преданиями и замечательными небывальщинами, мы будем вести речь главным образом о двух других, что расположились на восточном и западном берегах первого – не по времени, но по течению – устья: Шивенхорст и Никельсвальде были, да и сейчас остаются последними деревнями вдоль «стежка», между которыми есть паромная переправа, ибо уже пятьюстами метрами ниже мутный исток Вислы, чаще глинисто-желтый, чем пепельно-серый, изливается с просторов нынешней Польской республики в почти пресные (ноль целых восемь десятых процента соли) воды Балтийского моря.
Тихо, словно заклинание, бормоча под нос заветную цитату: «Висла – это широкая, с каждым воспоминанием все более привольная река, вполне судоходная, несмотря на обилие песчаных отмелей», – Брауксель пускает по столешнице своего письменного стола, превратившейся в наглядный макет дельты Вислы, паромную переправу в виде изрядно потертого ластика и сей же час, поскольку первая утренняя смена уже заступила, а день начинается громким чириканьем воробьев, водружает девятилетнего Вальтера Матерна – ударение по последнем слоге: Мате́рн – на самый гребень никельсвальденской дамбы прямо под лучи заходящего солнца; Вальтер скрежещет зубами.
А что, собственно, происходит, когда девятилетний сын мельника, высвеченный лучами закатного солнца, стоит на гребне дамбы, смотрит на реку и скрежещет зубами наперекор ветру? Это у него от бабки, которая девять лет сиднем просидела в своем деревянном кресле и только и могла, что глазами лупать.
По воде много всего плывет, и Вальтер Матерн на все на это смотрит. А здесь, перед самым устьем, еще и море помогает. Говорят, в дамбе мыши. Так всегда говорят, коли дамбу прорывает, – мол, мыши в дамбе. Меннониты говорят, это, дескать, поляки-католики среди ночи прокрались да мышей в дамбу напустили. А еще говорят, кто-то видел плотинного графа – всадника на белом коне{6}. Но страховая компания не желает верить россказням – ни про поляков-католиков, ни про графа из Гютланда. Когда дамбу прорвало – из-за мышей, – граф, как и положено по преданию, на своем белом коне ринулся навстречу хлынувшей волне, только проку от этого все равно мало, потому что Висла уже поглотила всех плотинных смотрителей. И польских католических мышей тоже. Поглотила и грубых меннонитов, тех, что с крючками и петлями, но без карманов, и меннонитов тонких, с пуговицами, петлицами и с дьявольскими карманами{7}, поглотила в Гютланде и трех прихожан евангелической церкви, а заодно и учителя-социалиста. Поглотила в Гютланде и скотину мычащую, и резные деревянные колыбельки, поглотила вообще весь Гютланд – гютландские кровати и гютландские шкафы, гютландские часы с боем и клетки с канарейками, гютландского проповедника – этот был из грубых меннонитов, с крючками и петлями, – поглотила и проповедницкую дочку, а она, говорят, очень была собой хороша.
Все это и много чего еще тащится по воде. Что вообще может нести в своих водах такая река, как Висла? Да все, что идет прахом, – дерево и стекло, карандаши, разные написания имени Брауксель, стулья, косточки, но и заходы, закаты. Все, что забыто и быльем поросло, вдруг всплывает в водах Вислы спиной или брюхом вверх и влачится в потоке воспоминаний: вот и Адальберт{8} пришел. Он приходит пешим. И тут его сшибает огромным суком. Но Святнополк{9} все равно примет крещение. А что станется с дочерьми Мествина?{10} Вот одна, босая, бросилась наутек – убежит или нет? Кто возьмет ее с собой? Богатырь Милигедо{11} со своей чугунной палицей? Или огненно-рыжий Перкунас? А может, бледный Пеколс, тот, что все время глядит исподлобья? Отрок Потримпс{12} только посмеивается и жует свои пшеничные колоски. Дубы уже срублены{13}. Еще один скрежет зубовный – и вот уже дочка князя Кестутиса{14} идет в монастырь. Двенадцать рыцарей без голов, двенадцать монахинь без голов, зачем они пляшут на мельнице? Мельница крутится, мельница вертится, монашки и рыцари на Сретенье встретятся; крутится мельница, вертится мельница, души в муку, а мука что метелица; крутится мельница, вертится мельница, последним куском мы с костлявой поделимся; мельница вертится, мельница крутится, монашки и рыцари стерпятся-слюбятся… Когда, однако же, мельница заполыхала изнутри и к ней стали подкатывать экипажи для безголовых рыцарей и безголовых монахинь, и когда много позже – заходы, закаты – святой Бруно{15} прошел сквозь пламя, а разбойник Бобровский со своим дружком Матерной{16}, от которого все и пошло, ходили по дворам и подпускали красного петуха всюду, где на воротах уже были кем-то услужливо намалеваны кресты, – закаты, заходы – и Наполеон, до и после{17}, когда город был осажден по всем правилам военного искусства, ибо на нем были неоднократно и с переменным успехом опробованы знаменитые пороховые ракеты Конгрева{18}, – но и в самом городе, и на его укреплениях, на бастионах Волк, Медведь, Буланый и на бастионах Выскок, Кролик и Девкина Дырка, задыхались в чаду французы, чертыхались от бессильной злобы поляки с их князем Радзивиллом{19}, тщетно надрывал глотки полк однорукого капитана де Шамбюра. Однако пятого августа к городу подступил доминиканский паводок, вода без всяких штурмовых лестниц с первого приступа взяла бастионы Буланый, Кролик и Выскок, подмочила пороха, с шипением и треском загасила в своих толщах грозные ракеты Конгрева и запустила в город, в его улочки и закоулки, кладовки и кухни несметные полчища рыбы, особливо щук – вот уж кто поживился на славу, хоть провиантские склады на Хмельной улице к тому времени и были сожжены, – заходы, закаты. Такой реке, как Висла, все к лицу и все ее красит: закаты и кровь, глина и пепел. Ей бы улететь вместе с вольным ветром. Но не всякая воля исполняется, и реки, которым так хочется в небо, тоже впадают в Вислу.
Вторая утренняя смена
Вот она, здесь, на столешнице у Браукселя, и перекатывается через шивенхорстскую дамбу, изо дня в день. А на никельсвальденской дамбе стоит Вальтер Матерн и скрежещет зубами – ибо вода сходит. Как отмытые, помолодев, обнажаются из-под воды дамбы. Только скрещенные крылья ветряков, туповерхие колокольни да тополя – Наполеон приказал посадить их тут для прикрытия своей артиллерии – лепятся, как приклеенные, на их гребнях. И он, Вальтер, стоит один-одинешенек. Правда, с собакой. Но та не стоит, носится – то она там, то тут. За его спиной, уже в полумраке и ниже уровня реки, раскинулась отвоеванная людьми Пойма, и пахнет маслом, сывороткой, сливками, сыроварнями, почти до тошноты пахнет здоровьем и молоком. Вот он стоит, девятилетний пацан, по-хозяйски расставив ноги с багрово-синюшными коленками, растопырив обе свои пятерни, прищурив глаза и напыжившись так, что все шрамы и царапины, все отметины и следы падений, драк и нырков под колючую проволоку на его стриженой макушке набухают от напряжения, вот он, Вальтер Матерн, скрежещет зубами, двигая челюстью слева направо – эта привычка у него от бабки, – и ищет камень.
А на дамбе хоть шаром покати. Но он все равно ищет. Сухие сучки есть, это он видит. Но сухой сучок против ветра не швырнешь. А ему хочется, надо, невтерпеж швырнуть. Мог бы свистнуть, подозвать Сенту, которая то тут, то там, но не свистит, только скрежещет зубами – чтобы ветер заглушить – и хочет что-нибудь швырнуть. Мог бы криком «Эй, ты!» обратить на себя взор Амзеля, что копошится внизу под дамбой, но во рту у него только скрежет зубовный и нет места ни для какого «Эй, ты!», и ему хочется, надо, очень надо швырнуть, а в карманах, как назло, ни одного камушка; обычно-то у него в каком-нибудь из карманов обязательно камушек найдется, если не два, а сейчас нету.
Такие камушки в здешних местах называют «голышами». Евангелические говорят – «голыши», и немногие католики – тоже говорят «голыши». Грубые меннониты – «голыши». И тонкие меннониты – «голыши». И Амзель, который вообще-то любит быть не таким, как все, тоже говорит «голыш», когда имеет в виду камень. И Сента, если ей сказать: «Принеси-ка голыш», обязательно принесет камушек. И Криве говорит «голыш», Корнелиус, Кабрун, Байстер, Фольхерт, Август Шпанагель и майорша фон Анкум – все так говорят; и проповедник Даниэль Кливер из Пазеварка, обращаясь к своей пастве, что к грубым, что к тонким меннонитам, говорит примерно так: «И тады малыш Давид как возьмет голыш и как заедет ентому дылде Голиафу…»{20} Потому как «голышом» в здешних местах называют всякий «сподручный», удобный камушек величиной примерно с голубиное яйцо.
Но Вальтер Матерн, как назло, ничего такого в карманах не находит. В правом только крошки да семечки, а вот в левом, между кусками бечевки и бренными останками кузнечика – а зубы тем временем скрежещут, а солнце между тем скрылось, а Висла течет, влача в своих водах что-то из Гютланда, что-то из Монтау, а Амзель все еще копается, и облака куда-то, и Сента против ветра, а чайки на ветру и дамбы чисты как вылизанные, а солнце ушло, ушло, ушло, – он нашаривает свой перочинный нож. Солнце заходит в восточных краях медленнее, чем в западных, это любому ребенку известно. Висла течет от одного небосклона к противоположному. Вот уже от шивенхорстской пристани отделился паром с намерением дотащить, косо идя наперерез течению и всеми силенками упираясь, дотащить два товарных вагона до рельсов узкоколейки, что протянулась от Никельсвальде до Штуттхофа. Как раз сейчас кусок дубленой кожи по имени Криве отвернет от ветра свое бычье лицо и начнет ощупывать неморгающим, почти без ресниц, взглядом противоположную дамбу: лениво вращаются крылья ветряка, а вон тополя – Криве их наперечет знает. Глаза у него слегка навыкате, и выражение в них несгибаемое, а рука в кармане. Наконец он соизволяет опустить взгляд чуть пониже – а что это там копошится возле самой воды, этакое смешное и круглое, и, похоже, норовит что-то выудить из Вислы? Да это же Амзель охотится за старьем. А зачем ему старье, это любому ребенку известно.
Дубленому Криве, однако, неизвестно, что такое обнаружил Вальтер Матерн в своем кармане, обшаривая его в тщетных поисках голыша. И пока Криве прячет свое сыромятное лицо от ветра, нож в ладони Вальтера Матерна потихоньку согревается. Это Амзель ему нож подарил. Три лезвия, штопор, пилка и даже шило. Краснощекий увалень Амзель, уморительно смешной, когда он плачет. Амзель, который сейчас внизу под дамбой копается в прибрежной тине, ибо хотя сейчас Висла медленно, пядь за пядью, на палец в час, отступает, но, когда от Монтау до Кеземарка потоп, она поднимается до самого гребня дамбы и оставляет разные вещи, иной раз аж из самого Пальшау.
Ушло. Село. Упало там, на горизонте, за дамбу, оставив только разгорающийся багрянец. И тогда – один лишь Брауксель это знает – Вальтер Матерн еще крепче сжимает нож, который покамест у него в кармане. Амзель – тот немного помоложе Вальтера Матерна. Сента, черным-черна, мышкует вдалеке, такая же черная, как багрово-закатное небо над шивенхорстской дамбой. Дохлая кошка в ветвях плавника. Чайки совокупляются на лету, шелковистая оберточная бумага на ветру трепещет – то расправится, то свернется; стеклянные глаза-пуговки цепко видят все, что плывет, парит, юркает, шмыгает, затаилось, замерло или просто существует на свете, как существуют две тысячи веснушек на физиономии Амзеля; видят и то, что на голове у него каска, какие носили еще до Вердена{21}. Каска сползает на глаза, надо ее отодвинуть на макушку, она опять сползает, мешая Амзелю выуживать из тины штакетины, жерди и свинцово набрякшее тряпье, – вот тут-то как раз из ветвей на прокорм чайкам вываливается кошка. Мыши снова снуют в недрах дамбы. И паром все еще приближается к берегу. Река несет и вращает дохлую рыжую псину. Сента нюхает ветер. Паром упрямо и зло тащит наперерез течению два товарных вагона. И телку, уже неживую, тоже несет река. Ветер вдруг стих, запнулся, но еще не переменился. Чайки замерли в воздухе, они в недоумении. И вот тут, покуда все это – паром и ветер, телка и солнце за дамбой, мыши в дамбе и чайки на лету, – Вальтер Матерн достает из кармана зажатый в кулаке нож, прижимает его – а Висла все течет – к шерстяной груди свитерка и стискивает что есть силы, так что костяшки пальцев в разгорающемся зареве отливают мелом.
Третья утренняя смена
Каждый ребенок от Хильдесхайма до Зарштедта знает, чтó добывается у Браукселя в рудниках – тех самых, что пролегли от Зарштедта до Хильдесхайма.
Каждый ребенок знает, почему сто двадцать восьмой пехотный полк, погрузившись в двадцатом году в эшелон, вынужден был оставить{22} в Бонзаке ту каску, которую носит сейчас Амзель, наряду с множеством других касок, грудой обмундирования и парочкой походных кухонь, именуемых на солдатском наречии «гуляш-мортирами».
А вот опять кошка. Каждый ребенок знает – это уже другая кошка, только мышам это невдомек и чайкам тоже. Кошка плывет мокрей мокрого, дохлей дохлого. А вот и еще что-то несет, не собаку и не овцу, эге, да это платяной шкаф. С паромом он вроде уже разминулся. И в тот миг, когда Амзель вытягивает из тины очередную жердь, а кулак Вальтера Матерна сжимает нож что есть силы, до дрожи, – в этот миг кошка обретает свободу: ее подхватывает течением и несет в открытое море, в открытое небо… Чайки все меньше, мыши шебаршатся в дамбе, Висла течет, нож в кулаке дрожит, ветер называется норд-вест, дамбы молодеют на глазах, море всеми силами упирается, не пуская в себя реку, солнце все еще заходит и никак не зайдет, а паром все еще тащится, тащит себя и два вагона, наперерез течению. Паром не опрокинется, дамбы не прорвутся, мыши ничего не боятся, солнце вспять не повернет, и Висла не повернет вспять, и паром не повернет, и кошка, и чайки, и облака, и пехотный полк, Сента не хочет обратно к волкам, а хочет… умница, умница, умница… Вот и Вальтер Матерн не хочет класть обратно в карман тот перочинный нож, что недавно подарил ему толстяк-коротышка-увалень Амзель; наоборот, кулаку, что сжимает в себе нож, даже удается побелеть еще чуточку сильнее. И зубы где-то над кулаком скрежещут слева направо. Но вот кулак чуть разжался, и, покуда вокруг все течет, движется, тонет, влачится, кружит, прибывает, убывает, кровь, что застоялась в запястье, теплой волной приливает к ладони, и Вальтер Матерн легко вскидывает за голову кулак с теплым ножом, вот он уже стоит только на одной ноге, да и то на носке, почти на цыпочках, на кончиках пальцев, что привычно мерзнут в зашнурованном ботинке, потому что без чулка, как бы приподняв весь свой вес и уже перенеся его назад, за плечо, в закинутую руку, и не целится никуда, и даже почти не скрипит зубами; и в этот быстротекущий, уходящий, уже канувший миг – даже Браукселю его не спасти, ибо он забыл что-то, напрочь забыл, – вот сейчас, когда Амзель отрывает наконец взгляд от прибрежной слякоти и сдвигает стальную каску с одной тысячи своих веснушек на вторую, со лба на затылок, – в этот миг выкинутая вперед ладонь Вальтера Матерна уже пуста, легка и сохраняет лишь вмятины, отпечаток перочинного ножа, у которого имелось три лезвия, штопор, пилка и даже шило; а в пазы рукоятки забились морские песчинки, остатки мармелада, сосновые иголки, труха от коры и сгустки кротовой крови; ножа, за который запросто можно было выменять новый велосипедный звонок; даже не украденного, а честно купленного Амзелем на честно заработанные деньги в лавке у собственной матери, а потом подаренного им своему другу Вальтеру Матерну; ножа, который прошлым летом во дворе у Фольхертов пригвоздил к воротам сарая бабочку, а под паромной пристанью, куда причаливает Криве, однажды за один день прикончил четырех крыс, в дюнах едва не прикончил кролика, а две недели назад пронзил крота, прежде чем того успела взять Сента. Пока что ладонь все еще хранит на себе отпечаток ножа, того самого, которым Вальтер Матерн и Эдуард Амзель, когда им было по восемь лет и очень хотелось заключить кровное братство, сделали себе надрезы на руке, там, где мускулы, потому что Корнелиус Кабрун, который был в немецкой Юго-Западной Африке{23} и знает обычаи готтентотов, так им рассказывал.
Четвертая утренняя смена
Тем временем – ибо, пока Брауксель изучает историю ножа, пока он экспериментальным путем исследует траекторию полета ножа с учетом силы броска, сопротивления ветра, закона всемирного тяготения, времени у него остается ровно столько, что он едва успевает засчитать себе целый рабочий день от одной смены до другой и написать «тем временем», – так вот, тем временем Амзель тыльной стороной ладони сдвигает каску со лба на затылок. Взгляд его скользит вверх по склону дамбы, успевает заметить и бросок, и бросившего и перехватить на лету брошенный предмет; а нож, утверждает Брауксель, тем временем достиг той высшей точки, какой достигает всякий предмет, движущийся вверх под воздействием внешней силы, – а тем временем Висла течет, кошка дрейфует, чайка кричит, паром приближается, сука Сента чернеет на фоне неба, а солнце все заходит и никак не зайдет.
Тем временем – ибо, когда брошенный предмет достигает той высшей точки, после которой начинается падение, он на секунду как бы замирает, пребывая в кажущейся неподвижности, – так вот, пока нож на секунду замирает в этой точке, Амзель отрывает от него взгляд и снова – а нож тем временем начинает падать в воду, стремительный и обреченный под порывами встречного ветра, – снова смотрит на своего друга Вальтера Матерна, который все еще балансирует на одной ноге в зашнурованном ботинке, без чулка, правая рука все еще вытянута, а левая для равновесия загребает воздух.
Тем временем – ибо, пока Вальтер Матерн балансирует на одной ноге, стараясь сохранить равновесие, пока Висла и кошка, мыши и паром, Сента и солнце, пока перочинный нож падает в воду, – на руднике Браукселя заступила очередная утренняя смена, а ночная, наоборот, отшабашила и разъехалась по домам на велосипедах, комендант запер штейгерский барак, а воробьи во всех канавах возвестили приход нового дня… Амзелю тогда все же удалось – то ли своим шустрым взглядом, то ли чуть менее шустрым криком – вывести Вальтера Матерна из едва сохраняемого равновесия. И хотя тот и не свалился с самой кромки никельсвальденской дамбы, однако качнулся, зашатался и накренился так, что потерял из вида свой нож и не углядел, как тот соприкоснулся с водами Вислы и юркнул вглубь.
– Эй, Скрыпун! – кричит Амзель. – Опять зубами скрипишь и швыряешься чем ни попадя?
Вальтер Матерн, которому адресованы и этот вопрос, и кличка Скрыпун, уже снова твердо стоит на ногах, сверкая ободранными коленками и потирая ладонь своей правой руки, на которой остывающим контуром меркнет отпечаток ножа.
– Ты же видел, что швыряюсь, чего зря спрашиваешь?
– Но ты не голышом швырнулся.
– А если нет голыша.
– А чем ты швырнулся, коли голыша нет?
– Кабы у меня был голыш, я б голышом швырнулся.
– Чего же ты Сенту не послал, она бы тебе принесла.
– Этак любой дурак скажет: «Чего же ты Сенту не послал». Попробуй, пошли эту тварь, она вон за мышами носится.
– Чем же ты тогда швырнулся, коли голыша не было?
– Заладил тоже – чем да чем? Чем надо, тем и швырнулся. Будто сам не видел.
– Ты ножиком моим швырнулся.
– Это мой был ножик. Подарок – он подарок и есть. Кабы у меня голыш под рукой был, разве стал бы я ножом швыряться.
– Мог бы сказать по-человечески, что у тебя там голыша нет, я б тебе мигом бросил, у меня их тут навалом.
– Чего зря языком молоть, все равно его уже не вернешь.
– Может, мне новый подарят на Вознесение.
– А я, может, не хочу новый.
– Ну, если бы я тебе его отдал, захотел бы.
– А спорим, что не возьму?
– А спорим, что возьмешь?
– А спорим, что нет?
– А спорим, что да?
И они ударили по рукам – зажигательное стекло против оловянных гусаров, – причем Амзель подает свою веснушчатую ладонь снизу, а Вальтер Матерн, наклонившись, тянет свою, еще с отпечатком ножа, ему навстречу и, скрепив спор рукопожатием, одновременно втаскивает Амзеля на гребень дамбы.
Амзель настроен миролюбиво:
– Ты такой же чудной, как ваша бабка на мельнице. Она тоже зубами скрипит, какие у нее еще остались. Правда, она у вас не швыряется. Зато поварешкой дерется дай боже.
Сейчас, когда оба стоят на дамбе, видно, что Амзель росточком пониже. Говоря о бабке Вальтера Матерна, он тычет большим пальцем через плечо, где позади дамбы вдоль дороги растянулась деревушка Никельсвальде, а чуть поодаль виднеется принадлежащая Матернам ветряная мельница. Амзель тянет вверх по склону дамбы свою сегодня не слишком богатую добычу – связку штакетин, жердин, выкрученного тряпья. Рука его то и дело тянется к каске, которая застит ему глаза. Паром уже причалил к никельсвальденской пристани. Слышен лязг двух вагонов. Черное пятно, Сента, то больше, то меньше, снова больше, приближается. Снова тащится мимо какая-то утопшая животина. Висла течет, во всю ширь расправив плечи. Вальтер Матерн кутает правую руку в драную бахрому свитера. Между ним и Амзелем твердо стоит на всех своих четырех лапах Сента. Вываленный налево язык ритмично подрагивает. Она не сводит глаз с Вальтера Матерна, потому что он опять зубами. Это у него от бабки, которая девять лет сиднем и только глазами.
Наконец они тронулись – три неодинаковые фигурки движутся по кромке дамбы в сторону пристани. Вот бежит, черным-черна, Сента. Потом, на полшага впереди попутчика, Амзель. Следом, на полшага сзади, Вальтер Матерн. Он волочит сегодняшний улов Амзеля. Трава, примятая связкой досок и тряпья, нехотя распрямляется, покуда вся троица медленно исчезает на дальнем конце дамбы.
Пятая утренняя смена
Итак, как и было условлено, Брауксель прилежно склоняется над бумагой, а тем временем другие летописцы с не меньшим усердием, добросовестно соблюдая сроки, тоже склонились над картиной прошлого, каждый над своим манускриптом, дав волю безудержному течению Вислы.
Пока что Браукселю нравится припоминать все в точности: много-много лет назад, когда дитя явилось на свет, но еще не могло скрежетать зубами, ибо, как и все дети на земле, явилось на свет беззубым, бабка Матернов сидела в своей верхней горенке, прикованная к своему стулу, вот уже девять лет не в силах пошевельнуться, а в силах только вращать глазами, лопотать что-то невразумительное и пускать слюни.
Верхняя горенка – это такая комната, нависающая над кухней, одним окном выглядывающая во двор, чтобы можно было присматривать за прислугой, а другим – на ветряную мельницу Матернов, примечательную тем, что она посажена на козлы и тем самым вот уже более ста лет являла собой классический тип мельницы немецкой. Матерны построили ее в одна тысяча восемьсот пятнадцатом году, вскоре после взятия города и крепости Данциг доблестью победоносного российского и прусского оружия; благо Август Матерн, дед нашей прикованной к стулу старушенции, во время длительной, нудной и ведущейся без всякого азарта осады города сообразил организовать весьма выгодные сделки, так сказать, с двойным дном: с одной стороны, с весны он начал поставлять некоему заказчику, платившему за это полновесными серебряными талерами, штурмовые лестницы, с другой же, получая в уплату за эти услуги так называемые «талеры с листьями»{24}, а также еще более вожделенную брабантскую валюту{25}, контрабандой отправлял в Данциг генералу графу д'Оделе коротенькие депеши, в коих делился своими недоумениями: с какой это стати весной, когда до сбора яблок еще бог весть сколько времени, русским понадобилась такая уйма приставных лестниц.
А когда генерал-губернатор граф Рапп{26} в конце концов подписал акт капитуляции крепости, в отдаленной деревушке Никельсвальде Август Матерн, выложив дома на столе изрядную горку датских монет – так называемых «специй» и «двух третей», – горку быстро поднимающихся в цене рублей, горку гамбургских марок, талеров обычных и талеров с листьями, мешочек голландских гульденов и стопку только что добытых данцигских «бумаг»{27}, счел, что он неплохо обеспечен и предался радостям строительства: старую мельницу, в которой, по преданию, после сокрушительного поражения Пруссии{28} соизволила переночевать королева Луиза, ту мельницу, чьи махи, иглицы и дранка пострадали сперва от датской атаки с моря, а затем при ночном яростном прорыве отступающего добровольческого корпуса капитана де Шамбюра, Август Матерн распорядился снести всю, кроме козел, где дерево было еще добротным, и водрузил на старые козлы новую мельницу, которая благополучно просидела на них своим гузном до той поры, покуда бабке Матерн не пришлось на долгие годы засесть в кресло в полной неподвижности. В этом месте Брауксель решает, пока не поздно, ввернуть, что на свои сбережения, доставшиеся когда тяжким трудом, а когда и легкой смекалкой, Август Матерн не только отгрохал себе новую мельницу на старых козлах, но и пожертвовал часовне в Штегене, где жили кое-какие католики, фигурку Мадонны, которая, впрочем, хоть даритель и не поскупился на сусальное золото, не явила миру ни чудес, ни сколько-нибудь заметного паломничества.
Вообще католицизм семейства Матернов определялся, как и положено в семье мельника, тем, откуда ветер дует, а поскольку на побережье в любой день какой-никакой ветерок обязательно сыщется, ветряное колесо мельницы Матернов худо-бедно крутилось круглый год, как крутилось и все семейство, воздерживаясь от чрезмерно частых и раздражающих соседей-меннонитов походов в церковь. Только на крестины и похороны, на свадьбы или по большим праздникам часть семьи отправлялась в Штеген, да еще раз в году, по случаю праздника тела Христова и положенной в этот день процессии, вся мельница, включая козлы со всеми их шпонами и гнездами, мельничные балки и постав, кружловину, седло и поворотный брус, а перво-наперво крылья со всеми их щитиками, окроплялась святой водой и осенялась крестным знаменем – роскошь, которую, кстати говоря, Матерны ни в жизнь не смогли бы себе позволить в таких истово меннонитских деревнях, как Юнкеракер или Пазеварк. Однако меннониты деревни Никельсвальде, которые все как один выращивали на жирных землях поймы тучную пшеницу и волей-неволей зависели от католической мельницы, обнаруживали куда больше учтивости, то есть не боялись носить одежду с пуговицами, а особливо с настоящими карманами, благо туда было что положить. Один только рыбак и никудышный крестьянин Симон Байстер оставался истовым меннонитом, с крючками и петлями, был неучтив и без карманов, поэтому на его лодочном сарае красовалась деревянная вывеска с надписью завитушками:
- Кто крючки да петли носит,
- Того Боженька не бросит.
- У кого карман да пуговицы,
- Тот навек с чертями спутается.
Но Симон Байстер был в Никельсвальде один такой, кто возил молоть свое зерно не на католическую мельницу, а в Пазеварк. Однако, похоже, это все-таки не он в тринадцатом году, незадолго до большой войны, уговорил спившегося батрака из Фраенхубена подпалить мельницу Матернов чем только можно и со всех концов. Пламя уже выбивалось из-под козел и станины, когда Перкун, молодой пес работника Павла, которого, впрочем, никто иначе как Паулем не называл, неистово мечась вокруг мельницы черным волчком и оглашая округу сухим, хриплым лаем, все-таки заставил и Павла, и его хозяина-мельника выйти на крыльцо.
Павел, или, проще говоря, Пауль, привел с собой этого зверюгу из Литвы и охотно показывал всем желающим нечто вроде его родословной, из которой явствовало, что бабка Перкуна по отцовской линии была то ли польской, то ли литовской, то ли русской волчицей.
А Перкун зачал Сенту; Сента принесла Харраса; Харрас зачал Принца; а Принц творил историю… Но пока что бабка Матернов все еще сиднем сидит в своем кресле и может только лупать да вращать глазами. Не в силах шевельнуться, она вынуждена просто наблюдать, как невестка хлопочет по дому, сын возится на мельнице, а дочь Лорхен бог весть чем занимается с работником Павлом. Но работник пропадет на войне, а Лорхен после этого малость потеряет рассудок: с этой поры она повсюду – в доме и на огороде, на мельнице и на дамбе, в зарослях крапивы и в сарае у Фольхертов, в дюнах и босиком по прибрежному песку, за дюнами и в чернике прибрежной рощи – всюду будет искать своего Пауля, о котором так никогда и не узнает, кто – пруссаки или русские – загнали его в сырую землю. И только пес Перкун неизменно будет сопровождать в этих поисках кротко увядающую молодицу, делившую с ним одного господина.
Шестая утренняя смена
Итак, давным-давно – Брауксель отсчитывает годовщины по пальцам, – когда в мире уже третий год шла война, Пауль сгинул где-то в мазурских болотах, Лорхен с псом бродила по всей округе, а мельник Матерн по-прежнему продолжал таскать мешки, поскольку стал плохо слышать на оба уха и для армии не годился, – в один прекрасный солнечный день бабка Матернов сидела дома одна, поскольку все ушли на крестины, – сорванец и большой любитель швыряться перочинным ножом из предшествующих утренних смен в этот день был наречен именем Вальтер, – сидела сиднем, вращала глазами, что-то бормотала, пускала слюни, но тем не менее, увы, не могла произнести ничего вразумительного.
Она сидела в своей горенке, и по лицу ее пробегали стремительные тени. Лицо то вспыхивало, то исчезало в тени, то высвечивалось, то темнело. И мебель, целиком и частями: карниз буфета, горбатая крышка сундука, красный, вот уже долгих девять лет несминаемый плюш резной молельной скамеечки – все это вспыхивало, меркло, теряло и вновь обозначало свои очертания то в дрожащей пыльной взвеси солнечной дорожки, то в сером беспыльном полумраке на лице бабки и на ее мебели. На ее чепце и ее любимом, голубого стекла, бокале в горке буфета. На бахроме рукавов ее ночного халата. На выскобленном добела полу и на шустрой, примерно в ладонь величиной черепахе, которую подарил ей когда-то их работник Пауль и которая, поблескивая панцирем и бодро переползая из угла в угол, питалась листьями салата, оставляя на своем любимом лакомстве ровные полукруглые надкусы, и давно Пауля пережила. И эти листья, рассыпанные по всему полу верхней горенки и окаймленные аккуратным орнаментом черепаховых надкусов, тоже то и дело мерцали – блик, блик, блик, – ибо во дворе за домом, усердно и в соответствии со скоростью ветра, составлявшей восемь метров в секунду, вращала своими крыльями матерновская мельница, перемалывая пшеницу в муку и заодно успевая за каждые три с половиной секунды застить солнце четыре раза.
Примерно в то же время, когда в горнице у бабки творилась эта демоническая свистопляска света и тени, младенец тронулся в путь по проселочной дороге через Пазеварк и Юнкеракер в Штеген – к своей крестильной купели, а подсолнухи у забора, что отгораживал участок Матернов от проселка, раскрывались все шире и шире, наклоняясь друг к другу и млея на том самом солнце, которое четыре раза за три с половиной секунды успевали застить крылья ветряной мельницы, – подсолнухи, они-то могли услаждаться солнцем без малейших перерывов, ибо мельница между ними и солнцем никогда не встревала, только между солнцем и домом, причем даже в полдень встревала между неподвижной, сиднем сидящей бабкой и солнцем, которое в здешних краях светит хоть и не бесперечь, но достаточно часто.
Так сколько уже лет бабка Матернов прикована к креслу?
Девять лет в верхней горенке.
Сколько-сколько – за геранями, ледяными узорами, вьюнками и душистым горошком?
Девять лет – свет-тень, свет-тень со стороны мельницы. А кто же это ее так надолго усадил?
Это невестушка ее, Эрнестина, в девичестве Штанге, ей так удружила.
Да как же такое могло случиться?
Эта евангеличка из Юнкеракера сперва выжила Тильду Матерн, которая в ту пору еще вовсе не была бабкой, скорее напротив, крепкой и громогласной хозяйкой, из кухни, затем распростерла свое влияние по всему дому до прихожей и обнаглела до того, что даже в праздник тела Христова стала мыть окна. Когда же Стина попробовала выжить свекровь и со скотного двора, тогда, в курятнике, в первый раз дошло и до рукопашной, да так, что от кур только перья летели – женщины лупили друг друга кормовыми лоханями.
Все это, вычисляет Брауксель, должно было случиться году эдак в девятьсот пятом; ибо, когда двумя годами позднее Стина Матерн, в девичестве Штанге, все еще не выказывала ни малейшего интереса к зеленым яблокам и соленым огурцам, а по ее месячным можно было хоть календарь сверять, Тильда Матерн заявила своей невестке, которая, скрестив руки, нагло стояла перед ней в верхней горенке:
– Не зря я всю жисть думала, что кажной евангеличке черт мышей в дырку запускает. Они там все и грызут, вот ничего оттудова и не выходит, только вонь одна.
После этих слов разразилась настоящая религиозная война, причем сражение велось деревянными поварешками и закончилось для католической стороны весьма плачевно: дубовое кресло, то, что стояло между кафельной печкой и молельной скамеечкой, приняло в свои объятия Тильду Матерн, когда ее хватил удар. С тех пор она девять лет сидела на этом троне безотлучно – за исключением тех недолгих минут, когда чистоты ради Лорхен и служанка приподнимали ее с кресла справить нужду.
Когда девять лет прошло и вдруг выяснилось, что в лоне у евангеличек вовсе не заводятся дьявольские мышки, которые все сгрызают и ничему не дают созреть, а что, напротив, лоно это способно выносить, и не что-нибудь, а даже сына, – бабка Матерн, покуда в Штегене при хорошей погоде шли крестины, по-прежнему и все так же несдвигаемо сидела в своем кресле. А под верхней горенкой, внизу на кухне, в духовке жарился гусь, истекая и шипя собственным жиром. Он шипел и жарился на третьем году большой войны, когда гуси стали настолько редкими птицами, что их уже даже причисляли к вымирающим видам животного мира. А Лорхен Матерн – та самая, с родимым пятном, плоской грудью и кучерявыми волосами, Лорхен, которой не досталось мужа, потому что ее Пауль в сырой земле, Лорхен, которой надлежало за гусем неустанно следить, гуся жиром поливать, гуся переворачивать, приговаривать над ним заветные слова и прибаутки, – вместо этого встала между подсолнухов у забора, который новый работник по весне, слава богу, хоть побелил, твердя поначалу ласково, потом озабоченно, потом с досадой, а затем опять по-хорошему, снова и снова одни и те же слова кому-то за забором, кому-то, кто за забором вовсе не стоял и не проходил мимо в смазанных, хотя и скрипучих сапогах и в шароварах, и тем не менее звался Паулем и даже Паульчиком, и якобы ей, Лорхен, стареющей барышне с водянистым взором, что-то должен был отдать, что он у нее забрал. Но Пауль ничего не отдавал, хотя время вроде было подходящее – тихо, если не считать жужжания летней мошкары, – и ветер со скоростью восемь метров в секунду наконец-то подобрал обувку по размеру и так ловко подгонял крылья мельницы, что те крутились, похоже, даже быстрее ветра и всего лишь за один помол превратили пшеницу крестьянина Мильке – он как раз приехал молоть – в превосходную пшеничную муку.
Ибо, хотя сын мельника и принимал крещение в деревянной часовне в Штегене, мельница Матерна даже по такому торжественному случаю не простаивала. Помольный ветер не должен пропадать зря. Для ветряной мельницы праздников не бывает, бывают только помольные дни и безветренные. А для Лорхен Матерн бывали только дни, когда ее Паульчик проходил мимо и останавливался у забора, и дни, когда никто мимо не проходил и у забора не останавливался. Когда колесо мельницы крутилось, Паульчик приходил и останавливался. Тявкал Перкун. Вдалеке, за наполеоновскими тополями, за избами Фольхертов, Мильке, Карбунов, Байстеров, Момбертсов и Криве, за плоской крышей школы и за молочным двором Люрмана, сонным мыком перекликаются коровы. А Лорхен все твердит свое ласковое «Пауль-Паульчик», снова и снова «Пауль-Паульчик», а тем временем гусь в духовке, без полива, переворотов и прибауток, покрывается все более поджаристой праздничной корочкой.
– Ну отдай мне! Отдай сейчас же! Ну не будь таким. Зачем ты так? Отдай, пожалуйста, ты же знаешь, как мне это нужно. Отдай, не будь, ну почему же ты не хочешь…
Никто, ничего. Пес Перкун, вывернув голову на упругой шее, поскуливает вслед уходящему прохожему. Коровы набираются молока. Мельница восседает гузном на козлах и мелет зерно. Подсолнухи, кланяясь друг другу, творят свою таинственную молитву. В воздухе гудит мошкара.
А тем временем гусь в печке начинает подгорать, сперва потихоньку, а затем все быстрее и недвусмысленней, в связи с чем бабка Матерн в своей верхней горенке над кухней начинает в беспокойстве вращать глазами быстрее, чем вертятся крылья мельницы. И покуда в Штегене крестный младенец извлекается из купели, а в верхней горенке черепаха величиной с ладонь переползает с одной выдраенной половицы на другую, бабка Матерн, мелькая в чересполосице бликов и чуя подгорающего гуся, бормочет все громче, все сильнее пускает слюни и пыхтит. И пыхтит так, что сперва из ноздрей, как и у всех старух в столь почтенном возрасте, топорщатся пучки волос, а затем, когда чадный угар заполняет горенку целиком, заставляя черепаху в испуге замереть, а листья салата на полу пожухнуть, из ноздрей у бабки тоже уже валит настоящий дым. Гнев, накапливавшийся в ней девять лет, требует выхода – в старухиной топке разгорается пламя. Словом, Везувий и Этна. Излюбленная адова стихия – огонь, усиливая игру света и тени, заставляет старуху содрогнуться, и вот, девять лет спустя, зловещая и грозная в набегающих бликах, она первым делом пробует сухо скрипнуть зубами слева направо. И не без успеха: немногие пеньки, оставшиеся во рту у бабки Матерн вместо зубов, должно быть, под воздействием гари со скрипом и скрежетом трутся друг о друга. А тут еще вдобавок к драконьему шипению, скрежету зубовному, к клубам пара и струям огня раздается треск и летят щепки – это кресло, еще донаполеоновских времен, которое девять долгих лет, за исключением коротких, соображениями опрятности вызванных пауз, носило старухино бренное тело, не выдержало и распалось. В тот же миг черепаху на полу подбросило и перевернуло брюхом вверх. В ту же секунду потрескались и пошли сеточкой многие изразцы на кафельной печке. А внизу лопнул гусь, с шипением испустив из себя богатую начинку. Бабкин же трон, в мгновение ока превратившийся в деревянную труху такого тонкого помола, какой даже мельнице Матернов не снился, пыхнул облаком пыли, вознесясь над полом помпезным и причудливо освещенным памятником самой бренности и скрыв в своих пыльных формах саму бабку Матерн, которая, кстати, участь своего седалища вовсе не разделила и, в отличие от оного, отнюдь не думала обращаться в прах и тлен. Нет, прах, что медленно оседал на пожухлые листья салата, на перевернутый панцирь черепахи, на половицы и на мебель, был всего лишь дубовой трухой – сама же старуха, отнюдь еще не трухлявая, но грозная, вовсе не оседала, а, напротив, с хрустом и скрежетом, вся в электрических искрах, черно- бело-красных бликах мелькающих крыльев мельницы, поднялась из праха и тлена, скрипнула остатками зубов слева направо и с этим же скрипом сделала первый шаг – из света во тьму, потом снова в свет, шаг в тьму, шаг в свет, перешагнула полумертвую от ужаса черепаху, беззащитную и прекрасную в сернисто-желтой наготе своего панцирного брюшка, целеустремленно зашагала дальше, прочь от своего девятилетнего паралича, не поскользнулась на листьях салата, пнула дверь горенки, распахнув ее настежь, в своих войлочных тапочках спустилась, как воплощенный образец бабкиных доблестей, по лестнице на кухню, ступила наконец на ее каменный, посыпанный опилками пол и в тот же миг обеими руками была в духовке, пытаясь заветными, только ей, бабке, известными кулинарными ухищрениями спасти столь бесславно подгорающего праздничного гуся. Что ей отчасти – после того, как она совсем подгорелое соскребла, пылающие места погасила, а саму птицу заботливо перевернула, – удалось. Но всякий, кто еще имел в Никельсвальде уши, слышал, как, спасая гуся, бабка во всю силу своей отдохнувшей глотки грозно, яростно и отчетливо прикрикивала:
– Ах ты, шлюха, ах ты, шалава! Где тебя, шлюха, черти носят! Лорхен, шалава! Ну погоди, ты у меня дождешься, шлюха ты поганая! Ах ты, стерва! Ах ты, шлюха!
И вот она выходит – с тяжелой деревянной поварешкой в руке – из чадной кухни в гудящий жужжанием сад, и в тылу у нее мельница. Она наступает на клубнику слева, на цветную капусту справа, не застревает в кустах крыжовника, впервые за долгие девять лет добирается до свинских бобов, но не останавливается, и вот она уже возле, вот она уже среди подсолнухов, и уже замахивается правой рукой, и молотит поварешкой что есть мочи, в такт ритмичному мельканию мельничных крыльев, по бедной Лорхен, а заодно и по подсолнухам, но не по хитрому Перкуну, который успевает черной молнией метнуться сквозь шпалеры свинских бобов за забор.
Несмотря на удары, а смотря все еще в сторону Пауля, которого там вовсе нет, бедная Лорхен только повизгивает:
– Ну помоги же, Паульчик, ну помоги же, Пауль!
Но на нее обрушиваются только новые колотушки и боевой гимн расколдованной бабушки:
– Ах ты, шлюха! Шлюха поганая! Ах ты, шлюха! Шлюха поганая!
Седьмая утренняя смена
Брауксель уже спрашивал себя, не переусердствовал ли он с чертовщиной, описывая феерию бабкиного освобождения от немощи. Допустим, если добрая парализованная старушка просто так встанет и не без труда поковыляет на кухню, дабы спасти гуся, – разве это само по себе уже не чудо? Так ли уж необходимы клубы пара и огненные стрелы? Треснувший кафель и пожухшие листья? Околевающая черепаха и дубовое кресло, рассыпающееся в прах?
И если Брауксель – вполне трезвомыслящий человек, вписавшийся как-никак в нелегкую конъюнктуру свободного рынка, – на все эти вопросы вынужден ответить утвердительно, по-прежнему настаивая на огне и дыме, то ему придется эту свою настойчивость обосновать ссылкой на причины. А причина всех этих роскошных эффектов по случаю чудесного исцеления бабки Матерн была и есть только одна: все Матерны, особливо же «скрыпучая», скрежещущая зубами ветвь их рода, – от средневекового разбойника Матерны через бабку, которая была самая что ни на есть Матерн, даром что замуж и то за кузена вышла, и вплоть до младенца Вальтера Матерна, – все они питали врожденную склонность к грандиозным, можно сказать почти оперным, сценическим эффектам. Так что бабка Матерн в мае семнадцатого года воистину и вправду не просто тихо и как бы само собой восстала из немощи и отправилась спасать гуся, а сперва устроила целый – вышеописанный – фейерверк.
К этому следует добавить вот что: покуда старуха Матерн пыталась спасти гуся, а сразу после этого научить бедную Лорхен уму-разуму с помощью деревянной поварешки, из Штегена, уже миновав Юнкеракер и Пазеварк, направлялась к дому голодная праздничная процессия из трех повозок, каждая в упряжке из двух лошадей. И как ни подмывает Браукселя поведать о последующей трапезе – поскольку от гуся отодралось не слишком много, пришлось тащить из подвала заливное и солонину, – он вынужден оставить праздничное общество за этим роскошным столом, увы, без свидетелей. Никто никогда не узнает, как в разгар третьего года войны обжирались Ромейкесы и Кабруны, все Мильке и вдова Штанге, набивая животы подгорелой гусятиной, заливным, солониной и маринованной тыквой. Особенно жаль Браукселю эффектной сцены выхода к гостям расколдованной и шустрой, как прежде, старухи Матерн; единственная, кого ему дозволено изъять из этой сельской идиллии и перенести в текст, – это вдова Амзель, ибо она приходится матерью нашему толстячку Эдуарду Амзелю, который с первой по четвертую утреннюю смену доблестно трудился, выуживая из поднявшейся Вислы жерди, доски и набрякшее, тяжелое, как свинец, тряпье, а сейчас, сразу за крестинами Вальтера Матерна, пришел и его черед креститься.
Восьмая утренняя смена
Много-много лет назад – если уж рассказывать, то Брауксель больше всего любит сказки – жил в Шивенхорсте, рыбацкой деревушке, что на левом берегу при впадении Вислы в море, торговец Альбрехт Амзель. Керосин и парусина, канистры для питьевой воды и тросы, сети и ящики для угрей, бредни и всякая прочая рыбацкая снасть, деготь и краска, наждачная бумага и нитки, промасленная ткань, вар и смазка – вот чем он торговал, а еще инструментом всех видов, от топора до перочинного ножа, не считая того, что хранилось на складе: столярных верстаков и шлифовальных кругов, велосипедных шин и карбидных ламп, полиспаста, лебедок и тисков. Морские сухари громоздились здесь вперемешку со спасательными жилетами, спасательный круг, целехонький, только без надписи, уютно обнимал огромную стеклянную банку с солодовыми леденцами; пшеничная водка, любовно именуемая «хлебной», разливалась по стопкам из пузатой, зеленого стекла бутыли в оплетке; ткани на метр и мерный лоскут, но и готовое платье, как ношеное, так и новое, тоже имелось в продаже, а к нему, разумеется, вешалки, подержанные швейные машинки и шарики нафталина. Но, несмотря на нафталин и деготь, керосин, карбид и шеллак, в лавке Альбрехта Амзеля – солидном, на бетонном фундаменте, деревянном строении, которое каждые семь лет красили темно-зеленой краской, – первым и главенствующим запахом был запах одеколона, а вторым, задолго до того, как начинал чувствоваться и нафталин тоже, был одуряющий аромат копченой рыбы, ибо Альбрехт Амзель был не просто владельцем мелочной лавки, но и оптовым закупщиком речной и морской рыбы: ящики этой рыбы, сколоченные из легчайшей сосновой планки, золотисто-желтые и битком набитые рыбой – копченой речной камбалой и копченым угрем, шпротами, россыпью и в снизках, речными миногами, копчушкой, а также знаменитым здешним лососем, как холодного, так и горячего копчения, – красуясь выжженным на верхней стороне наименованием фирмы: «А. Амзель. Свежая и копченая рыба. Шивенхорст», – доставлялись в Данциг, на Главный рынок, огромное кирпичное здание между Лавандовым и Юнкерским переулками, между Доминиканской церковью и Староградским рвом, где и вскрывались с помощью средней монтировочной лопатки, в просторечии «фомки». С сухим треском отскакивала крышка, со скрипом вылезали из боковинных досок гвозди – и вот свет из новоготических стрельчатых окон Главного рынка уже падает на золотистые спинки свежекопченой рыбы.
А сверх того, как делец с дальним прицелом, которому отнюдь не безразлична судьба рыбацких коптилен в дельте Вислы и на всей косе, Альбрехт Амзель держал своего печника по каминам, благо от Пленендорфа до Айнлаге, то есть во всех деревнях вдоль Мертвой Вислы, внешний вид которых благодаря торчавшим в небо трубам коптилен приобретал причудливое сходство с руинами, этому печнику всегда работы хватало: то прочистить камин, в котором ослабла тяга, а то и перебрать наново один из тех гигантских коптильных каминов, что гордо возвышались на рыбацких дворах, превосходя ростом и кусты сирени, и сами понурые рыбацкие хижины, – и все это под вывеской Альбрехта Амзеля, которого, и не без оснований, называли богачом. Так и говорили: «Амзель-богач» или еще «Амзель-жид». Разумеется, никаким жидом Амзель не был. И хотя и меннонитом он не был тоже, но все же называл себя добрым христианином евангелического вероисповедания, держал в рыбацкой церкви в Бонзаке постоянное место, которое каждое воскресенье было занято, и женился на Лоттхен Тиде, рыжеволосой и склонной к полноте дочери зажиточного крестьянина из Грос-Цюндера. Что примерно должно означать: да как это Альбрехт Амзель мог быть жидом, если кулак Тиде, выезжавший в Кеземарк из Грос-Цюндера не иначе как на четверке лошадей и в лакированных сапогах, который к самому окружному советнику захаживал как к себе домой, который сыновей своих отдал служить в кавалерию, и не куда-нибудь, а в очень даже недешевые лангфурские гусары{29}, – все-таки отдал ему свою дочь Лоттхен в жены.
Потом, правда, многие стали поговаривать, что старик Тиде отдал свою Лоттхен за Амзеля-жида только потому, что он, как и многие другие крестьяне, торговцы, рыбаки и мельники, в том числе и мельник Матерн, многовато – для дальнейшего существования четверки лошадей просто опасно много – Альбрехту Амзелю задолжал. А кроме того, говорили еще, явно желая что-то доказать, что Альбрехт Амзель в свое время решительно не одобрял все меры окружной комиссии по регулированию рынка, направленные на поощрение свиноводства.
Брауксель, которому все известно лучше, чем кому-либо, пока что подводит под всеми этими домыслами промежуточную черту, ибо Альбрехт Амзель – неважно, любовь или долговые векселя привели к нему в дом Лоттхен Тиде, сидел он в рыбацкой церкви в Бонзаке евреем-выкрестом или обычным крещеным христианином, – Альбрехт Амзель, предприимчивый основатель атлетического кружка «Бонзак-1905» и ведущий баритон местного церковного хора, дослужился на берегах Соммы и Марны{30} до многажды орденоносца, лейтенанта запаса и сложил голову в девятьсот семнадцатом всего лишь за два месяца до рождения своего сына Эдуарда, неподалеку от крепости Верден.
Девятая утренняя смена
Вальтер Матерн, подтолкнутый Овеном, увидел свет в апреле. Мартовские Рыбы, шустрые и талантливые, вытянули из материнского лона Эдуарда Амзеля. В мае, когда подгорел гусь, а старуха Матерн восстала из немощи, принял крещение сын мельника. И свершилось это по католическому обряду. Уже в конце апреля сын погибшего торговца Альбрехта Амзеля был крещен по доброму евангелическому обряду в рыбацкой церкви в Бонзаке и, по тамошнему обычаю, окроплен смесью пресной воды из Вислы и чуть солоноватой – из Балтийского моря.
Сколь бы ни отклонялись от мнения Браукселя иные хронисты, те, что вот уже девятую утреннюю смену подряд пишут с ним наперегонки, сколь бы ни расходились они с ним в других вопросах – в том, что касается младенца из Шивенхорста, все они вынуждены вместе с автором этих строк засвидетельствовать: Эдуард Амзель, Зайцингер, Золоторотик и как там его еще ни называли, останется среди персонажей, коим надлежит оживлять сей торжественный опус – ибо шахты Браукселя вот уже десять лет не выдают на-гора ни угля, ни руды, ни калийной соли, – наиболее динамичным героем, исключая разве что самого Браукселя.
С младых ногтей призвание его было в изобретении птичьих пугал. И это притом, что против птиц как таковых он ничего не имел; зато уж птицы, сколько бы ни насчитывалось среди них видов и форм, мастей и разновидностей, судя по всему, много что имели против него и против его пугалотворческого духа. Сразу после крестин – колокола еще не успели отзвонить – они его уже распознали. Сам же крепыш Эдуард Амзель, лежа в своем накрахмаленном крестильном конверте, никакого видимого интереса к пернатым не проявлял. Крестной матерью была Гертруда Карвайзе, которая потом исправно, из года в год аккурат к Рождеству, вязала ему шерстяные носки. На ее сильных руках крестник был вынесен из церкви во главе многочисленной праздничной процессии, направлявшейся на нескончаемый и обильный праздничный обед. Сама вдова Амзель, в девичестве Тиде, осталась дома, наблюдая за приготовлениями к столу, давая последние указания на кухне и пробуя соусы. Зато все представители клана Тиде из Грос-Цюндера, за исключением четверых сыновей, несших свою опасную службу в кавалерии, – позже третий сын и вправду погиб, – тяжело ступая в своих добротных сукнах, потянулись вслед за младенцем. Процессия двинулась вдоль Мертвой Вислы: шивенхорстские рыбаки Кристиан Гломме и его жена Марта Гломме, урожденная Лидке; Герберт Кинаст и его жена Иоганна, урожденная Пробст; Карл Якоб Айке, чей сын Даниэль Айке нашел свою смерть на Доггер-банке{31} под флагом кайзеровского военно-морского флота; рыбацкая вдова Бригитта Кабус, чей куттер водил теперь ее брат Якоб Ниленц; а между невестками Эрнста Вильгельма Тиде, которые, щеголяя в розовом, ярко-зеленом и фиалково-голубом, цокали каблучками, черным свежевычищенным пятном затесался старый пастор Блех – потомок того самого знаменитого дьякона А.-Ф. Блеха{32}, который, будучи настоятелем церкви Святой Марии, написал хронику города Данцига с 1807 по 1814 год, то бишь когда город был под французами. Фридрих Больхаген, владелец большой коптильни в Западном Нойфере, шел бок о бок с отставным морским капитаном Бронсаром, который в военное время снова нашел себе применение в качестве добровольца-смотрителя пленендорфских шлюзов. Август Шпонагель, владелец трактира из Весслинкена, на целую голову превосходил ростом свою спутницу, майоршу фон Анкум. Поскольку Дирка Генриха фон Анкума, хозяина поместья в Кляйн-Цюндере, с начала пятнадцатого года уже не было в живых, Шпонагель подставлял майорше свой безупречно прямоугольный локоть. Замыкали процессию вслед за супружеской четой Бузениц, что вела в Бонзаке угольную торговлю, шивенхорстский сельский учитель, инвалид Эрих Лау, и его бывшая в ту пору уже почти на сносях жена Маргарета Лау – дочь никельсвальденского сельского учителя Момбера, она не могла позволить себе мезальянс. Смотритель дамб Хаберланд, поскольку он был строго при исполнении, с явным сожалением откланялся сразу после выхода из церкви. Впрочем, не исключено, что шествие усугубляла в длину пригоршня детей, сплошь чересчур белокурых и слишком нарядно одетых.
По песчаным тропкам, которые лишь приличия ради слегка прикрывали извилистые корни прибрежных сосен, общество двигалось правым берегом вдоль реки к поджидающим его повозкам-двойкам, а сам старик Тиде – к своей четверке, за которую он, несмотря на тяготы военного времени и нехватку лошадей, по-прежнему упрямо держался. Песок в туфлях. Капитан Бронсар без умолку громко смеется, потом долго кашляет. Разговоры явно откладываются на после обеда. Прибрежная роща дышит Пруссией. Еле-еле течет река, старица Вислы, к которой лишь благодаря впадению Мотлавы возвращается некое подобие жизни. Солнце бережно освещает праздничные наряды. Невестки старика Тиде зябнут, отсвечивая розовым, ярко-зеленым, фиалково-голубым, и, наверное, не отказались бы от теплых вдовьих платков. Не исключено, что обилие вдовьего черного цвета, статная фигура майорши и величественно ковыляющего подле нее инвалида дали решающий толчок событию, которое, похоже, готовилось с самого начала. Едва процессия вышла из церкви, как над церковной площадью тучей взмыли в воздух обычно почти неподвижные чайки. Не голуби, нет, – на рыбачьих церквях живут чайки, а не голуби. Теперь же из камышей и прибрежной ряски, веером и поодиночке, наискось и пулей вверх, взлетают в воздух выпи, крачки, чирки. Куда-то разом исчезли все чомги. С крон прибрежных сосен неведомой силой поднимает в воздух воронье. Скворцы и дрозды, как по команде, покидают кладбища и палисадники возле беленых рыбацких хижин. Из кустов сирени и боярышника брызгают трясогузки, синицы, щеглы, малиновки и вообще все, кто там гнездится; целые облака воробьев с проводов и из сточных канав; ласточки с амбаров и из-под крыш – словом, все живое, что принято относить к семейству пернатых, взмывает ввысь, рассеивается, улетает стрелой и со свистом, едва завидев нарядный конверт с крестником-младенцем, уносится, постепенно образует черную, зловещую, рваную и мечущуюся по краям тучу, в которую без разбора сбиваются даже птицы, обычно друг друга избегающие: чайки и вороны, пара ястребов среди перепуганных певчих птах, а уж сороки, сороки!
И вот пять сотен птиц, не считая воробьев, темной массой мечутся где-то между людьми и солнцем, пять сотен птиц то и дело отбрасывают на торжественную процессию и на крестника – виновника торжества – тревожную тень, полную значения и смысла.
И пять сотен птиц – ибо кто же считает воробьев? – способны, оказывается, привести гостей в замешательство, отчего они, от инвалида-учителя Лау до всего клана Тиде, все теснее жмутся друг к дружке и сперва молча, а потом все явственней бормоча и все пугливее поглядывая на небо, прибавляют шагу, причем задние напирают на передних, и постепенно переходят на бодрую рысцу. Август Шпонагель спотыкается о сосновые корни. Между капитаном Бронсаром и пастором Блехом, который то ли просто робко воздевает руки к небу, то ли наспех обозначает профессиональный жест усмирения стихий, вклинивается, подхватив юбки, словно в ливень, исполинская фигура майорши и увлекает за собой всех – Гломмов и Кинаста с женой, Айке и вдову Кабус, Больхагена и чету Бузениц; даже инвалид Лау и его супруга на сносях, которая вскоре, но отнюдь не прежде срока, разродится здоровенькой девочкой, хоть и задыхаются, но поспевают за остальными; и только крестная мать, не выпуская из сильных рук крестника-младенца в слегка сбившемся конверте, мало-помалу отстает и самой последней достигает спасительных повозок-двоек и гордой четверной старика Тиде, что ждут их под первыми тополями проселочной дороги на Шивенхорст.
Кричал ли младенец? Нет, даже не хныкал, но и не спал при этом. Рассеялась ли черная туча из пяти сотен птиц и несчетного числа воробьев после того, как праздничный кортеж отнюдь не торжественно, а спешно, чтобы не сказать стремглав, тронулся восвояси? Нет, она долго еще беспокойно кружила над ленивой рекой: то нависала над Бонзаком, то стрелой проносилась над прибрежной рощей и дюнами, а потом растянулась широкой, подрагивающей полосой над противоположным берегом и обронила на болотистый луг ворону – мертвая птица долго еще выделялась на сочной мураве серым неподвижным пятном. Лишь когда повозки въехали в Шивенхорст, туча стала распадаться на различные породы и так, отрядами, возвращаться на церковную площадь и кладбище, в палисадники и под крыши амбаров, в прибрежный камыш и кусты сирени, на кроны сосен; но до самого вечера, когда гости, давно уже сыты и пьяны, грузно попирали локтями длинный праздничный стол, в разновеликих птичьих сердцах царило смятение: ибо пугалотворческий дух Эдуарда Амзеля дал о себе знать всем птицам, когда сам творец еще лежал в своем крестильном конверте. И с тех пор птицы об этом не забывали.
Десятая утренняя смена
Так кто-нибудь хочет знать, был все-таки Альбрехт Амзель, торговец и лейтенант запаса, евреем или нет? Уж вовсе без причины не стали бы, наверно, в Шивенхорсте, Айнлаге и Нойфере звать его «богатым жидом». А фамилия? Разве не типично еврейская? Что? Просто «дрозд» по-голландски? А в Средние века голландские переселенцы осушали тут долину Вислы? И принесли с собой всякие словечки, имена-фамилии и ветряные мельницы?
После того как Брауксель на протяжении уже отработанных утренних смен столько раз заверял, что А. Амзель не был евреем, – да вот же, дословно утверждал: «Разумеется, никаким жидом Амзель не был», – он теперь с тем же полным правом – ибо всякое происхождение есть понятие произвольное и условное – может смело заявить: «Разумеется, Альбрехт Амзель был евреем». Родом он из прусского Штаргарда, из давно осевшей семьи еврейского портного, но уже в юности, шестнадцатилетним пареньком, вынужден был, поскольку в родительском доме было семеро по лавкам, покинуть отчий кров и тронуться в сторону Шнайдемюля, Франкфурта-на-Одере, а потом и Берлина, чтобы четырнадцатью годами позднее, уже обращенным правоверным и зажиточным христианином, добраться – через Шнайдемюль, Нойштадт и Диршау – до устья Вислы. Тому самому «стежку», который сделал Шивенхорст деревней на реке, в ту пору, когда Альбрехт Амзель здесь столь выгодно обосновался, еще и года не стукнуло.
Итак, он открыл здесь свою лавку. А что еще ему здесь было открывать? Пел в церковном хоре. А почему ему не петь в хоре, когда у него такой баритон? Основал вместе с другими атлетический кружок и пуще всех прочих жителей был свято убежден, что он, Альбрехт Амзель, никакой не еврей, а фамилия Амзель происходит из голландского; сколько вон людей с фамилией Шпехт, что означает попросту «дятел», а знаменитый путешественник, исследователь Африки, так и вовсе был Нахтигаль{33}, то бишь «соловей», и только Адлер – «орел» – это уж точно еврейская фамилия, но никак не Амзель-дрозд: портновский сын четырнадцать лет весьма усердно предавался забвению своего происхождения и лишь между делом, попутно, но не менее успешно – сколачиванием своего правоверно-евангелического достатка.
А между тем в году одна тысяча девятьсот третьем некий молодой, но не по годам многоумный человек по имени Отто Вайнингер{34} написал книгу. Неповторимое это произведение называлось «Пол и характер», оно было издано в Вене и в Лейпциге и на протяжении шестисот страниц доказывало, что у женщины душа отсутствует. Так как тема эта во времена эмансипации оказалась весьма актуальной, в особенности же потому, что в тринадцатой главе сего неповторимого произведения – она называлась «Еврейство» – доказывалось, что, поелику евреи относятся к женской расе, то душа отсутствует и у евреев, книжная новинка, достигнув высоких, поистине головокружительных тиражей, стала неотъемлемым предметом семейного обихода даже в тех домах, где, кроме Библии, других книг отродясь не держали.
Так гениальное произведение Вайнингера очутилось и в доме Альбрехта Амзеля.
Возможно, торговец никогда бы и не раскрыл сей толстенный фолиант, знай он, что некий господин Пфенниг{35} вот-вот публично назовет Отто Вайнингера плагиатором. Ибо уже в году одна тысяча девятьсот шестом в свет вышла весьма злая брошюра, которая в грубой форме выдвигала обвинения против покойного Вайнингера – многомудрый молодой человек тем временем успел наложить на себя руки – и его коллеги Свободы{36}. Даже Зигмунд Фрейд, отозвавшийся о покойном Вайнингере как о «высокоодаренном юноше», сколь ни осуждал он недопустимый тон брошюры, не мог закрыть глаза на документально зафиксированный факт: главная идея Вайнингера – догадка о бисексуальности – была не оригинальна, ибо первым она осенила некоего господина Флиса{37}.
Итак, в полном неведении относительно всего этого, Альбрехт Амзель раскрыл книгу и прочел у Вайнингера (который посредством сноски не преминул мужественно сообщить, что и себя считает представителем еврейства), что у еврея, оказывается, нет души. Еврей не поет. Еврей не занимается спортом{38}. Еврей должен преодолеть в себе свое еврейство… Вот Альбрехт Амзель и стал оное в себе преодолевать, распевая в церковном хоре, основав атлетический кружок «Бонзак-1905», и не только основав, но еще и регулярно, в соответствующем костюме, становясь с сотоварищами в шеренгу, кувыркаясь на поперечных брусьях и на перекладине, прыгая в длину и в высоту, тренируясь в эстафетном беге и насаждая (опять-таки в качестве первопроходца и наперекор ретроградам) по обе стороны всех трех рукавов устья Вислы относительно новый тогда вид спорта – игру в лапту{39}.
Брауксель, который с полным знанием дела ведет сию хронику, подобно всем прочим сельским жителям здешних мест, так никогда и ничего не узнал бы ни о прусском городишке Штаргард, ни о закройщике – дедушке Эдуарда Амзеля, если бы Лоттхен Амзель, урожденная Тиде, до конца держала язык за зубами. Много лет спустя после того рокового дня под Верденом она, однако, все же проболталась.
Молодой Амзель, о котором в дальнейшем, хотя и не без перерывов, и пойдет здесь речь, примчался из города к смертному одру своей матери, и та, не в силах более сопротивляться сахарной болезни, прошептала горячечными губами сыну на ухо:
– Ох, сыночек. Прости твоей бедной мамке. Амзель, папка твой, которого ты хоть и не знаешь, но который и вправду твой кровный отец, был, прости Господи, из обрезанных, как говорится. Смотри, как бы тебя на этом не прищучили, коли у них нынче с законами такие строгости.
Эдуард Амзель унаследовал во времена строгих законов{40} – которые, однако, на территории Вольного города Данцига еще не применялись – фамильное дело и состояние, дом и все имущество, среди которого имелась и полка с книгами: «Прусские короли», «Великие мужи Пруссии», «Старый Фриц», «Анекдоты», «Граф Шлиффен», «Хорал человеческий», «Фридрих и Катте», «Барбарина»{41} – и несравненное творение Отто Вайнингера, с которым Амзель, в отличие от других книг, постепенно утраченных и исчезнувших, впредь не разлучался. Он читал ее то и дело, хотя и на свой манер, читал и пометки на полях, оставленные рукой исправно певшего и занимавшегося спортом родителя, пронес книгу через все лихолетья и позаботился о том, чтобы она и сейчас лежала на столе у Браукселя, готовая открыться сегодня и в любую другую минуту: Вайнингер уже успел одарить автора этих строк не одним озарением. В конце концов, пугала создаются по образу и подобию человеческому.
Одиннадцатая утренняя смена
Волосы у Браукселя отрастают. Пишет ли он свою хронику или командует шахтой – они отрастают. Ест ли он или ходит, подремывает, дышит или задерживает дыхание, покуда утренняя смена заступает, а ночная, наоборот, кончает работу и воробьи возвещают новый день, – волосы растут. И даже когда парикмахер недрогнувшей рукой укорачивает Браукселю волосы в соответствии с его просьбой и прихотью, поскольку, видите ли, год идет к концу, – волосы продолжают расти прямо под ножницами. Когда-нибудь Брауксель, как и Вайнингер, умрет, но его волосы, равно как и ногти на руках и ногах, на какое-то время переживут своего обладателя – точно так же, как и данное пособие по конструированию эффективных птичьих пугал найдет себе читателей даже тогда, когда автора этих строк давно не будет на свете.
Итак, вчера речь зашла о строгих законах. Но во времена, о которых сегодня толкует наше только начинающееся повествование, законы пока что снисходительны и происхождение Амзеля вообще никак не карают; Лоттхен Амзель, урожденная Тиде, еще знать не знает об ужасной сахарной болезни; Альбрехт Амзель еще, «разумеется», вовсе никакой не еврей; Эдуард Амзель, тоже правоверный евангелический христианин, унаследовав от своей матери пышные, быстро отрастающие светло-рыжие волосы, увальнем-колобком слоняется среди сохнущих рыбацких сетей, сияя всеми своими веснушками, и смотрит на окружающий мир преимущественно сквозь ячеистую кисею сетей; не удивительно, что уже вскоре ему весь мир начинает видеться в косую мелкую клеточку, к тому же под конвоем бесчисленных жердин.
Птичьи пугала! Со всей определенностью здесь следует заявить: поначалу маленький Эдуард Амзель – а свое первое достойное упоминания пугало он соорудил пяти с половиной лет от роду – вовсе не имел намерения создавать именно птичьи пугала. Однако и местные жители, и проезжий народ – страховые агенты, стращавшие всех пожаром, коммивояжеры с образцами посевного зерна, крестьяне, возвращавшиеся от нотариуса, – все, кто наблюдал за мальчонкой, когда тот ставил на дамбе возле пристани свои причудливые фигуры, заставляя их трепетать на ветру, почему-то мыслили именно в этом направлении; покуда старик Криве так прямо и не сказал Герберту Кинасту:
– Слышь, сосед, глянь-ка, чего Амзелю его малец понастроил. Ни дать ни взять пугала огородные, честное слово!
Как и в день своих крестин, так и позже Эдуард Амзель ничего не имел против птиц; однако по обе стороны Вислы любая пернатая тварь, способная рассекать крыльями воздух или просто парить на ветру, не в состоянии была ужиться с продуктами его творчества, именуемыми в народе «птичьими пугалами». Продукты эти – а он создавал по штуке в день – никогда не повторяли друг друга. Изделие, которое он, вооружившись всего-навсего шаткой, да к тому же ущербной стремянкой и охапкой свежих ивовых веток, за каких-нибудь три часа работы сотворял вчера из полосатых штанов, некоего загадочного лоскута в крупную клетку, долженствующего изображать сюртук, и старой шляпы без полей, на следующее же утро безжалостно разбиралось, дабы из тех же реквизитов создать некий уникум другого рода и племени, пола и вероисповедания – но в любом случае нечто такое, от чего все птицы предпочитали держаться на расстоянии.
И хотя все эти преходящие сооружения всякий раз, несомненно, свидетельствовали о живейшей и неуемной фантазии автора, истинную силу изделиям Амзеля сообщала все же именно его неусыпная тяга к многосложностям реальной жизни: любознательный взгляд его беспокойных глазенок над пухлыми щечками неизменно и цепко выхватывал из гущи бытия какую-то одну деталь, которая и придавала художественному продукту окончательную убедительность и функциональную действенность птичьего пугала. Они, эти изделия, отличались от общепринятых и традиционных пугал, что в изобилии населяли окрестные сады, поля и огороды, не только формально, но и по силе воздействия: ибо если всякое другое пугало производило на птичий мир лишь скромный, малозаметный и почти не поддающийся учету эффект, то творения Амзеля, созданные не для устрашения и вообще без всякой видимой цели, способны были посеять среди пернатых настоящую панику.
Пугала его казались живыми, да они и были живыми, стоило чуть подольше на них посмотреть хотя бы в процессе их сотворения или в виде торса, когда он их разбирал, – в них все дышало жизнью! Вот они несутся взапуски по дамбе, бегут, машут, грозят кому-то, нападают, бьют, кого-то приветствуют на том берегу или, подхваченные ветром, парят в воздухе, ведут беседы с солнцем, благословляют реку и рыб в реке, пересчитывают тополя, обгоняют облака, обламывают маковки колоколен, хотят переправиться на небо, взять на абордаж паром, преследуют, шлют проклятья – ибо это не какие-нибудь анонимные фигуры, они всегда кого-то обозначают: рыбака Иоганна Ликфетта, пастора Блеха, снова и снова, в бессчетных вариантах, паромщика Криве – рот разинут, башка набекрень, – Бронсара, инспектора Хаберланда и вообще всякого, кого только не носит на себе плоская, как стол, пойма Вислы. Даже мосластая майорша фон Анкум, хотя ее имение-развалюха было в далеком Кляйн-Цюндере и на пароме она позировала крайне редко, и та в виде гигантской ведьмы утвердилась на шивенхорстской дамбе и отпугивала не только птиц, но и детей.
А несколько позже, когда Эдуард Амзель пошел в школу, настал черед господина Ольшевского, молодого учителя начальной сельской школы в Никельсвальде – в Шивенхорсте своей школы не было, – столбенеть от удивления, когда самый веснушчатый его ученик водрузил своего наставника в виде птичьего пугала на самой большой дамбе по правую руку от устья. На самом гребне дамбы, среди девяти покореженных ветром сосен, Амзель установил фигуру учительского двойника, для пущей наглядности положив к его ногам, под самые мыски его парусиновых туфель, всю плоскую, как сковородка, Большую пойму Вислы до самого Ногата, а сверх того – всю песчаную косу вплоть до неприступных башен города Данцига, до холмов и лесов за городом, а вдобавок еще и реку от устья до самого горизонта, и открытое море вплоть до смутно угадывающегося полуострова Хела, включая корабли, что бросили якорь на рейде.
Двенадцатая утренняя смена
Год близится к концу. Странное окончание для года, поскольку из-за берлинского кризиса{42} и новоявленной берлинской стены на Новый год разрешено запускать только осветительные ракеты, а петарды – ни под каким видом. К тому же здесь, в федеральной земле Нижняя Саксония, только что схоронили Хинриха Копфа{43}, прирожденного отца нашего края, – одной причиной больше, чтобы не запускать в новогоднюю полночь искрометные хлопушки-шутихи. По согласованию с производственным комитетом Брауксель заблаговременно распорядился вывесить на проходной и в здании конторы, а также на приемной площадке и на рудничном дворе объявления следующего содержания: «Всем рабочим и служащим фирмы "Брауксель и К°. Экспорт-импорт" рекомендуется, учитывая серьезность момента, отметить новогодний праздник без лишнего шума». Кроме того, автор этих строк, не удержавшись от соблазна самоцитирования, заказал в типографии на бумаге ручной выделки партию открыток, на которых с большим вкусом воспроизведено изречение: «Пугала создаются по образу и подобию человеческому», кои открытки в качестве новогоднего привета он и разослал клиентам и деловым партнерам.
Первый школьный год Эдуарду Амзелю пришлось осиливать в одиночку. Сдобный колобок, усеянный веснушками, он был один такой на обе деревни, и притом каждый день на виду, – немудрено, что ему выпала роль мальчика для битья. Какие бы игры ни затевало местное юношество, он принимал в них непременное участие, а вернее, его непременно делали их участником. Правда, хотя малыш Амзель и плакал, когда ватага мальчишек затаскивала его в крапивные заросли, что за сараем у Фольхерта, или, привязав трухлявыми, провонявшими дегтем веревками к столбу, в том же сарае подвергала его пусть не слишком изощренным, но все равно мучительным «пыткам», – однако сквозь слезы, которые, как известно, сообщают нашему зрению хотя и расплывчатую, но все же на редкость истинную и точную оптику, его серо-зеленые, заплывшие пухлым детским жирком глазки не упускали случая подметить, оценить и ухватить типичные движения и жесты мучителей. И вот два-три дня спустя после очередных колотушек – не исключено, что на десять ударов среди прочих ругательств и обидных кличек приходилось и одно не обязательно с пониманием смысла выкрикнутое словечко «абрашка!», – та же самая сцена избиения совершалась еще раз в прибрежном лесу, в дюнах или прямо на вылизанном прибоем песке, воссозданная в многорукой свистопляске одного-единственного пугала.
Этим регулярным колотушкам, равно как и их последующему художественному воспроизведению, положил конец Вальтер Матерн. Именно он, хотя некоторое время и лупил Амзеля вместе со всеми и даже, не слишком, правда, вникая в смысл, пустил в оборот кличку «абрашка», в один прекрасный день – возможно, вспомнив обнаруженное им накануне на морском берегу, хотя и растрепанное ветром, но яростное, дикое, свирепо размахивающее вокруг себя кулачищами, не совсем даже на него похожее, а как бы воспроизводящее его в девятикратном умножении пугало, – вдруг посреди драки опустил руки, дал им, так сказать, на промежуток в пять ударов остыть и одуматься, после чего принялся лупить снова: но теперь уже не малышу Амзелю надо было сжиматься и прятать голову от этих расходившихся кулаков, теперь удары сыпались на оставшихся мучителей Амзеля, и Вальтер Матерн наносил их с таким остервенением, так истово поскрипывая зубами, что он долго еще молотил кулаками теплый летний воздух за сараем Фольхерта, прежде чем понял, что никого, кроме изумленно вылупившегося на него Амзеля, вокруг не осталось.
Дружбе, которая заключается во время драки или после нее, суждено, как правило, – мы знаем об этом из приключенческих фильмов – пройти затем еще не одну суровую и увлекательную проверку. Так и дружба Амзеля и Матерна будет подвергнута в этой книге – по одной только этой причине наше повествование затянется – еще многим испытаниям. Уже в самом начале, с большой, кстати, пользой для новой дружбы, кулакам Вальтера Матерна пришлось немало поработать, поскольку крестьянские и рыбацкие олухи никак не могли уразуметь смысл столь стремительно возникшего дружеского союза и по старой привычке, едва завидев робко выходящего из школы Амзеля, норовили утащить его за фольхертовский сарай. Ибо медленно течет Висла, медленно ветшают дамбы, медленно сменяются времена года, медленно плывут облака, медленно пробивается паром, медленно приходит электричество на смену керосиновым лампам, так что и в деревнях по обе стороны Вислы тоже не до всех и не сразу дошло: кто хочет потолковать с Амзелем-коротышкой, сперва должен с Вальтером Матерном словечком перемолвиться. И тайна этой удивительной дружбы постепенно стала творить чудеса. Одна и та же картина, символизируя собой обилие и пестроцветье множества других житейских эпизодов этой ранней дружбы, разыгрывающаяся на фоне незыблемых статичных фигур деревенского бытия – хозяин и работник, пастор и учитель, почтальон и лодочник, владелец сыроварни и инспектор объединения молочников, лесничий и деревенский сумасшедший, – запечатлелась в своей неповторимости навсегда, хотя никто не заснял ее на фотопленку: где-нибудь в дюнах, спиной к прибрежному лесу со всеми его отрадами и прелестями, работает Амзель. На песке в обозримом порядке разложены предметы одежды самых разных видов и форм. Законы моды тут не властны. Придавленные к поверхности земли горками песка или сучьями потяжелее, дабы их не унесло ветром, здесь мирно соседствуют фрагменты обмундирования доблестно сгинувшего прусского воинства с не менее доблестно задубевшим и забуревшим тряпьем – трофеями последнего паводка: ночные рубахи и сюртуки, штаны без поясной части, кухонные тряпки, фуфайки, скукоженный парадный мундир, шторы с дырками-гляделками, майка, лацканы, кучерские камзолы, набрюшники и нагрудники, траченные молью ковры, галстуки, вывернутые кишкой, флажки от стрелкового праздника и целое скатертное приданое – все это изрядно воняет и притягивает мух. Гусеница-многочлен из войлочных, фетровых и соломенных шапочек, шляп, а также всевозможных кепок, армейских касок, ночных колпаков, беретов вьется, норовя укусить себя за хвост, беззастенчиво являет миру каждый предмет своих сочленений и, тоже облепленная мухами, ждет своего часа. Солнечный свет падает на воткнутые в песок штакетины, обломки стремянок и приставных лестниц, жердины, гладкие и узловатые прогулочные трости и просто палки, прибитые к берегу морской волной или речным течением, заставляя их отбрасывать разновеликие, блуждающие, споспешествующие ходу времени тени. Тут же, поблизости, гора старых бинтов, проволоки от искусственных цветов, полуистлевшей бечевы, ветхой кожи, покрывал, шерстяной требухи и черной, осклизлой прессованной соломы, сорванной ветром с крыш крестьянских овинов. Пузатые бутыли, подойники без дна, ночные посудины и просто кастрюли лежат отдельно. И среди всех этих сокровищ, гляди-ка, неожиданно резвый и прыткий – Эдуард Амзель. Взмокший, босой, прыгает прямо по песчаным колючкам, постанывая, прихрюкивая, похихикивая, уже воткнул в песок жердину, поперечиной приложил к ней штакетину, набросил проволоку – он не связывает, а именно набрасывает внахлест, и все прекрасно держится, – затем в три витка обвивает эту конструкцию красно-бурым, с серебряной ниткой, покрывалом, милостиво позволяет горшку из-под горчицы, увенчавшему себя пучком соломы, превратиться в голову, сперва отдает предпочтение плоской шляпе-тарелке, потом меняет студенческую шапочку на квакерский котелок, после чего, разметав всю гусеницу из головных уборов и всполошив целое полчище разноцветных и жирных пляжных мух, на короткое время останавливает свой выбор на ночном колпаке, чтобы в конечном счете утвердить на макушке пугала чехол для кофейника, которому последнее наводнение придало еще более выразительную форму. Он вовремя успевает смекнуть, что для завершения образа недостает еще жилетки, и не простой, а с шелковой спинкой, с безошибочным чутьем опытного старьевщика выхватывает из вороха тряпья и хлама то, что нужно, и, почти не глядя, уверенным движением набрасывает жилетку на плечи своего очередного детища. И вот уже он втыкает скособоченную убогую лесенку слева, две палки крест-накрест, в человеческий рост, справа, скашивает разболтанный кусок садовой ограды из трех штакетин, превратив его во фрагмент какой-то расхристанной арабески, набрасывает сверху, коротко прицелившись и точно попав, какую-то задубевшую хламиду, с треском и хрустом все это стягивает и укрепляет, затем с помощью всякого шерстяного отрепья придает этой фигуре, этому форейтору, возглавляющему всю группу, некую военно-командную стать – и в тот же миг, сгибаясь под ворохом тряпья, увешанный обрезками кожи, обмотанный веревками, увенчанный сразу семью шляпами и нимбом гудящих мух, он уже скатывается по склону куда-то вниз и вбок, даже не оглядываясь на то, что осталось позади и что по мере его удаления все явственнее обретает очертания птицеустрашающего образа; ибо со стороны дюн, из камыша осоки, с пышных крон прибрежного сосняка некая сила уже поднимает в воздух как обычных, так и – с орнитологической точки зрения – редких птиц. Причина и следствие: та же сила сбивает их в тучу высоко над тем местом, где работает Эдуард Амзель. Своим причудливым птичьим шрифтом они выписывают на небе все более резкие, вихлявые и стремительные каракули страха. В этом тексте явственно варьируется на все лады корень «кар-р», слышно и его вихревое ответвление «мару-кру», он заканчивается – если вообще заканчивается – щемящим звуком «пи-и-и», но расцвечен и широчайшим спектром других фонетических ферментов, начиная от бессчетных «тю-и-ить» и множества «э-эк» и кончая рявканьем кряквы и истошными завываниями выпи. Нет такого ужаса, который, будучи разбужен творением Амзеля, не смог бы выразить себя в звуке. Но кто же, коли так, обходит дозором сыпучие гребни дюн, обеспечивая птицеустрашающей работе друга столь необходимый для творчества покой?
Вот они – эти кулаки, а вот и их хозяин Вальтер Матерн. Ему семь лет, и взгляд его серых глаз скользит по морю, словно море принадлежит только ему. Молодая сука Сента заливисто лает на астматическую балтийскую волну. Перкуна больше нет. Его унесла одна из многочисленных собачьих болезней. Перкун зачал Сенту. Сента, из рода Перкуна, родит Харраса. Харрас, из рода Перкуна, зачнет Принца. Принц же, из рода Перкуна, Сенты и Харраса, – а в начале начал хрипло воет литовская волчица – будет творить историю… но пока что Сента заливисто облаивает хилое Балтийское море. Хозяин же ее стоит босиком на песке. Одним только усилием воли и легкой вибрацией, от ступни до колен, он способен все глубже и глубже вбуравливаться в дюны. Песок вот-вот достигнет потрепанных обшлагов его вельветовых, задубевших от морской воды брючин – но тут Вальтер Матерн прыг из песка, песок по ветру, а сам он уже вниз по склону, и Сента прочь от мелкой воды, должно быть, оба что-то учуяли, оба – он коричнево-зеленый, вельвет и шерсть, она черная, вытянувшись стрелой, – перемахивают через верхушку соседней дюны, бросаются в камыши, выныривают на миг где-то совсем в другом месте, снова исчезают и затем – ленивое море едва успевает шестой раз лизнуть прибрежный песок – нехотя и тоскливо возвращаются назад. Ничего. Наверно, ничего и не было. Шиш с маслом. Дырка от бублика. Даже не кролик.
А наверху, там, где со стороны Путцигского Угла по направлению к Хоффу по яркой синьке неба тянутся аккуратные, почти одинаковые, словно нарисованные облака, неугомонные птицы своим истошно-пронзительным криком не устают подтверждать, что не совсем еще завершенное Амзелем птичье пугало на самом деле давно, давным-давно готово.
Тринадцатая утренняя смена
Завершение года было встречено на производственной территории с благодатным спокойствием. Подмастерья, под присмотром штейгера Вернике, запустили с башни копра несколько веселеньких ракет, огненными линиями воспроизведших на небе наш фирменный знак, небезызвестный пернатый мотив. К сожалению, была слишком низкая облачность, что помешало волшебству развернуться в полную силу.
Сотворение фигур, эта забава, свершавшаяся то в дюнах, то на гребне дамбы, то на черничной поляне береговой рощи, обрела дополнительный смысл, когда однажды вечером – паром уже кончил ходить – паромщик Криве провожал домой шивенхорстского сельского учителя и его дочурку в красно-белую клеточку, причем шли они как раз той лесной опушкой, на которой Эдуард Амзель под охраной верного друга Вальтера Матерна и собаки Сенты выстроил над крутым склоном лесной дюны шесть или семь своих изделий самого свежего изготовления, выстроил хотя и рядом, но даже не рядком и уж тем паче не шеренгой.
Вдали за Шивенхорстом нехотя заходило солнце. Друзья отбрасывали на песок длинные, долговязые тени. А поскольку даже при таком освещении тень Амзеля оставалась заметно толще, пусть закатывающееся светило и засвидетельствует весьма упитанную комплекцию мальчика – с годами эта его полнота только усугубится.
Оба не шелохнулись, когда кривой и задубелый Криве и увечный крестьянин Лау с плетущейся позади девчушкой и тремя тенями подошли ближе. Сента выжидала, изредка деловито почесываясь. Ничего не выражающим взглядом – они частенько его тренировали – оба уставились вдаль, поверх выстроенных пугал, поверх скатывающейся вниз луговины, где обитают кроты, куда-то в направлении матерновской мельницы. Мельница, сидя гузном на козлах, хотя и вознесена округлым загривком холма на самое ветряное раздолье, крыльями не шевелила.
Но кто там стоит у подножия холма с огромным мешком муки, переломившимся через правое плечо? Да это же мельник Матерн, весь белый, стоит под мешком. И он тоже, как и крылья его мельницы, как и мальчишки на гребне дюны, как и Сента, застыл в неподвижности, хотя и совсем по другой причине.
Криве медленно вытянул вперед левую руку с корявым, бурым указательным пальцем. Хедвиг Лау, даже по будням одетая по-воскресному, буравила песок мыском лаковой туфельки с пряжкой. Указательный палец Криве уткнулся в экспозицию Амзеля:
– Вот это они самые и есть. – И его палец обстоятельно проследовал от одного пугала к другому.
Мужицкая, почти восьмиугольная голова Лау послушно поворачивалась в такт каждому перемещению сучковатого пальца паромщика, отставая, впрочем, до самого конца этого действа (а числом пугал было семь) ровно на два такта.
– Этот малец делает такие пугала, что у тебя, кум, ни одной пичуги на огороде не останется.
Поскольку туфелька продолжала буравить песок, это движение передалось оборке платья и косичкам с бантиками из той же материи. Крестьянин Лау почесал под шапкой макушку и обтискал глазами уже степенно, с чувством, с толком, все семь пугал снова, но в обратном порядке. Амзель и Вальтер Матерн, усевшись на крутом гребне дюны, вразнобой болтают ногами и не сводят глаз с неподвижных крыльев далекой мельницы. Упитанные икры Амзеля туго перехвачены резинками гетр – в припухлостях розовой кожи есть что-то кукольно-голышовое. Белый мельник у подножья холма все еще стоит. Все так же покоится на его правом плече неподъемный шестипудовый мешок. И хотя самого мельника хорошо видно, мыслями он совсем не здесь.
– Слышь, браток, если хочешь, могу спросить у мальца, сколько такое пугало может стоить, если оно вообще что-то стоит.
Медленнее, чем кивает мужицкая голова сельского учителя, кивнуть просто невозможно. А у дочурки его каждый день воскресенье. Сента, навострив уши, ловит каждое движение, большинство из которых угадывает наперед: она еще слишком молодая собака, чтобы привыкнуть к нерасторопности человеческих указаний. Когда Амзеля крестили и птицы подали первый знак, Хедвиг Лау еще плавала в водах материнского лона. Морской песок очень портит лаковые туфельки. Криве в своих деревянных башмаках, нехотя повернув голову в сторону дюны, сплевывает куда-то вбок сгусток табачной жижи, который в песке тут же превращается в шарик, и произносит:
– Слышь, малец, тут кое-кто любопытствует, сколько такое вот пугало огородное может стоить, если оно вообще что-то стоит.
Нет, белый мельник вдалеке не уронил свой мешок, и Хедвиг Лау не перестала буравить песок мыском туфельки, только Сента подскочила, взметнув пыль, когда Эдуард Амзель свалился с гребня дюны. И покатился вниз, дважды перевернувшись через голову. И вскочил, как бы завершив тем самым два кувырка, и оказался аккурат посередке между двумя взрослыми мужчинами в суконных куртках, чуть-чуть не доходя до девчоночьей туфельки, что буравит песок.
Только тут наконец белый мельник тронулся с места и неторопливо, за шагом шаг, стал подниматься на вершину холма. Лаковая туфелька с пряжкой прекратила буравить песок, красно-белое клетчатое платьице и такие же бантики в косичках то и дело подрагивали, теперь от хихиканья, сухого и бестолкового, как вчерашние хлебные крошки. Стороны приступили к торгу. Амзель, ткнув большим пальцем вперед и вниз, указал на лаковые туфельки с пряжками. Решительно мотнув головой, крестьянин то ли дал понять, что туфельки вообще не продаются, то ли временно изъял их из продажи. Несостоятельность натурального обмена вызвала к жизни звон твердой валюты. Покуда Амзель и Криве (а вместе с ними, но гораздо медленнее, и сельский учитель Эрих Лау) подсчитывали и вычисляли, то и дело загибая и выбрасывая пальцы, Вальтер Матерн продолжал восседать на гребне дюны и, судя по звукам, которые он издавал зубами, явно не одобрял всю эту торговлю, которую он позже назовет «суетней».
Криве и Эдуард Амзель сумели договориться гораздо быстрее, чем крестьянин Лау кивнуть. Его дочурка уже снова буравила песок своей туфелькой. Отныне одно пугало стоило пятьдесят пфеннигов. Мельник исчез. Мельница замахала крыльями. Сента к ноге. За три пугала Амзель запросил один гульден. Сверх того он запросил – и не без оснований, поскольку торговлю надо развивать, – по три старые тряпки на каждое пугало и в придачу лаковые туфельки Хедвиг Лау, когда они будут сочтены изношенными.
О, этот деловитый и торжественный день, когда заключена первая сделка! На следующее утро сельский учитель благополучно переправил все три пугала в Шивенхорст и установил их в своей пшенице за железной дорогой. Поскольку Лау, как и многие крестьяне в долине, выращивал либо эппскую, либо куявскую пшеницу, то есть безостные сорта, особенно подверженные птичьей потраве, пугала Амзеля получили прекрасную возможность зарекомендовать себя в деле. В своих кофейниковых нахлобучках, с пучками соломы вместо волос и ремнями крест-накрест, они вполне могли сойти за трех последних гренадеров первого гвардейского полка после битвы при Торгау{44}, которая, если верить Шлиффену, была просто смертоубийственной. Так уже сызмальства возобладало явное пристрастие Амзеля к чеканному образу прусского воинства. Как бы там ни было, а эти три головореза свое дело сделали – над вызревающим полем яровой пшеницы, где прежде господствовали птичий грай и разорение, воцарилась мертвая тишина.
Весть об этом разнеслась по округе. Уже вскоре стали приезжать крестьяне из соседних деревень по обе стороны Вислы, из Юнкеракера и Пазеварка, из Айнлаге и Шнакенбурга, но и из глубинки – из Юнгфера, Шарпау и Ладекоппа. Криве посредничал, но Амзель поначалу цены все равно не взвинчивал и принимал, после того как Вальтер Матерн сделал ему серьезное внушение, сперва лишь каждый второй, а потом – каждый третий заказ. И себе, и своим клиентам он объяснял, что халтурно работать не хочет, а потому будет производить на свет по одному, от силы – по два пугала за день. Всякую помощь он отклонял. Помогать дозволялось лишь Вальтеру Матерну, который поставлял Амзелю сырье с обоих берегов и продолжал куда как надежно охранять художника и его творения с помощью двух своих кулаков и черной собаки.
Брауксель считает также необходимым сообщить, что уже вскоре у Амзеля было достаточно средств, чтобы за скромную плату снять у Фольхерта его хотя и развалюшистый, но все же запирающийся на замок сарай. В этом деревянном строении, пользовавшемся дурной славой, поскольку на одной из его балок якобы кто-то когда-то по какой-то причине повесился, то есть под крышей, которая способна вдохновить любого художника, хранилось все, что под рукой Амзеля должно было ожить в образе пугала. В дождливую погоду сарай из склада превращался в мастерскую. Дело здесь было поставлено как у настоящего ремесленника, ибо Амзель работал на своем капитале: на свои деньги в магазине матери, то есть по оптово-закупочным ценам, он приобрел молотки, две ножовки, дрель, щипцы, клещи и кусачки, долото, стамеску и перочинный нож с тремя лезвиями, шилом, штопором и пилкой. Нож этот он подарил Вальтеру Матерну. А Вальтер Матерн два года спустя, когда он стоял на гребне дамбы и искал да так и не нашел камень, швырнул этот нож вместо камня в половодную Вислу. Но об этом мы уже слышали.
Четырнадцатая утренняя смена
Некоторым господам не худо бы взять за образец рабочую тетрадь Амзеля, дабы научиться вести книгу как положено. Сколько уж раз Брауксель описывал обоим своим соавторам надлежащий порядок работы? Две поездки – обе, между прочим, за счет фирмы – сводили нас вместе, и обоим господам было предоставлено достаточно времени, дабы без всяких помех сделать необходимые записи, составить подробный план работы и всевозможные рабочие схемы. Вместо этого теперь в ответ сыплются вопросы: «Когда надо представить рукопись? Сколько строк должно быть в одной странице – тридцать или тридцать четыре? Вы действительно согласны с жанром писем или мне следует отдать предпочтение более современным формам в духе, допустим, французского "нового романа"? Удовлетворит ли Вас, если я опишу Штрисбах попросту как мелкий ручеек между Верхним Штрисом и Легштрисом? Или следует ввести исторический контекст, упомянув, допустим, пограничный спор между городом Данцигом и Оливой, монастырем цистерцианцев? В частности, охранное письмо герцога Святнополка, внука Субислава I, основателя монастыря, от одна тысяча двести тридцать пятого года? Там Штрисбах упоминается в связи с Сасперским озером: "Lacum Saspi usque in rivulum Strieza…"[1] Или охранную грамоту Мествина II от года одна тысяча двести восемьдесят третьего, где о пограничном ручье Штрисбахе сказано так: "Praefatum rivulum Striecz usque in Vislam…"[2] Либо же охранное письмо с подтверждением всех владений монастырей Олива и Сарновиц от года одна тысяча двести девяносто первого? Там в одном месте Штрисбах пишется как "Стризде", а в другом сказано: "…prefatum fluuium Strycze cum utroque littore a lacu Colpin unde scaturit descendendo in Wislam…"[3]»
Другой господин соавтор тоже на ответные вопросы не скупится и в каждое письмо норовит вставить напоминание об авансе: «…если дозволено упомянуть об устной договоренности, согласно которой каждый соавтор, начиная работу над рукописью…» Что ж, да получит господин артист свой аванс. Но не худо бы ему при этом положить перед собой рабочую тетрадь Амзеля – если не подлинник, то хотя бы фотокопию – и хранить ее как святыню.
Пусть его вдохновит хотя бы жанр бортового журнала. Ведется на любом корабле, даже на пароме. Возьмем, к примеру, Криве: рожа сыромятная, вся в бороздах, глаза что мартовские лужи, без ресниц вовсе и к тому же косят, что позволяет ему, однако, водить свой паровой паром поперек течения, то бишь тоже наискось, точнехонько от одной пристани к другой. Повозки и экипажи, рыбных торговок с их вонючими коробами, пастора и школяров, просто проезжих и коммивояжеров с образцами товара, пассажирские и товарные вагончики местной узкоколейки, скотину убойную и племенную, свадьбы с молодоженами и похоронные процессии с венками и гробом – всех их Криве переправлял через реку и все происшествия исправно заносил в бортовой журнал. Между обитым железом бортом парома и пристанью монетку не просунешь – так плотно, без малейшего стука умел причаливать Криве. К тому же дольше, чем кто-либо еще, он пробыл у наших друзей, Вальтера Матерна и Эдуарда Амзеля, надежным торговым агентом, не требуя с произведенных сделок никаких процентов, разве что иногда принимая в подарок табачок. А когда паром прекращал работу, он водил их обоих в места, одному ему, Криве, известные. Это он побудил Амзеля вплотную заняться изучением устрашающего действия ивы – ведь их, Криве и Амзеля, теории искусства, отразившись впоследствии в рабочем дневнике, вот к чему клонили: «Модели следует преимущественно заимствовать из природы». А уж позже, много лет спустя, под псевдонимом Зайцингер, Амзель развил этот тезис, записав в тот же дневник: «Все, что поддается набивке изнутри, принадлежит природе, включая, допустим, куклу».
Но та – полая – ива, к которой отвел друзей Криве, шевелила ветвями и была еще не набита. Вдали, на плоском фоне, машет крыльями мельница. Из-за поворота медленно выползает по узкоколейке последний поезд, пыхтя куда быстрее, чем он едет. Еще бы – масло растает! Молоко скиснет! Четыре босые ступни, два рыбацких сапога, пропитанных ворванью. Сперва дернина и крапива, потом клевер. Через два забора, три жердины отвалить, потом еще забор перелезть. И вдруг, по обе стороны ручья, ивы обступают на шаг ближе, на шаг дальше, оборачиваются, живые, бедрастые, даже с пупками; а одна – ибо даже среди ив бывает одна ива – была совсем-совсем пустая, покуда Амзель три дня спустя ее не набил; уселся толстячком-хомячком на корточки и изучает нутро ивы, потому что паромщик Криве сказал… А потом, выбравшись из огромного дупла, где он все обсмотрел, сидя на корточках, начинает внимательно обследовать все ивы по обоим берегам ручья, в особенности одну, о трех макушках, которая одной ногой на сухом бережку стоит, а другой в воде прохлаждается, потому что в незапамятные времена богатырь Милигедо, тот, что со свинцовой палицей, ей на пятку наступил, – вот ее-то Амзель и выберет моделью. И она стоит, не шелохнется. Хотя по виду – вот-вот сорвется прочь, тем более что и туман – ведь рань несусветная, до школы еще сто лет, – туман с реки по лугам ползет-клубится, проглатывая ивы сперва по пояс, потом целиком, так что вскоре лишь три головы ивы-натурщицы будут плавать над туманной пеленой, о чем-то друг с дружкой переговариваясь.
Тут наконец Амзель вылезает из своего кокона, но хочет не обратно домой, к маме, которая и во сне ворочает свои амбарные книги, снова и снова все подсчитывая, а хочет, наоборот, быть свидетелем млечного часа, о котором говорил Криве. И Вальтер Матерн тоже хочет. А Сенты с ними нет, потому что Криве сказал:
– Ребятки, только псину с собой не брать, а то еще напугается и скулить начнет, когда дело до дела дойдет.
Что ж, без так без. Так что теперь между друзьями как бы пустое пятно о четырех лапах и с хвостом. Тишком босиком по серым лугам, с оглядкой назад, на клубящиеся клочья, то и дело подмывает свистнуть: «Сюда! К ноге!» – но идут молчком, потому что Криве сказал… Вдруг, прямо перед ними, как памятники, – коровы в туманной мути. Тут же, неподалеку от коров, аккурат посередке между байстеровскими льнами и ивами у ручья, они залегают прямо в росу и ждут. Серая пелена мало-помалу сползает с дамб и с прибрежного леса. Вдали, над туманом, над тополями вдоль шоссе, что на Пазеварк, Штеген и Штуттхоф, скрестились крылья матерновской мельницы. Неподвижные, будто выпиленные лобзиком. В такую рань даже мельник молоть не станет. Даже петух не крикнет, но уже скоро. Безмолвно и близко, как призраки, бредут гуськом, наклоненные ветром в одну сторону с северо-запада на юго-восток, девять береговых сосен по большой дюне. Жабы – или это волы? – жабы, а может, волы, надрываются что есть мочи. Лягушки, те понежней, будто молебен затянули. И комары в унисон. Вот кто-то – но вроде не чибис – то ли всполошился, то ли просто подал голос. Все еще ни одного петуха. Коровы, острова в тумане, сопят. Сердце Амзеля как булыжник по жестяной банке. Сердцем Матерна хоть дверь высаживай. Одна из коров мыкнула теплым мыком. Другие отозвались нутряным, утробным сапом. Сколько же звуков в рассветном тумане: сердце по жести и в дверь, кто-то кому-то голос, девять коров, жабы-волы, комары… И вдруг – вроде и знака никто не подал – безмолвно. Сгинули лягушки, нет ни жаб, ни волов, ни комаров, никто никого не зовет, не приманивает, не кличет, коровы ложатся в траву, а Амзель с другом, затаив дыхание, усмиряя сердце, вдавив ухо в росистый клевер, слышат: вот они! Ровное шуршание от ручья. Как будто мокрая тряпка по половицам, но равномерно и по нарастающей: плюх-плюх-пшиф – плюх-плюх-пшиф. Неужто водяные? Или безголовые монахини? Кума лешего гномы? Да кто же это бродит? Неужто призрак или сам дьявол Злодей-Асмодей?{45} Или черный рыцарь Пиг-Пигуд?{46} Или поджигатель Бобровский и его дружок Матерна, от которого все пошло? Дочка Кестутиса, ее, кажется, Туллой звали? И вдруг, вот они, высверком в траве, все еще в иле-тине, одиннадцать, пятнадцать, семнадцать бурых речных угрей ползут, плещутся в росе, извиваются, змеятся, проскальзывают сквозь клевер и рвутся все в одну сторону. Липкий-липкий извилистый след на примятой траве. Все еще в немоте жабы-волы и комары-мухи. Певуньи-лягушки тоже помалкивают. Никто не зовет и никто не отзывается. Теплые коровы грузно лежат на черно-белом боку. Каждая выставила вымя – бледно-розово-желтое, по-утреннему тугое: девять коров, тридцать шесть сосцов-титек, восемнадцать угрей. Тут на всех хватит, и вот они уже коричневато-черными шлангами приникли к розовато-пятнистым титькам: дружно-весело рядком смаком млеком-молоком… Сперва угри даже дрожат. Чья тут жажда, к кому-чему страсть? Потом, одна за другой, коровы роняют отяжелевшие головы в клевер. Течет молоко. Разбухают угри. Снова ревут жабы. Запевают потихоньку комары. Лягушки-вокалистки подхватывают. Все еще ни одного петуха, но зато Вальтер Матерн сдавленным голосом. Хочет подскочить и поймать рукой. Это запросто, там делать нечего. Но Амзель не хочет, у него другое на уме, он уже делает наброски. И вот угри уже уползают обратно к ручью. Коровы вздыхают. Первый петух. Медленно поворачиваются крылья мельницы. Из-за поворота узкоколейки уже слышно первый поезд. Амзель задумал совсем новое пугало.
Сказано – сделано. Поскольку у Ликфеттов как раз был убой, свиной пузырь достался задарма. Вымя получилось хоть куда – тугое, звонкое. Копченые шкурки настоящих угрей, насаженные на проволоку, набитые соломой и зашитые, были прикреплены к пузырю по кругу, так что угри, словно толстые волосы, извивались и шевелились в воздухе вокруг головы-вымени. И вот, покачиваясь между двумя скрещенными палками, над пшеницей крестьянина Карвайзе поднялась голова Медузы{47}.
И точно в том виде, в каком Карвайзе пугало купил, – это уж потом оно было дополнено чем-то вроде мантии, когда на перекрестье палок набросили дырявую шкуру сдохшей коровы, – Амзель зарисовал новое пугало в свой рабочий дневник: сперва как первоначальный и куда более выразительный набросок, одну голову без мантии, а затем уж и готовое изделие в дурацкой коровьей шкуре.
Пятнадцатая утренняя смена
Ну вот, с господином артистом уже начались неурядицы. Покуда Брауксель и молодой человек изо дня в день усердно пишут – один склоняясь над рабочим дневником Амзеля, другой обращаясь к своей кузине и помышляя о ней, – этот третий уже в начале года исхитрился подхватить легкий грипп. Вынужден временно прерваться, не имеет надлежащего ухода, об эту зимнюю пору, оказывается, всегда был подвержен, еще раз «позволяет разрешить себе» напомнить об обещанном авансе. Распоряжение уже отдано, господин артист. Отправляйтесь в свой карантин, господин артист, надеюсь, он пойдет вашей рукописи на пользу. О, деловитая радость от того, что есть надежное поприще повседневному тщанию – рабочий дневник, куда Амзель красивым и только что разученным зюттерлиновским шрифтом{48} заносил свои расходы по изготовлению птичьих, или, как их еще называют, огородных, пугал. Свиной пузырь достался задарма. Драную коровью шкуру Криве сосватал ему за две пачки жевательного табаку.
О, красивое и округлое словечко «сальдо»: есть циферки, пузатые и островерхие, которыми Амзель заносил в свой дневник выручку от продажи различных, садовых и огородных, пугал, – в частности, вымя с угрями принесло ему полновесный гульден.
Эдуард Амзель вел этот дневник года два, чертил вертикальные и горизонтальные графы, выводил зюттерлиновские буквы кругляшами и с хвостиком, документировал историю создания множества пугал эскизами конструкций и цветовыми пробами, увековечил – задним числом – и почти все пугала, которые к тому времени были проданы, и красными чернилами ставил сам себе оценки за каждое изделие. Позже, уже гимназистом, он куда-то засунул эту мятую, затрепанную общую тетрадку в потрескавшейся коленкоровой обложке и лишь много лет спустя снова нашел ее во время срочных сборов – он покидал город на Висле, торопясь на похороны своей матери, – в сундучке, который служил ему скамеечкой. Среди вещей, унаследованных от отца, среди книг о прусских героях и битвах, под толстенным томом Отто Вайнингера обнаружился рабочий дневник, а в нем добрая дюжина чистых страниц, которую Амзель позднее, уже будучи Зайцингером и Золоторотиком, – правда, нерегулярно, порой с годовыми паузами, – заполнял многочисленными сентенциями.
Сегодня Брауксель, чьи деловые книги ведет в конторе один делопроизводитель и семь служащих, располагает этой трогательной тетрадкой в коленкоровых ошметках. У него, конечно, и в мыслях нет использовать бесценный и ломкий оригинал для освежения памяти! Нет, вместе с договорами, ценными бумагами, лицензиями и важными производственными секретами сей оригинал хранится в сейфе, тогда как фотокопия дневника, действительно, лежит сейчас прямо перед Браукселем между набитой окурками пепельницей и чашкой полуостывшего утреннего кофе в качестве неизменного подспорья.
Первую страницу тетрадки почти целиком занимает всего одна фраза, скорее нарисованная, нежели написанная: «Пугала, изготовленные и проданные Эдуардом Амзелем».
Под ней, наподобие девиза, значительно мельче и без даты: «Начато на Пасху, потому что ничего нельзя забывать. Криве намедни сказал».
Брауксель, впрочем, считает, что нет особого смысла полностью воспроизводить в данной рукописи своеобычно-терпкую манеру письма восьмилетнего школьника Эдуарда Амзеля; с другой стороны, очарование этого языка, который вскоре, вместе с землячествами беженцев, отомрет и уже как мертвый язык, вроде латыни, будет представлять интерес лишь для науки, вполне допустимо передать в ходе работы над текстом формами прямой речи. Так что лишь когда Амзель, его друг Вальтер, паромщик Криве или бабушка Матерн раскрывают рот – вот тогда Брауксель и будет во всей красе воспроизводить местные обороты. При цитировании же дневника вполне уместно – поскольку, по мнению Браукселя, главную ценность данной тетрадки определяет все же не столько отважное правописание даровитого школьника, сколько запечатленные в ней на самых первых порах целеустремленные пугалотворческие искания – воспроизводить неповторимую манеру сельского школьника лишь в стилизованном виде, то есть наполовину подлинным, а наполовину литературным слогом, примерно вот так: «Севодни после дойки одним гульденом больше за пугало што одной ногой стоит а другую держит наперикосяк взял Вильгельм Ледвормер. Дал шлем улана и кусок подстежки когда-то из козы».
Более добросовестно Брауксель пытается дать описание сопутствующего этой записи рисунка: карандашами разных цветов – коричневый, киноварь, лиловый, ярко-зеленый, берлинская лазурь, – цветов, которые, однако, нигде не выступают в чистом виде, а, напротив, смешанной заштриховкой наслаиваются друг на друга, дабы вернее передать ветхость поношенного и драного тряпья, – вышеупомянутое пугало, которое «одной ногой стоит а другую держит наперикосяк», запечатлено целиком, очевидно по памяти, эскизы отсутствуют. Наряду с цветовым решением особенно поражает на редкость смелая, набросанная буквально несколькими штрихами и даже на сегодняшний взгляд вполне современная конструкция основного рисунка. Позиция «што одной ногой стоит» намечена контуром слегка наклоненной вперед лестницы с двумя отсутствующими перекладинами; позиции же «а другую держит наперикосяк» может соответствовать лишь та неповторимая поперечина, что под углом в сорок пять градусов выделывает антраша, как бы отламываясь в неудержимом плясовом порыве от середины лестницы куда-то влево, в то время как сама лестница, напротив, слегка кренится вправо. Первым делом, конечно, именно этот контурный рисунок, но и последующая цветовая заштриховка создают в конечном итоге образ лихого танцора, нацепившего на себя былую доблесть и вылинявшие обноски боевого мундира, в котором красовались мушкетеры славного пехотного полка принца Анхальт-Дессау в битве при Лигнице{49}.
Чтобы не ходить вокруг да около – в дневнике Амзеля прямо-таки кишмя кишат пугала в военных мундирах. Вот гренадер третьего гвардейского батальона штурмует лейтенское кладбище{50}; бедняк из Тоггенбурга{51} стоит во фрунт в рядах своего Итценплицкого полка; беллингский гусар капитулирует при Максене{52}; бело-голубые натцмерские уланы, спешившись, рубятся с шорлемскими драгунами; в голубом, с красной подстежкой, мундире чудом остается в живых стрелок из полка барона де ля Мотт-Фуке{53}; короче, все, что на протяжении знаменитых семи лет, да и раньше, бушевало на пространствах между Богемией, Саксонией, Силезией и Померанией, унося ноги под Молльвицем{54}, потеряв кисет под Хенненсдорфом{55}, присягнув под Пирной Фрицу, переметнувшись к неприятелю под Колином{56}, а при Росбахе{57} снискав внезапную славу, – все это оживало под руками Амзеля, разгоняя, однако, отнюдь не лоскутное имперское воинство{58}, а всего лишь птиц в дельте Вислы. И если Зейдлицу пришлось гнать Хильдбургхаузена{59} – «…voila au moins mon martyre est fini…»[4] – через Веймар, Эрфурт, Зальфельд аж до самого Майна, то крестьянам Ликфетту и Момзену, Байстеру, Фольхерту и Карвайзе за глаза хватало и того, что запечатленные в рабочей тетради пугала Амзеля в мгновение ока разгоняли пернатое население дельты Вислы с тучных полей эппской безостой пшеницы, вытесняя его на каштаны и ивы, ольху, тополя и гордые прибрежные сосны.
Шестнадцатая утренняя смена
Он благодарит. Звонит по междугороднему, разумеется за счет собеседника, семь минут, никак не меньше: деньги пришли, ему снова лучше, грипп миновал свой кризисный апогей и теперь отступает, завтра, самое позднее – послезавтра, он снова сядет за машинку; как уже говорилось, он, к сожалению, вынужден сразу писать на машинке, поскольку совершенно не в состоянии, увы, разбирать свои собственные каракули, зато во время болезни его осенило несколько прекрасных мыслей…
Будто он сам и вправду не знает цену подобным горячечным озарениям. Господин артист не видит большого проку от ведения приходно-расходной бухгалтерии, хотя Брауксель посредством многолетних подсчетов неутешительных балансов уже не раз подводил его к неутешительному сальдо.
Как знать, возможно, смышленый Эдуард Амзель перенял основы ведения книг не только из бортового журнала Криве, но и от своей матушки, которая в вечерние часы, вздыхая, склонялась над своими бухгалтерскими фолиантами, – не исключено, что он даже помогал ей в записях, подшивке документов, в проверке подсчетов.
Лоттхен Амзель, урожденная Тиде, несмотря на все трудности послевоенных лет, исхитрилась держать фирму «А. Амзель» на плаву и даже смогла, на что сам Амзель, мир его праху, в военные годы никогда бы не отважился, перестроить и расширить дело. Она начала торговать рыбацкими куттерами, не только новенькими, прямо с верфи Клавиттер, но и подержанными, которые полностью перебирались на Соломенной дамбе, а еще подвесными моторами. Она продавала куттеры или, что было еще выгодней, сдавала их в аренду молодым рыбакам, которые только что обженились.
И хотя к маме Эдуард относился с достаточным пиететом и никогда, даже ненароком, не воспроизводил ее в виде пугала, с тем большей беззастенчивостью он принялся – примерно с восьмого года жизни – копировать финансово-экономическую политику своей матушки. Если она сдавала в аренду рыбацкие куттеры, то он начал давать напрокат свои особенно прочные, специально для прокатных целей изготовленные пугала. Многие и многие страницы его рабочего дневника скрупулезно документируют, сколько раз и кому выдавались пугала напрокат. Отдельным столбиком, все больше смахивающим на каланчу, Брауксель подсчитывает, сколько Амзель заработал на прокате птичьего страха – получается очень даже приличная сумма! Из прокатных пугал здесь будет рассмотрено лишь одно, которое хотя и не принесло высоких сборов, однако существенно повлияло на дальнейший ход событий нашего повествования, а тем самым, значит, и на всю эволюцию птицеустрашающего искусства.
Итак, вскоре после уже упомянутого ивового похода к ручью, после того как Амзель создал и продал пугало на тему «Угри, сосущие молоко», возникло еще одно произведение, отчасти обязанное своим обликом, с одной стороны, трехглавой иве, с другой же – восставшей из немощи, размахивающей поварешкой и скрежещущей зубами бабке Матерн, и работа эта тоже нашла отражение в дневнике Амзеля; однако рядом с эскизом конструкции здесь имеется надпись, безусловно обосабливающая данный художественный продукт ото всех прочих: «Придется сиводни уничтожить потому как Криве говорит ничего окромя беды не будет».
Макс Фольхерт, который вообще-то всю семейку Матернов недолюбливал, взял у Амзеля упомянутое пугало и установил прямо у забора в своем саду, который выходил на штуттхофское шоссе аккурат напротив матерновского огорода. Вскоре выяснилось, что прокатное пугало наводит ужас не только на птиц – при его виде лошади взбрыкивали и, высекая копытами искры, пускались в галоп. Мирно бредущее по домам коровье стадо кидалось врассыпную, едва размахивающая поварешкой ива бросала на них свою грозную тень. Ко всей этой пуганой скотине вскоре присоединилась и бедная, вечно встрепанная Лорхен, которую и так день-деньской гоняла бабка с поварешкой, причем самая что ни на есть доподлинная. Теперь же, узрев еще одну бабку, о трех головах и почему-то в обличье ивы, бедняжка, форменным образом зажатая этими бабками в тиски, совсем обезумела от страха и бродила теперь, простоволосая, шальная, по полям и прибрежной роще, по дюнам и дамбам, по дому и саду, а однажды чуть было не угодила на плетеное крыло вертящейся мельницы, если бы родной брат, мельник Матерн, вовремя не успел оттащить ее, ухватив за передник. По совету Криве и к явному неудовольствию старика Фольхерта, который позднее без всяких церемоний потребовал часть уплаченных денег назад, Вальтер Матерн и Эдуард Амзель за одну ночь разобрали злополучное пугало. Так художнику впервые пришлось осознать, что творения, если они позаимствованы у природы с достаточным усердием, имеют власть не только над птицами в небе, но и способны влиять и на коров, и на лошадей, а также и на бедную Лорхен, то бишь и на людей, сбивая их всех с привычного для сельских мест неторопливо-размеренного шага. В жертву этому знанию Амзель принес одно из самых впечатляющих своих пугал и никогда больше не использовал ивы в качестве моделей, что не мешало ему время от времени, особенно при низком тумане, прятаться в дупле старой ивы, а пластунский марш угрей к залегшим в траве коровам вспоминать как событие в высшей степени замечательное. Впредь он предусмотрительно избегал сращивать человека и дерево, а использовал, подвергая себя добровольному самоограничению, в качестве моделей неотесанные и бесхитростные, но вполне пригодные как прообраз пугала фигуры местных крестьян. Этот сельский люд, переодетый в мундиры прусских королевских гусар, стрелков, ефрейтор-капралов, штандарт-юнкеров и старших офицеров, поистине преображался, возносясь над садами и огородами, пшеничными нивами и полями ржи. Со спокойной совестью Амзель усовершенствовал свою систему проката и даже предпринял – впрочем, без роковых последствий – уголовно наказуемый подкуп должностного лица, склонив красиво упакованными подарками кондуктора местной прибрежной узкоколейки к бесплатной транспортировке его, Амзеля, пугал, или, фигурально выражаясь, к транспортировке ожившей и наконец-то не совсем бесполезной прусской истории.
Семнадцатая утренняя смена
Артист протестует. Отступающий недуг не помешал ему самым пристальным образом изучить рабочие планы Браукселя, которые тот рассылает своим соавторам. Его никак не устраивает, что уже в этой утренней смене будет воздвигнут памятник мельнику Матерну. Он считает, что это право неотъемлемо принадлежит ему. Поэтому Брауксель, радея о сохранении и сплоченности авторского коллектива, добровольно отказываясь от создания всеобъемлющего полотна, тем не менее настаивает на своем праве запечатлеть здесь ту часть образа мельника, которая уже бросила свой отсвет на страницы рабочего дневника Амзеля.
Дело в том, что, хотя восьмилетний мальчуган и рыскал с особым тщанием по прусским полям боевой славы в поисках бесхозных мундиров, одна модель – а именно вышеназванный мельник – была позаимствована им прямо из жизни, без всяких прусских примесей, зато с мешком муки на плече.
В результате возникло кривое пугало, ибо мельник был, что называется, кривой, как черт. Поскольку на правом плече он всю жизнь протаскал мешки с зерном и мукой, плечо это было теперь чуть ли не на ладонь шире левого, так что всякий, кто смотрел на мельника спереди, испытывал необоримый соблазн немедленно схватить эту голову обеими руками и посадить, как кочан капусты, куда следует. Поскольку ни рабочую, ни выходную одежду он на заказ не шил, любой сюртук и пиджак, любое пальто и вообще все, что он надевал на плечи, казалось сшитым вкривь и вкось, сбивалось на шее складками, а правый рукав был короток и неизменно полз по всем швам. Правый глаз постоянно подмигивал в хитроватом прищуре. На той же правой стороне лица, даже когда на плечо не давил шестипудовый мешок, угол рта почему-то ехал вверх. Нос вело туда же. Вдобавок ко всему – а ради этого, собственно, и пишется весь портрет – его правое ухо, все расплющенное и раздавленное тысячами мешков, перетасканных за многие десятилетия трудов праведных, пласталось по голове наподобие оладьи, тогда как левое, отчасти по контрасту, отчасти же по прихоти матушки-природы, лопухом торчало в сторону. Собственно говоря, если смотреть на мельника спереди, то казалось, что у него вообще только одно ухо и есть, – а между тем именно это, второе, как бы отсутствующее, а вернее сказать, лишь слабо угадывающееся ухо и было самым главным.
Он тоже, хотя и не настолько, как бедная Лорхен, был, что называется, не от мира сего. В деревнях вокруг поговаривали, что бабка Матерн, должно быть, в детстве слишком усердно прикладывала к его воспитанию поварешку. От средневекового разбойника и поджигателя Матерны, того самого, что вместе с дружком доживал свой век в темнице, потомкам передалось все самое худшее. Меннониты, что грубые, что тонкие, только перемигивались, а грубый меннонит-бескарманник Симон Байстер вообще уверял всех, что, дескать, католическая вера не идет всей семейке Матернов впрок, особливо мальцу, он только и знает, что с этим увальнем Амзелем, который с того берега, по всей округе шастать да зубами скрипеть: да одна псина их чего стоит – она же чернее преисподней. При этом надобно заметить, что по натуре мельник Матерн был человеком скорее мягким, врагов в окрестных деревнях у него, как и у бедной Лорхен, почти не было, зато насмешников – хоть отбавляй.
Итак, ухо мельника – а впредь, когда речь пойдет об ухе мельника, будет иметься в виду только правое, расплющенной оладьей прилегающее, раздавленное мешками, – так вот, ухо мельника достойно упоминания вдвойне: во-первых, потому что Амзель в своем пугале, которое отражено в рабочем дневнике в эскизном виде, это ухо с истинно творческой отвагой вообще отбросил; во-вторых, потому что это ухо, оставаясь совершенно глухим ко всем обычным мирским звукам, как то: кашлю-говору-проповеди, церковному пению, звону коровьих колокольцев, выковке подков, всякому лаю собачьему, пенью птичьему, треньканью сверчковому, – слышало, причем отчетливо, до малейшего шепотка, шушуканья и полуслова, все, что творилось и переговаривалось в мешке с зерном или же с мукой. Зерно голое или мякинное, какое на побережье и не выращивали почти, отмолоченное на грубой или тонкой молотилке; пшеница твердая или мягкая, полбенная двузернянка или эммер, хрупкая, стекловидная, полустекловидная или мучнистая – ухо мельника, глухое ко всем другим звукам, прослушивало каждый мешок, точно устанавливая процент зерна порченного, прогорклого, а то и вовсе без ростков. Он сорт угадывал на слух, не раскрывая мешка: светло-желтую франкенштайнскую, пеструю куявскую, розоватую пробштайнскую и рыжую цветочную, которая особенно хороша на глинистых почвах, английскую колосистую и еще два сорта, которые на побережье только начинали пробовать: сибирскую зимнестойкую и шлипхакенскую белую, сорт номер пять.
Еще больший дар яснослышанья ухо мельника, глухое ко всем прочим звукам, обнаруживало в отношении муки. Если, прильнув – не как очевидец, а как ухослышец – к мешку с зерном, он дознавался, много ли в нем живет долгоносиков, включая куколки и личинки, много ли жуков-наездников и жуков-узкотелов, то, приложив свое ухо к мешку с мукой, он мог с точностью до единицы сказать, сколько в данных шести пудах пшеничной муки обитает мучных червей – Tonebrio molitor. При этом – что и вправду поразительно – он, благодаря своему плоскостопому уху, иногда сразу, а иногда после нескольких минут яснослышанья, был осведомлен даже о том, скольких дохлых мучных червей в данном мешке оплакивают их живые сородичи, ибо, как не без лукавства уверял он, прищурив правый глаз, кривя направо рот и ведя в ту же сторону носом, по шуму от живых червей всегда можно узнать о численности погибших собратьев.
Жители Вавилонии, как утверждал Геродот, засевали пшеницу зернами величиной с горошину; можно ли, спрашивается, положиться на сведения Геродота?
Мельник Антон Матерн особым способом досконально оценивал качество и состояние зерна и муки; можно ли, спрашивается, верить мельнику Матерну?
И вот в корчме у Люрмана, что между усадьбой Фольхерта и его же, Люрмана, сыроварней, устраивается спор. Корчма для этой цели отлично годилась и даже имела наглядные свидетельства славного прошлого по этой части. Во-первых, здесь можно было своими глазами узреть дюймовый, а по некоторым уверениям даже двухдюймовый гвоздь, по самую шляпку утопленный в массивную деревянную стойку, куда его много лет назад и тоже на спор с одного удара голым кулаком загнал Эрих Блок, плотницких дел мастер из Тигенхофа; во-вторых, белый потолок корчмы хранил на себе доказательства и другого рода – следы от сапог, числом не меньше дюжины, наводившие на мысль о кознях нечистой силы, благодаря которым кто-то разгуливал по потолку головой вниз. На самом же деле сила была, с определенными, конечно, оговорками, достаточно чистой и принадлежала Герману Карвайзе, который, когда некий агент-представитель страховой противопожарной компании усомнился в мощи его мускулов, попросту схватил вышеозначенного агента и, перевернув вверх тормашками, стал подбрасывать к потолку, всякий раз заботливо подхватывая у самого пола, чтобы человек не расшибся, а главное, мог потом подтвердить, каким образом доказательства доблестной пробы сил, то есть отпечатки его представительских сапог, запечатлелись на потолке трактира.
Когда испытывали Антона Матерна, тоже не обошлось без силы, но не телесной – вид у мельника был, пожалуй, тщедушный, – а скорее призрачной и таинственной. Дверь и окна закрыты. Лето осталось на улице. О времени года громко и на разные голоса напоминают только липучки-мухоловки. В стойке дюймовый гвоздь по самую шляпку, отпечатки сапог на сером, когда-то свежевыбеленном потолке. Фотографии и призы, обычные реликвии стрелковых праздников. На полке лишь несколько бутылей зеленого стекла с огнедышащим содержимым внутри. Запахи махорки, сапожной ваксы и молочной сыворотки спорят друг с другом, но едва ощутимый перевес остается за сивушным духом, который набирает силу еще с субботнего вечера. В корчме болтают-пьют-спорят. Карвайзе, Момбер и молодой Фольхерт ставят бочонок крепкого нойтайхского пива. Тишком сгорбившись над шкаликом курфюрстской водки, которую обычно здесь никто, кроме городских, не пьет, мельник Матерн со своей стороны выставляет такой же бочонок. Люрман, за стойкой, уже принес десятикилограммовый мешочек муки и держит наготове для окончательной третейской проверки мучное сито. Сперва мешочек просто так, ознакомления ради, покоится на ладонях у кривого-кособокого мельника, а уж потом к нему, как к подушке, приникает плоское мельничье ухо. И тотчас – поскольку в этот миг никто не жует, не мелет деревенской трактирной околесины, даже почти не дышит сивушным перегаром – явственней раздается пение липучек-мухоловок. Что все арии умирающих лебедей-лоэнгринов во всех театрах мира супротив предсмертного хора разноцветных мух в сельской местности!
Люрман уже подсунул мельнику под свободную руку свою аспидную дощечку с грифелем на веревочке. На ней уже размечены – инвентаризация дело нешуточное – соответствующие графы: 1. Личинки; 2. Куколки; 3. Черви. Мельник пока что все еще слушает. Мухи жужжат. Ароматы сыворотки и ваксы набирают силу, поскольку сивушное дыхание все затаили. Но вот несподручная левая рука – правой мельник чуть приобнял мешочек – поползла по стойке к дощечке: в графе «Личинки» грифель с натужным скрипом выводит скошенную цифру семнадцать. Потом, с повизгиванием, – двадцать две куколки. Но их тут же стирает губка, и по мере просыхания мокрого пятна становится все отчетливей видно, что куколок всего девятнадцать. И, наконец, живых червей в мешке обретается восемь особей. А в довесок, поскольку условия пари этого не требуют, грифель в пальцах мельника торжественно возвещает на доске: «Мертвых червей в мешке пять штук». Вот теперь наконец сивушный дух берет свое, разом перебивая ваксу и сыворотку. И предсмертную песню мух тоже кто-то поубавил. Теперь настал черед Люрмана с его мучным ситом.
Короче, чтобы долго не томить: один к одному сошлось предуказанное число жестких пергаментных личинок, мягких, лишь на кончиках роговистых куколок и взрослых личинок, называемых в народе мучными червями. Недоставало лишь одного дохлого червя из предполагаемых пяти: по всей видимости – даже наверняка! – он, высохший и распавшийся на фрагменты, сумел ускользнуть через ячейки сита.
Так мельник Антон Матерн выиграл свой бочонок нойтайхского крепкого пива, а в утешение и в награду всем присутствующим, особенно же Карвайзе, Момберу и молодому Фольхерту, которым пришлось на этот бочонок раскошеливаться, он подарил то ли предсказание, то ли напутствие. Водружая бочонок аккурат на то самое место, где только что лежал испытуемый мешочек муки, он как бы между прочим, словно припоминая какие-то байки, заметил: он, плоскоухий мельник, покуда на этих двадцати фунтах муки своим плоским ухом кемарил, ясно услышал, что полагают некоторые черви – он, правда, не знает, сколько в точности, потому как все они галдели наперебой, – относительно видов на урожай. Эппскую пшеницу, как считают черви, надо сжать за неделю до Семи братьев{60}, а куявскую и шлипхакенскую, сорт номер пять, после Семи братьев на третий день.
С тех пор, за много лет до того, как Амзель изготовил пугало яснослышащего мельника, всех Матернов неизменно встречали в округе то ли приветом, то ли присказкой: «Здравствуй, дорогуша, ну что там сказали старику Матерну его мучные черви?»
Шутки шутками, однако многие приходили и упрашивали мельника разузнать у туго набитого мешочка, когда сеять озимую, а когда яровую пшеницу, когда – а мешочек довольно точно знал и это – начинать жать, когда свозить. Задолго до того, как он предстал в виде пугала и был запечатлен в форме эскиза конструкции на страницах рабочего дневника Амзеля, мельник изрекал и другие, куда более мрачные предсказания, которые и по сей день, когда господин артист надумал у себя в Дюссельдорфе воздвигать мельнику памятник, подтверждаются отнюдь не в шутку, а самым недвусмысленным образом.
Ибо он сумел разглядеть в ближайшем будущем не только угрозу подступающей спорыньи; не только градобой, не записанный ни в одной страховке, – он с точностью до дня предсказал обвалы курса на Берлинской и Будапештской зерновых биржах{61}, крах банков в тридцатом, смерть Гинденбурга{62}, девальвацию данцигского гульдена в мае тридцать пятого; и о дне, когда заговорят пушки{63}, мучные черви тоже, конечно, нашептали ему заранее.
Разумеется, благодаря своему удивительному уху он знал и о собаке Сенте, которая родит Харраса, гораздо больше, чем можно было догадаться по внешнему виду этой псины, черным пятном застывшей возле белого мельника.
И после большой войны, когда мельник со своим беженским удостоверением, разряд «А»{64}, ютился где-то между Крефельдом и Дюреном, он все еще мог по своему заветному мешочку, который пережил с ним все военные невзгоды и мытарства, предсказывать, как в будущем… Но об этом, по уговору между членами авторского коллектива, Брауксель не имеет права рассказывать, ибо об этом поведает господин артист.
Восемнадцатая утренняя смена
Вороны на снегу – какой мотив! Снег укрыл толстыми шапками заржавелые махины скреперов и воротов – свидетелей славных времен соледобычи. Брауксель распорядился снег растопить, потому как мыслимое ли это дело: вороны на снегу, которые, если смотреть на них долго и пристально, превращаются в монахинь на снегу, – нет уж, снег долой! Ночной смене, прежде чем она начнет проталкиваться в проходную, придется часок потрудиться сверхурочно – а если вдруг станут артачиться, Брауксель прикажет поднять со дна семисотдевяностометровой шахты новые, недавно приобретенные и испытанные модели – комбайны Перкунас, Пеколс, Потримпс, – дабы проверить их эффективность на снежных сугробах: вот тогда и поглядим, каково придется воронам-монахиням, тогда можно и не растапливать снег. Пусть лежит, ничем не запятнанный, под окном у Браукселя и в меру сил поддается описанию. Висла пусть течет, мельница мелет, поезд по узкоколейке спешит, масло тает, молоко киснет – немного сахару сверху, и ложка стоит, – а паром пусть приближается, а солнце заходит, а утром всходит, прибрежный песок пусть отступает, а волны прибоя пусть его лижут… И дети бегают босиком и ищут янтарь, а находят синие черничины, выкапывают из норок мышей, босиком прямо по колючкам, босиком на дуплистые ивы… Но кто ищет янтарь, бегает босиком по колючкам, прячется в дуплистые ивы, выкапывает из норок мышей, тот в один прекрасный день найдет в дамбе мертвую девочку, совсем-совсем засохшую, – да это же Тулла, дочурка герцога Святнополка, та самая Тулла, что раскапывала песок, ловила мышей и прикусывала их своими острыми резцами, Тулла, которая никогда не носила ни башмаков, ни чулок, – а дети бегают босиком, ивы колышут ветками, Висла по-прежнему течет, солнце всходит и заходит, а паром плывет, уплывает или скрежещет бортом о причал, а молоко киснет, покуда ложка в нем не встанет торчком, и медленно поспешает, хотя и вовсю пыхтит почти игрушечный поезд на повороте узкоколейки… И мельница тоже покряхтывает, когда ветер восемь метров в секунду. И мельник слушает, что нашепчет ему мучной червяк. И зубы скрежещут, когда Вальтер Матерн ими слева направо. И бабка точно так же, вон она гоняет по огороду бедную Лорхен. Сента, черная и уже беременная, ломится через заросли бобов. Ибо ужасное видение приближается, уже воздета в роковом изломе десница, уже зажата в кулаке и грозно вздымается в небо деревянная поварешка, она уже отбрасывает свою черную тень на лохматую Лорхен, и тень все больше, все жирней, вот она совсем рядом, совсем большая… Но и Эдуард Амзель, который вовсю глазеет по сторонам и ничего не забывает, потому что за него отныне все помнит его дневник, тоже требует теперь за свою работу несколько больше, чем прежде, – гульден двадцать за одно-единственное пугало.
Тут вот в чем дело. С тех пор как господин Ольшевский, учитель начальной школы, стал рассказывать детям про всяких богов, которые раньше были, которые и сейчас еще, оказывается, есть и уже с незапамятных времен существовали, – с тех пор Амзель всецело отдался мифологии.
А началось все с того, что овчарка одного самогонщика из Штуттхофа по узкоколейке была доставлена вместе со своим хозяином в Никельсвальде. Кобеля звали Плутон{65}, у него была безупречная родословная и почетная задача покрыть Сенту, что и воспоследовало. Ученик начальной школы Амзель поинтересовался, откуда пошло имя Плутон и что оно, в сущности, означает. Господин Ольшевский, молодой, тяготеющий к педагогическому реформаторству сельский учитель, охотно черпавший вдохновение в вопросах своих питомцев, с тех пор все чаще стал заполнять занятия по своему предмету, что фигурировал в расписании под названием «Родная речь и родной край», цветастыми и весьма многословными историями о чудесных деяниях и подвигах сперва Вотана, Бальдура, Фафнира и Фрейи{66}, а потом уж Зевса, Юноны, Плутона, Аполлона, Меркурия{67} и даже египетской богини Изиды{68}. И уж совсем он впадал в раж, когда добирался до древних прусских богов Перкунаса, Пеколса и Потримпса и начинал рассказывать, как они обитали в пышных и раскидистых кронах вековых дубов-исполинов.
Разумеется, Амзель все это не просто мотал на ус, но и, как явствует из его дневника, творчески и с большим мастерством перерабатывал. Так, огненно-рыжего Перкунаса он украсил старыми наперниками, предусмотрительно раздобытыми в домах, где побывала смерть. Растресканный дубовый чурбан, на который Амзель со всех сторон понабил стоптанных лошадиных подков, в расщелины которого понатыкал цветастых перьев из петушиных хвостов, – это была голова Перкунаса. Пугало во всем своем великолепии – ни дать ни взять огненный бог! – недолго красовалось на дамбе для всеобщего обозрения: не прошло и дня, как оно было продано за гульден двадцать и перекочевало в равнинный Ладекопп, подальше от побережья.
Бледный Пеколс, о котором сказано, что он вечно смотрит исподлобья, и который поэтому в языческие времена ведал делами смерти, был изготовлен отнюдь не из постельных принадлежностей старых, не слишком старых и даже вовсе не старых мертвецов – такая отдающая саваном костюмировка была бы решением слишком очевидным и напрашивающимся, – нет, для этой цели было выбрано брошенное при переезде – вот он, дар благосклонной к художнику судьбы, – пожелтевшее, ветхое, пропахшее лавандой и плесенью, мускусом и мышами свадебное платье. В этом подвенечном наряде, лишь слегка переделанном на мужской манер, Пеколс был просто неотразим, так что пугало божества в облике невесты-смерти не замедлило перебраться в Шустеркруг, в тамошнее садоводческое хозяйство, принеся автору выручку аж в два гульдена.
Зато Потримпс, вечно смеющийся отрок с пшеничными колосьями в зубах, одно из самых вдохновенных творений Амзеля, чарующее своим игривым и многоцветным изяществом, ушло всего за один гульден, хотя, как известно, Потримпс оберегает посевы – что озимые, что яровые – от всех напастей: от посевного куколя и свербигузки, полевой редьки и пырея, вики, торицы и ядовитой спорыньи. Больше недели это юношески стройное пугало, ажурный торс которого, выполненный из посеребренных станиолью ветвей орешника, украшал еще и передник из кошачьих шкурок, простояло на дамбе, зазывно шурша шафрановым ожерельем из крашеных яичных скорлупок, прежде чем его приобрел крестьянин из Фишер-Бабке. Его беременная и потому особенно приверженная мифологии половина посчитала пугало плодородного божества «прехорошеньким» и «ужасть как уморительным»; несколько недель спустя она разрешилась двойней.
Но и Сенте тоже перепало от милостей отрока Потримпса: ровнехонько через шестьдесят четыре дня она принесла шестерых кутят, покуда еще слепых, но, в строгом соответствии с родословной, густого черного окраса. Все шестеро были зарегистрированы и постепенно проданы, среди них и кобель Харрас, о котором в следующей книге еще не раз пойдет речь, ибо господин Либенау купил Харраса, дабы тот сторожил его столярную мастерскую. По объявлению, которое мельник Матерн поместил в местной газете «Последние новости», столяр приехал в Никельсвальде по узкоколейке, стороны быстро сторговались и ударили по рукам.
А в самом начале, где-то в темном первоистоке, была волчица из литовских чащоб, чей внук, черный кобель Перкун, зачал суку Сенту, а Сенту покрыл Плутон, и Сента ощенилась шестью кутятами, среди которых был и Харрас; а Харрас зачал Принца, а Принц будет героем другой истории – в книгах, которые Браукселю писать не надо.
Но никогда, ни разу в жизни не создавал Амзель птичье пугало по образу и подобию собаки, даже по образу и подобию Сенты, что так преданно носилась между ним и Вальтером Матерном. Все пугала, запечатленные в его дневнике, все, за исключением одного – присосавшихся к вымени угрей, и еще одного – полубабки-полуивы о трех головах, – сотворены с оглядкой на людей и богов.
Параллельно к школьным занятиям, облекая в наглядные образы учебный материал, который учитель Ольшевский, превозмогая жужжание мух и изнуряющий летний зной, рассеивал над головами своих задремывающих питомцев, одно за другим возникают птицеустрашающие творения, запечатлевшие наряду с богами также и галерею магистров славных немецких рыцарских орденов{69} – от Германа Бальке{70} и Конрада фон Валленрода{71} вплоть до Юнгингена{72}: вот уж где вдоволь погромыхало заржавелое кровельное железо, в прорезях которого, в обрамлении бочковых заклепок, гордо мерцали на белой промасленной бумаге черные рыцарские кресты. Тут уж, уступая доблестям Книпроде, Летцкау{73} и фон Плауэна{74}, волей-неволей пришлось потесниться не одному Ягайло{75}, но и великому Казимиру{76}, не говоря о столь сомнительных личностях, как разбойник Бобровский, Бенеке, Мартин Бардевик{77} и бедолага Лещинский{78}. А Амзель просто не мог насытиться преданиями прусско-бранденбургской старины: он лудил ее целыми столетиями – от Альбрехта Ахилла{79} до Цитена, выжимая из плодородного компоста восточноевропейской истории свои пугала и наводя ими ужас на птиц в восточноевропейском небе.
Примерно в ту же пору, когда отец Харри Либенау, столярных дел мастер, купил у мельника Антона Матерна щенка Харраса, а мир еще не знал ни самого Харри Либенау, ни его кузину Туллу, всякий, кто умеет читать, мог прочесть под рубрикой «Родимый край» в одном из номеров «Последних новостей» статью, которая весьма пространно, вдохновенно и поэтично воспевала красоты восточнопрусского побережья. Страна и люди, особенности строения аистиных гнезд и архитектуры крестьянских усадеб, в частности косяков и карнизов над крыльцом, – все это описано с большим знанием дела. А в центральной части статьи, с которой Брауксель на всякий случай даже заказал себе фотокопию, говорилось и все еще говорится примерно вот что: «И хотя в общем и целом на нашем побережье все идет своим привычным чередом, а всепобеждающая техника еще не вошла сюда своим триумфальным маршем, в одной, пусть и побочной, области можно наблюдать поистине разительные перемены. Птичьи пугала на привольных и холмистых пшеничных полях нашего благодатного края, еще несколько лет тому назад банально целесообразные, пусть чуточку чудные и грустные, но в целом, безусловно, еще вполне схожие с пугалами других земель и провинций, – теперь обнаруживают в полях между Айнлаге, Юнгфером и Ладекоппом, но и вверх по Висле вплоть до Кеземарка и Монтау, а в отдельных случаях даже южнее Нойтайха совершенно новую и разнообразную физиогномику. Буйная фантазия перемешалась здесь с древними народными поверьями: потешные, но и жутковатые фигуры возвышаются среди колышущихся на ветру нив, среди тучного изобилия садов. Не пора ли уже сейчас местным краеведческим и историческим музеям обратить внимание на эти сокровища пусть наивного, но столь искусного по форме народного творчества? Подумать только, ведь это в наши дни посреди плоской обезлички современной цивилизации снова, а быть может и по-новому, расцветает нордическое наследие, нарождается восточнопрусский симбиоз гордого духа викингов и христианского благочестия! Особенно поражает тройственная группа в привольно колосящемся поле между Шарпау и Бервельде – своей пронзительной простотой она напоминает тройное распятие Господа нашего и двух разбойников на Голгофе и в своей наивной набожности буквально хватает за душу путника, что держит путь по нашим бескрайним, волнистым нивам, пригвождая его к месту – а он и сам не знает почему».
Только пусть никто не подумает, будто Амзель сотворил эту группу – в дневнике остался запечатленным только один разбойник – исключительно в порыве детского благочестия и совершенно бескорыстно: согласно тому же дневнику, она принесла автору два гульдена двадцать.
А куда девались те деньги, которые крестьяне округа Большой Вердер – с легким ли сердцем или сперва изрядно поторговавшись – выкладывали на плоскую мальчишечью ладошку? Эти растущие богатства хранились в кожаном мешочке под присмотром Вальтера Матерна. Он хранил их бдительно, угрюмо поглядывая исподлобья, и не без скрежета зубовного. Обвязав тесемку вокруг запястья, он повсюду носил с собой этот мешочек, полный звонких монет Вольного города Данцига: под тополями вдоль шоссе и по ветродуйным просекам прибрежного леса, переправлялся с ним на пароме, крутил им в воздухе, бил им об забор, а также – с особым вызовом – о собственное колено и обстоятельно, не торопясь, развязывал, когда крестьянин превращался в клиента.
Так что кассу держал не Амзель. Вальтеру Матерну полагалось, покуда Амзель изображал напускное безразличие, назначать цену, ударять по рукам на манер барышников, скрепляя сделку рукопожатием, и загребать выручку. Кроме того, Вальтер Матерн отвечал за транспортировку проданных, равно как и выданных напрокат, пугал. Так он попал в кабалу. Амзель сделал его своим батраком. В коротких приступах гнева он бунтовал, силясь освободиться. История с перочинным ножом и была, в сущности, попыткой такого бессильного бунта; ибо Амзель, с виду столь неповоротливый увалень, катившийся колобком по жизни на своих толстых коротеньких ножках, неизменно умудрялся быть на шаг впереди. Так что, когда оба шли по дамбе, сын мельника, наподобие настоящего батрака, всегда плелся на полшага позади неутомимого изобретателя и создателя все новых и новых птичьих пугал. Ему, как батраку, полагалось, кроме того, таскать за своим господином все материалы: жердины, палки, мокрое тряпье и вообще все, что вздумает принести в своих мутных водах Висла.
Девятнадцатая утренняя смена
«Холуй! Холуй!» – кричали другие дети при виде Вальтера Матерна, который, как батрак, следовал за своим другом Эдуардом Амзелем. Кто сквернословит и богохульствует, того, как известно, ждет суровая кара; но кто станет всерьез спрашивать с деревенских мальчишек, этих сорвиголов, что поминают черта чуть ли не на каждом слове? А уж эти двое – Брауксель имеет в виду сына мельника и толстяка-увальня с того берега – были вообще не разлей вода, срослись, словно сам Господь Бог и дьявол, так что им эти подначки сельского юношества были все равно как бальзам. Кроме того, они ведь оба, тоже как Бог и дьявол, скрепили свое кровное братство одним ножом.
Вот так, душа в душу – ибо добровольное батрачество тоже было любовным проявлением дружбы, – друзья нередко сиживали в верхней горенке, странности освещения которой зависели, как помним, от взаимодействия солнечных лучей и крыльев матерновской ветряной мельницы. Сиживали рядком, на маленьких скамеечках в ногах у бабки Матерн. За окном день клонится к вечеру. Древесные червяки безмолвствуют. Тени от крыльев мельницы падают не в горенку, а уже во двор. Курятник на малой громкости, потому что окно закрыто. Только муха на липучке все тянет и тянет свою сладкоголосую прощальную арию. А внизу, так сказать в партере, сварливым голосом, словно бы заведомо недовольная любым слушателем, старуха Матерн рассказывает свои байки-небывальщины. Размахивая костлявыми морщинистыми руками и широко разводя их в стороны всякий раз, когда требуется обозначить любые встречающиеся в истории размеры, старуха Матерн рассказывает байки о наводнениях, байки о заколдованных коровах, в том числе и о сосущих молоко угрях, и всякую прочую всячину: одноглазый кузнец, лошадь о трех ногах, дочка князя Кестутиса, что выходила ночами мышковать, и историю о гигантской морской свинье, которую выбросило на берег приливом неподалеку от Бонзака, как раз в тот год, когда Наполеон вздумал на Россию войной идти.
Но всякий раз – сколь бы длинными оселками она ни петляла – в конце концов, попадаясь на крючки ловких наводящих вопросов Амзеля, она вступала в гулкие ходы темного подземелья нескончаемой, потому что она не окончена и по сегодня, истории о двенадцати обезглавленных монашках и о двенадцати обезглавленных рыцарях, каждый со своим шлемом под мышкой, которые в четырех экипажах – две упряжки белых, две вороных – проезжали через Тигенхоф по громыхающей мостовой, останавливались на заброшенном постоялом дворе и там, сойдя, выстраивались парами – и сразу же ударяла музыка. Трубы, цитры, барабаны – во всю мощь. И к этому еще вдобавок цоканье языком и гнусавое пение. Скверные песни, похабный припев – мужскими голосами, это рыцари поют, прихвативши головы в шлемах под мышку, а затем вдруг, тонко так, жалостливо, благочестивый женский хор, будто в церкви. А потом снова безголовые монахини, головы они держат перед собой, и головы эти на разные голоса поют сами, а песни блудливые, непристойные, а пляски под них все с притопом да с прихлопом, с визгом да с кружением до одури. И тут же, снова выстроившись в благочестивую процессию, две дюжины безголовых фигур в освещенных окнах гостиницы отбрасывают на мостовую свои смиренные тени, покуда снова не загрохочут барабаны, не взвоют трубы, не взвизгнут смычки и весь дом не затрясется от пола до самой крыши. Наконец под утро, перед петухами, к воротам сами, без кучеров, подъезжают четыре экипажа – две упряжки белых, две вороных. И двенадцать рыцарей, дребезжа железом и осыпаясь ржой, покидают постоялый двор в Тигенхофе, и на плечах у них дамские вуали, сквозь которые мертвенно-бледными ангельскими чертами мерцают профили монахинь. И двенадцать монахинь, в рыцарских шлемах с опущенным забралом поверх орденского платья, тоже покидают постоялый двор. Они садятся в четыре экипажа, упряжка белая, упряжка вороная, садятся по шестеро, но не вперемежку – зачем, когда головами они уже и так обменялись? – и уезжают из притихшего городка, однако мостовая под ними снова грохочет.