Магия кошмара бесплатное чтение
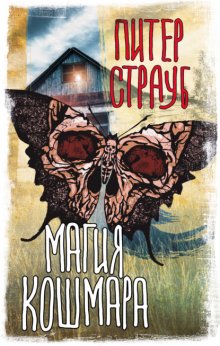
Золушка
Некоторые думают, что учеба и воспитание маленьких детей сопоставимы с помощью другим людям, что-то вроде сервиса. Принято считать, что, если ты учишь маленьких детей, ты должен их любить. И выводы из этого делают самые разные.
Еще принято считать, что если ты очень толстый и все время весел и счастлив, то скорее всего ты просто притворяешься и ведешь себя так, чтобы заставить окружающих забыть, насколько ты толст, или простить тебе это. Полагают, что ты глуп настолько, что думаешь, будто такой номер проходит. Исходя из этого, люди приобретают уверенность в своем умственном превосходстве, и тогда они начинают тебя еще и жалеть.
Эти притворщицы, мои сводные сестры, они приходили ко мне и говорили: «Разве ты не знаешь, что мы хотим тебе помочь?» Они приходили ко мне и говорили: «Может, расскажешь нам о своей жизни?»
Они задавали эти идиотские вопросы снова и снова:
С тобой все в порядке?
Что с тобой происходит?
Может, поговоришь с нами, дорогая?
Как у тебя жизнь?
Я сидела, уставившись перед собой, не глядя на их чудесные волосы, прекрасные глаза и очаровательные ротики. Я изучала рисунок на обоях у них за спиной и старалась не моргать до тех пор, пока они не вставали и не уходили.
Какая у меня была жизнь? Что происходило со мной?
Ничего со мной не происходило. Со мной все было в порядке.
Прежде чем встать и уйти, они торопливо улыбались мне дрожащими губами. Оставшись в одиночестве, я продолжала сидеть на стуле и смотреть на обои, пока сестры разговаривали с Зиной.
Желтые обои с белыми линиями, идущими вверх и вниз. Линии никогда не пересекались – как раз там, где они должны были вот-вот сойтись, линии прерывались, и широкая полоса желтого всегда оказывалась между ними.
Мне нравилось смотреть на белые линии на желтом фоне, на каждую из них по отдельности.
Когда притворщицы называли меня «дорогая», ледяная вьюга врывалась в мой рот и через горло неслась в живот, замораживая все внутри. Они не знали, что я – ничто, что я никогда не буду такой, как они. Они не знали, что единственной частью меня, имеющей значение, был маленький твердый камушек внутри.
У камня есть имя. МАМА.
Если тебе лет пятьдесят, ты работаешь воспитательницей в детском саду, да к тому же еще и толстая, то люди почему-то воображают, что ты должна быть искренне предана их детям, потому что никакой личной жизни у тебя быть не может. Родители почти благодарны тебе за твою некрасивость, потому что для них она означает, что ты действительно будешь хорошо заботиться об их чадах. Да и в конце концов, нельзя же этим заниматься ради денег, ведь так? Что люди знают о твоей зарплате? Они знают, что даже уборщица получает больше. Итак, по их мнению, ты решила посвятить себя воспитанию чудесных, замечательных, милых деток не для того, чтобы разбогатеть, конечно же, нет.
Тем не менее, даже если они не покупаются на твои улыбки и хорошие манеры, даже если относятся к тебе со смешанным чувством жалости и презрения, они тебе все-таки благодарны.
Я встречаюсь с родителями, например, с каким-нибудь курчавеньким адвокатиком, скажем, по имени Арнольд Золлер, и его женой Кати, и когда я сижу за своим столом и смотрю, как эти двое стройных, красивых молодых людей изо всех сил стараются скрыть жалость и презрение, то и дело проскальзывающие на ухоженных лицах, я вижу в их глазах благодарность.
Арнольд и Кати верят, что такая достойная жалости старая толстуха, как я, должна любить их прелестную маленькую девочку, скажем, по имени Тори (Виктория полностью). И мне кажется, что я действительно люблю малышку Тори Золлер, да, я на самом деле думаю, что люблю ее. Моя мама тоже любила бы ее. Это истинная правда.
Я вижу себя в мире, в самом центре мира.
Я растворяюсь в природе.
У нас в сознании существует представление о совершенстве, но ничто в мире, в природе нельзя познать в совершенстве. Каждый ответ определен тем, кто отвечает.
Я не собираюсь поощрять или удовлетворять ваши желания и нужды. Даже если вы такой уважаемый человек, как адвокат. Даже если ваше имя, к примеру, Арнольд Золлер.
Однажды, правда, недолго, было золотое время. В моем сознании существовало представление о совершенстве, и вся природа отзывалась эхом и вторила ему. Мои родители, и я с ними тоже, жили в золотое время. Нас звали Эш. В общем-то меня и сейчас зовут миссис Эш, хотя «миссис» добавляют исключительно из вежливости: никакого мужа не было и в помине. (Некоторые школьники называют меня миссис Толстуха-Эш, у них я не была воспитательницей, перед их родителями мне не приходилось вжиматься в стул и говорить, что их чертовы бесценные сокровища – чудесные, замечательные, милые детки, да ко всему еще и умненькие. Так вот, я делаю вид, что мне это безразлично.) Мистер и миссис Эш на самом деле жили вместе в золотое время, и они всем сердцем любили свою маленькую дочку. А потом – оп-па! – мамочка умерла. Папочка похоронил ее во дворе поместной церкви, со священником, в гробу, с гимнами, причитаниями и всем таким прочим, и Зина, я помню, Зина была там уже тогда, даже тогда. Вот так обстояли дела с самого начала.
Притворщицы приходили из-за того, что я стала делать позже. Они приезжали издалека, из города, наверное. Мы жили в деревне и никогда не видели городских платьев как у них, не видели таких причесок. А у одной даже была вуаль!
Одним зимним утром, когда я работала здесь только первый год, я села в машину – точнее сказать, втиснулась (что ж, я отличаюсь от других), вжалась между сиденьем и рулем и проехала сорок миль на восток до ближайшего города. Я проехала через весь город и направилась в самые гнилые трущобы, где люди, сидя в машинах, пьют средь бела дня. Я отправилась в магазин, в который никто не ходит, кроме живущих на социальное пособие и мамаш с пятью-шестью детьми от разных отцов. Я припарковалась на улице и прошествовала к двери. Такие, как они, никогда не обижают таких, как я.
Внизу в подвале был магазин, где продавали обои. С сопением и пыхтением я спустилась по лестнице, сияя при этом, как новая пуговица. Я протискивалась между рядами обоев, пока не добралась до задней стенки, где на полке, словно книги, стояли образцы. Они были очень похожи на книги сказок из моего детства. Я сгребла штуки четыре, водрузила их на стол перед собой и, взгромоздившись на малюсенький стульчик, начала с хлопаньем переворачивать «страницы».
Маленький испуганный негритенок в дешевом костюмчике пробормотал что-то невнятное, предлагая мне помощь. Я улыбнулась ему своей самой очаровательной и добродушной улыбкой и сказала: что ж, я пришла сюда за обоями, не так ли? Знаю ли я, какой цвет хочу? Да, я думала о желтом, сказала я. Ух-ух, сказал он, а какого типа желтые обои вам хочется? Желтые с белыми полосками. Ух-ух, говорит он и начинает помогать мне просматривать книги с образцами. Пожалуй, нигде на белом свете нет более уродливых обоев, чем здесь. Одни напоминали болячки на стене, другие словно попали под дождь и облезли. Даже негритенок знает, что это – дерьмо, но изо всех сил старается не подать виду.
Я щедро улыбаюсь направо и налево. Я улыбаюсь, как королева, проезжающая по своему королевству в экипаже, как маленькая девочка, которой горлица с волшебного дерева только что подарила платье, расшитое золотом и серебром. Я улыбаюсь так, как улыбаюсь Арнольду Золлеру и его женушке, когда они сидят напротив и смотрят на меня, а я топлю, душу, давлю, хороню их прелестную, умненькую малышку Тори в золотых словах.
Думаю, у нас есть еще желтые обои, говорит негритенок, приносит еще одну большую книгу сказок и с тяжелым стуком шлепает ее на стол между нами. Его темные, словно грязные, руки переворачивают большие плотные страницы. И прямо как я и думала, как я и знала, да я просто была уверена, что это может произойти только здесь, в этом грязном углу именно этого грязного магазина: глупый, но очень услужливый паренек открывает книгу с обоями моей мамы.
Я вижу широкие желтые и узкие белые линии, которые никогда не пересекаются, и я не могу сдержаться, я покрываюсь потом с головы до ног, я издаю такой ужасный стон, что негритенок кидается от меня прочь. И правильно делает, потому что в следующую секунду я наклоняюсь, изрыгая что-то красновато-липкое прямо на пол магазина. О боже, бормочет негритенок, о леди. Я рычу, и остатки красной массы вырываются из меня и с брызгами шлепаются на ковер. Негр постарше в рубашке с накладной бабочкой кидается к нам, но резко останавливается с открытым ртом, глядя на то, что творится на ковре.
Я достаю носовой платок из сумочки и вытираю рот. Пытаюсь улыбнуться ребенку, но перед глазами у меня туман. Нет, говорю я, все в порядке, я хочу купить эти обои для кухни, да, именно эти. Переворачиваю страницу, чтобы посмотреть, как называются обои моей мамы – и обои Зины, – и выясняю, что обои называются «Задумчивый тростник».
Для вдохновения совсем необязательно быть религиозным.
Авантюрный склад ума – как огромный дом.
Чтобы по-настоящему прожить жизнь, надо относиться к ней как к большому приключению.
Но никто на свете не может объяснить притягательность приключений.
Зина научила меня двум трюкам, которые всегда срабатывают в отношениях с детьми, а срабатывают потому, что на самом деле это вовсе не трюки!
Первый трюк я использую, когда какой-нибудь ребенок не слушается или невнимателен, что, как вы понимаете, часто случается с детьми детсадовского возраста. С такими нарушениями я справляюсь так: приказываю ребенку подойти к моему столу. (Иногда я приказываю подойти двоим.) Я пристально смотрю на ребенка до тех пор, пока он не съеживается. Иногда он краснеет или дрожит. Я дожидаюсь физических признаков стыда и дискомфорта. Затем произношу имя ребенка. «Тори», – говорю я, если это Тори. Ребенок начинает таращиться на меня своими маленькими глазенками. Это происходит всегда, без исключений. «Тори, – говорю я, – ты знаешь, что ты сделала плохо, не так ли?» В девяноста девяти случаях из ста ребенок кивает головой. «Ведь ты никогда больше не будешь так делать, правда?» Как правило, ребенок в состоянии только пролепетать: «Нет». «Так-то лучше», – говорю я и начинаю наклоняться вперед, я наклоняюсь до тех пор, пока перед ребенком не остается только мое огромное воспаленное лицо. Затем низким, несущим смерть голосом я шепчу: «Еще раз…» Когда я говорю «Еще раз…», я очень убедительна. Я чувствую, что даже мои глаза меняют форму. Я думаю о Зине и том времени, когда она говорила мне: «Можешь не плакать на могиле своей мамочки, от этого не вырастет чудесное дерево, ты просто утопишь ее в грязи».
Притягательность моей работы в авантюризме – это большое приключение, как жизнь.
Моя мамочка не утонула в грязи. Она умерла по-другому. Она упала с лестницы в гостиной, в той гостиной, где сидела Зина, когда приходила в гости. Тогда Зина была просто одной из леди, и во время визитов, «частных бесед», она сидела в лучшем старинном кресле и держала руки на коленях, как самая скромная и невинная леди из всех. Зина была наполовину китаянка, и я знала, что внутри она похожа на острый нож, который может искромсать тебя, но пока не станет. Зина любила авантюры, хотя и не в такой мере, как я. Она так и не выбралась из того городка. Единственное, что с ней произошло потом, – она постарела и осталась одна, она не была больше красивой, превратилась в старую желтую вдову, а потом я слышала, что она умерла на грядке в саду. Я слышала об этом от двух разных людей. Можно сказать, что Зина утонула в грязи. Это еще раз доказывает, что во всем сказанном на земле есть истина, правда, не всегда очевидная сразу.
Второй трюк, которому я научилась от Зины, помогает мне справиться с целой группой детей, которые вдруг решили взбеситься. Это дети родителей, которые думают, что знают все, а фактически знают меньше, чем ничего. Такие дети никогда не прочувствуют дома классической манеры воспитания. Ты должна реагировать так, чтобы твое представление о совершенстве было очевидным. Так, чтобы донести свое представление о совершенстве до неуправляемых детей, чтобы они тоже его усвоили.
Бедлам может начаться тысячью разных способов. Скажем, я разговариваю с одним конкретным ребенком, например, произношу свое «Еще раз». Или мое внимание ослабло на минуту, когда я размышляю об одной из многих вещей, о которых могу размышлять. Могила матери, омытая моими слезами. Женщины с городскими прическами, которые искренне желали мне помочь, но были просто не в состоянии. Ощущения, которые я испытывала, неподвижно стоя, обнаженная, во дворе перед домом, обмазавшись фекалиями и сливаясь с природой. Постепенное исчезновение моего отца, который, как персонаж из мультика, со временем становился все тоньше и прозрачнее, пока совсем не исчез. Зина, лежащая в саду лицом вниз, втягивающая ноздрями грязь. Сходство женщин из города со злыми сводными сестрами в старых сказках. А еще их сходство с прекрасными принцами из тех же сказок.
Та, которая слышит сказку, сказку создает.
Я не всегда нахожусь мыслями со своими воспитанниками, иногда я уплываю в одно или сразу несколько из своих сказочных королевств. Человек в мечтах может создать все, что ему нужно. Например, образы определенных мест, куда он может уплыть и отдохнуть от окружающего мира. Я парю над своими спокойными королевствами. А в этот момент один ребенок таскает другого за волосы. Второй плюется в окно. Третий падает на пол, издавая какие-то нечеловеческие звуки. То есть порядок превратился в бардак. Тогда я воскрешаю в памяти образы своих безжалостных женщин-ангелов, и вот я уже на ногах, прежде чем маленькие бесенята замечают, что я встала из-за стола. В мгновение ока я оказываюсь около выключателя. Все эти Тори, Тиффани, Джошуа и Иеремии продолжают стоять на головах. Я шлепаю по выключателю, и в комнате становится темно.
Результат? Тишина. Вдохновленное действие – это судьба.
Дети застывают. Их пульс учащается, вены разбухают и превращаются в синие бугорки на висках. Я говорю четыре слова: «Подумайте, что это значит». Они прекрасно знают, что это значит. Произнося слова, я увеличиваюсь в два раза. Я возвышаюсь над ними, и чернота льется из меня. Затем я снова включаю свет и улыбаюсь им. Эти дети никогда не назовут меня миссис Толстуха-Эш; эти дети знают, что я – то же, что и вся природа.
Когда-то давным-давно умирающая королева послала за своей дочерью, и когда дочь пришла и села у изголовья, королева сказала: «Я оставляю тебя, милая. Молись и береги своего отца. Думай обо мне всегда, и я всегда буду с тобой». Потом она умерла. Каждый день маленькая девочка поливала слезами могилу матери. Но сердце ее умерло. О таких вещах не врут. Ненависть – обратная сторона любви. Так мать превратилась в твердый холодный камень в сердце девочки. И такой она оставалась все время, пока девочка жила.
Вскоре король женился еще раз, его новая жена была очень красива, кожа – золотистого оттенка, а глаза черны, как смоль. Новая королева притворялась, что она – человек, который не умеет притворяться. Она понимала, что реальность зависит от контекста. Она осознавала все преимущества стороннего наблюдателя.
Однажды, когда король собирался отправиться к своему народу, он спросил жену: «Что тебе привезти?»
«Кольцо с бриллиантом», – ответила королева. И король не мог определить, кто говорил в этот момент: человек внутри ее, который притворялся, или человек снаружи, который не мог притворяться.
«А тебе, дочь моя? Чего бы хотелось тебе?» – спросил король.
«Кольцо с бриллиантом», – ответила дочь.
Король улыбнулся и отрицательно покачал головой.
«Тогда ничего, – сказала его дочь. – Совсем ничего».
Когда король вернулся домой, он подарил королеве кольцо с бриллиантом в маленькой голубой коробочке. Королева открыла коробочку, улыбнулась и сказала: «Это очень маленький бриллиант, не так ли?» Дочь короля видела, как он униженно сгорбился, лицо его побелело так, будто он только что потерял половину своей крови. «Мне нравится мой маленький бриллиантик», – произнесла королева, и король выпрямился, хотя все еще выглядел бледным и потрясенным. Он погладил дочь по голове, выходя из комнаты, но девочка едва смотрела на него и ничего не сказала в ответ на ничего, которое он ей подарил.
Той же ночью, когда все во дворце уже спали, королевская дочь пробралась в кухню и съела полбуханки хлеба и почти килограмм домашнего персикового мороженого. Это была самая вкусная еда, которую она когда-либо ела в своей жизни. У хлеба был вкус солнца над пшеничными полями, а внутри вкус прорастающих зерен пшеницы и даже вкус плодородной, темной, рассыпчатой земли, которая окружает пшеничные корешки; вкус жизни насекомых и разных животных, пробегающих через пшеничное поле, даже запах всех этих лис, жуков и мышей. А домашнее персиковое мороженое имело в основном вкус сахара, сливок и персиков, но, кроме того, у него был вкус коры и древесины персикового дерева и розовых лапок птичек, которые на нем сидели, и их тоненьких, звонких голосов, а еще вкус пота человека, который это дерево так долго растил. Каждый вкус должен быть как можно сложнее, и каждый вкус одновременно поднимается вверх и опускается вниз: вверх, мимо горлиц в дальние пределы неба, так высоко, что остается только вкус чистоты, и вниз, в могильную грязь, потом все ниже и ниже, так низко, что во всем, даже в персиковом мороженом, чувствуется лишь вкус мрака и черноты.
Примерно с этого времени королевская дочь начала привлекать к себе чрезмерное внимание. Со времени ночи, в которой были чистота горлиц и чернота могильной грязи, до окончательного избавления от сводных сестер прошло приблизительно шесть месяцев.
Я считала себя произведением искусства. Я выдавала ответы, не отвечая за них. В этом и заключается великая свобода искусства.
Задавая вопросы, они навязывали собственные ответы. «Разве ты не знаешь, что мы хотим тебе помочь?» Такой вопрос предполагает только два возможных ответа: первый – «нет», второй – «да». Злые сестры никогда не понимали королевскую дочь, и поэтому горлицы выклевали им глаза, сначала с одной стороны, потом – с другой. Правильный ответ третий: «Человек, к которому обращен ваш вопрос, в помощи не нуждается – помочь ему нельзя». Есть еще другие правильные варианты ответа, например, четвертый: «Помощь придет из других источников» и пятый: «Знать и помогать не имеют того значения, которое вы им придаете, вопрос поставлен некорректно».
Задание на сегодняшний вечер: составить список подходящих ответов на вопрос «Что с тобой происходит?». Примечание: не забыть обдумать условия, навязываемые словом «происходит».
Сводные сестры приезжали из города. Они выглядели великолепно, хотя скорее напоминали павлинов. Они мило соглашались выпить чаю с Зиной, они восхищались домом, картинами, мебелью так, словно это делало их самих достойными восхищения. Сестры выражали пожелание увезти девочку из дома, но их власть так далеко не распространялась. Зина никогда бы не позволила этого, да и постоянно болеющий король тоже. (Ночью Зина склонялась над спящим королем и, прижавшись к его губам, коварно вытягивала дыхание жизни из его тела.) Зина говорила, что состояние королевской дочери временное. У девочки хороший аппетит. Ее любят. Со временем она придет в себя.
Когда притворщицы спрашивали: «Что с тобой происходит?», я могла бы ответить: «Со мной происходит Зина». Но они бы ни за что не поняли мой ответ. Другой ответ не поняли бы тоже: «Мама происходит со мной».
Чрезмерное внимание проявлялось следующим образом. Зина знала о моих полуночных пирах, но относилась к ним с безразличием. Она считала, что у каждого человека должно быть то, что ему нужно, что ему хочется. И это справедливо не только для королевской дочери, но и для обычных людей. Но она не знала, что я делала во имя искусства. Страдание и злоба сделали меня великим художником. Думаю, мне было тогда двенадцать (хотя возраст художника совсем не имеет значения). И моя мать, и Зина происходили со мной, и я происходила с ними. Таков мир женщин. Моя мама глубоко в грязной могиле ненавидела Зину. Зина, вторая любовь короля, ненавидела мою мать. Моя мама, разговаривая из камня внутри меня, часто советовала, как справляться с Зиной. Молча, одними лишь взглядами, Зина учила меня, как справляться с мамой. Я знала, как справиться и с той, и с другой и ненавидела обеих. Так я приобрела авантюрный склад ума.
Главная особенность приключений в том, что они уносят тебя куда-то в неизведанные страны.
Приключения наполнены невыразимым счастьем.
По субботам, сидя в полном одиночестве в своей комнате, я снимала одежду и аккуратно складывала ее на кровати. (На кровати с пологом.) У меня не было других чувств, кроме чувства настоятельной необходимости того, что я собиралась сделать. Возможно, в такие минуты я переживала невыразимое счастье. Позже, в кульминационный момент моего эксгибиционизма, я действительно переживала невыразимое счастье. А еще позже испытывала то же самое невыразимое счастье, завершая свои приключения в искусстве. В каждом из этих приключений, как и в самом первом, я создавала ответы, которые невозможно получить из самого произведения, они зависят только из состояния зрителей. Одна-одинешенька, совсем нагишом, готовая заняться созданием ответов, я садилась на корточки посреди комнаты и выдавливала из себя прямо на ковер длинный цилиндр – результат обеда и вдобавок целого батона, банки изюма, пачки арахиса и большого куска сервелата, проглоченных мной, пока все спали. Зина в это время, конечно же, склонялась над лицом спящего папочки, жадно вытягивая из него жизнь. Я брала теплый цилиндрик и чувствовала, как он тает в моих руках. Я ускоряла процесс, сжимая ладошки вместе. Затем растирала руками все тело. То, что оставалось от вонючей штучки, я размазывала по стенам комнаты. Я вытирала руки о ковер. (Белый ковер.) И как только все приготовления были завершены, величественно прошествовав по коридорам, я выходила через центральную дверь наружу.
Я работала воспитательницей в трех штатах. Моя репутация безупречна. Я всегда увольнялась исключительно по собственному желанию. Когда с моими подопечными или их родителями происходили трагедии, я неизменно выражала соболезнования, отправлялась в составе групп добровольцев на поиск тел, присутствовала на похоронах и т. д. и т. п. Почти каждый воспитатель или учитель так или иначе знаком с этими прискорбными обязанностями.
Снаружи был весь мир, по крайней мере все наше имение. Было из чего выбирать. Две строчки Эдны Винсент Милли исключительно точно отражают мое состояние в тот момент:
- Весь мир вокруг, со всех сторон,
- Но ведь не шире сердца он.
Я хорошо помню великолепного Дейва Гэроуэя, цитирующего эти прекрасные слова в своей воскресной передаче, и я всегда читаю эти стихи в каждой новой группе. Что ж, им надо с чего-то начинать. А еще в течение года бывают моменты, когда у детей есть шанс узнать, что природа никогда не дает возможности расслабиться и отдохнуть. Каждое животное хочет есть.
Повернувшись спиной к полям с пасущимися коровами и овцами, не обращая внимания на холмы вдалеке, кишащие койотами, дикими кошками и горными львами, я шла величавой поступью вдоль ровных рядов фруктовых деревьев, яблоневые и персиковые лепестки прилипали к моим босым ногам, я выходила на простор зеленого луга, где рос орешник. Если луг был недавно скошен, длинные зеленые стебли толщиной с гусеницу цеплялись и повисали на моих ногах, как гирлянды. Я часто вытягивалась на свежескошенной траве во весь рост и каталась из стороны в сторону. И вот я добиралась до вершины холма, туда, где кончался луг, к месту назначения. Передо мной лежала дорога в неизвестные города, где я надеялась однажды найти свою судьбу. Надо мной склонялся орешник.
Я всегда знала, что могу спастись, заглянув в свой собственный разум.
Я стояла над дорогой на вершине холма с поднятыми вверх руками. Когда я заглядывала в собственный разум, то видела два определенных и необходимых состояния: одно – состояние белой линии, другое – состояние женщин-ангелов, похожих на горлиц.
Белая линия существовала в тихой радости уединения, не касаясь ни неба, ни луга, как бы в подвешенном состоянии между ними. Белая линия была тишиной, уединением, классицизмом. Это состояние – полдела при достижении свободы искусства, и оно называется «Задумчивый тростник».
Ангелы и горлицы существовали в исступленном восторге силы, энергии и ярости. Они были абсолютной чистотой и абсолютным мраком, удовлетворением и его служанкой, местью. Ангелы и горлицы струились из моего тела и с кончиков пальцев взлетали в небо, а когда возвращались, приносили золотые и серебряные платья, бриллиантовые кольца и изумрудные диадемы.
Я видела, как притворщицы отрезают собственные пальцы на ногах, отпиливают себе пятки и надевают туфли, скользкие от крови. Притворщицы пытались улыбаться, они старались держаться ровно. Они вели себя, как дети перед рассерженным учителем в состоянии праведного гнева. Девочки, которые вели себя, как притворщицы, никогда не понимали, что все необходимое нужно извлекать из собственных мозгов. Не понимая такой простой вещи, они шли, пошатываясь, неуверенной походкой, делая вид, что не покалечены, что кровь не льется рекой из их туфель; девочки возвращались в свои ненастоящие дома к своим выдуманным принцам. Невыразимое счастье сопровождало весь этот процесс.
Затем в течение суток ребенок исчезал.
Пропавшая девочка лежит глубоко в золе и пепле, ее руки и ноги искалечены, лицо изуродовано огнем. Она участвовала в большом приключении. А теперь она слилась с природой.
Вечером я вижу красивых, обезумевших от горя, но все еще не потерявших надежду родителей в передачах местного телевидения. Арнольд и Кати (он, красивый, как принц, она, прекрасная, как одна из притворщиц) все еще не понимают, что случилось; они прожили жизнь в абсолютном неведении – они считают, что в мире нет ничего важней надежды. Они думают, что люди, которым за это платят, сделают все, чтобы удовлетворить их нужду.
Пропала маленькая девочка. Теперь ее фотография каждый день появляется на первой странице нашей доблестной местной газетки, лицо сияет абсолютным невежеством рядом с колонками текста, описывающими неожиданное исчезновение девочки после уроков в воскресной школе при епископской церкви Святой Марии, все усиливающиеся страхи потерявших покой родителей, безграничное очарование самой девочки, исследование дна двух ближайших озер, медленное и тщательное прочесывание лесов, полей, ферм и хозяйственных построек, шок особо состоятельных и высокопоставленных родственников, включая крестных родителей.
Пропала исключительная маленькая девочка. Совершенно особое сочетание белокурых волос разных оттенков и голубых глаз цвета летнего неба, которое видно сквозь пелену перистых облаков. Очаровательная пухлая верхняя губа и маленькое пятнышко с левой стороны у рта, похожее на след от грязного ластика на бумаге, комбинация неподдельной скромности и высокомерия, которому суждено было вскоре затмить другие, более привлекательные черты. Больше этого не увидит никто: ни родители, ни друзья, ни учителя, ни случайные люди, которые, однажды проходя мимо, отдали дань прелести малышки.
Пропавшая девочка была ребенком своего времени. Она не интересовала нашу местную газету, никто не обращал на нее внимания в воскресной школе. Милашку больше всего на свете волновали куклы Барби, особенно Барби Малибу, она до фанатизма была влюблена в Маленького Пони и обожала яблочный пирог, ей очень хотелось, чтобы вместо занятий в садике показывали мультфильм про семейку Симпсонов; очень рано ей начал нравиться музыкальный телевизионный канал, особенно когда показывали клипы «Крис-Кросс» и «Бойз Ту Мен». Однажды видели, как ее держал за руки первоклассник Джеймс Хэлливэл. А еще один раз перед тихим часом она повернулась к толстой и непопулярной девочке с садистскими замашками по имени Дебора Монк и прошипела: «Дэбби, ты жуткая подлиза».
Пропала девочка достаточно ограниченных способностей. Она никак не могла научиться завязывать шнурки на своих дорогущих, но каких-то странных тупоносых кроссовках первого размера, шнурки постоянно развязывались. Когда девочка расчесывала свои разноцветные белокурые волосы пятерней, то все время пропускала колтун в двух дюймах от левого уха. Способности у нее были ниже среднего, и читала крошка плохо. Если ее имя написать большими буквами, она узнает его с самовлюбленным ликованием, при этом все другие слова, пожалуй, кроме «и» и «а», были для нее древним санскритом. Она никак не могла разобраться в наборе непонятных крючков и палочек. Малышка знала алфавит наизусть и быстро проговаривала его, но ответить на вопрос, что идет сначала – «О» или «С», не могла. Сомневаюсь, что девочка смогла бы освоить в школе деление в столбик.
В ее широких, подернутых дымкой глазах то и дело проскальзывала тень неописуемого смятения. В ребенке с более тонко настроенным восприятием это могло бы означать неожиданно нахлынувшее ощущение смертельной опасности, может быть, даже предчувствие гибели. В ее случае, как мне кажется, это выражение было вызвано переходом из мира бессознательного (Барби и Маленький Пони) в мир более социализированный («Крис-Кросс»). Способность к самоанализу смогла бы развиться гораздо позже, после неоднократного переживания таких впечатлений, от которых родители старательно пытались дочь оградить.
Пропал незаменимый ребенок. То, что когда-то было в стране Задумчивого Тростника, ушло навсегда, как и все другое, оно отдалилось во времени, уплыло в страну горлиц.
Если бы какой-нибудь осведомленный анонимный наблюдатель сообщил, что с ребенком все в порядке, что с ним ничего не происходит, это утешительное сообщение было бы ошибочно понято как прелюдия к требованию выкупа. Причина кроется в том, что ни одну человеческую жизнь нельзя заменить другой. Родители, почти потерявшие надежду, не могут воссоздать или как-нибудь еще обзавестись живой копией ребенка, хотя они, конечно же, могут произвести на свет еще одного, но для этого им придется прожить в браке достаточно долго.
Дети в группе страдают от ночных кошмаров и энуреза. В садике они ведут себя апатично, осторожно, проявляют новое для них нежелание отвечать на вопросы, реагируют как дряхлые старики. На школьном собрании, когда всех малышей усаживают в актовом зале, почти каждый из них выражает желание, чтобы пропавшая девочка вернулась. Письма и открытки к ней едва помещаются в два огромных мешка в кабинете директора, а вместе с ежедневно транслируемыми по радио и телевидению обращениями родителей к похитителю или похитителям, думаю, получится еще и третья груда, и тогда весь этот коллективный дар будет предложен обезумевшим от горя родителям.
Произведения искусства порождают реакции, которые на первый взгляд никак не связаны с ними. Беспомощность, горе и скорбь могут существовать параллельно с агрессией, враждебностью, злобой или даже с безмятежным спокойствием и утешением. Чем более совершенна и искусна работа, тем более насыщенные и длительные реакции она пробуждает.
Глубоко-глубоко в грязной могиле королева и мать почувствовала слезы своей пропавшей дочери.
Все пройдет.
Превратившись в горлицу, она поднялась из могильной тьмы и опустилась на ореховое дерево.
Все переменится.
С самой верхней ветки горлица пела свою бесконечную песню.
Все принадлежит той, которая ищет истину.
– А в чем истина? – крикнула ослепленная великолепием дочь, подняв голову вверх.
Все пройдет, все переменится, все твое.
Так пела горлица.
Недавно в личной беседе с директором я объявила о своем желании по окончании семестра уволиться и переехать в другой штат.
Директор у нас – добродушный, ограниченный человек, все еще преданный, можно даже сказать, верно преданный ценностям, которые он впитал из популярной музыки конца шестидесятых. Ему редко удавалось скрыть неловкость при моем появлении. Кроме того, он прекрасно знает, с каким уважением ко мне относятся в детском саду. К тому же он видел, как мои бывшие воспитанники, теперь ученики средней школы, приходят ко мне в группу и рассказывают трепещущим детишкам, что миссис Эш наставила их на путь истинный, что благодаря урокам миссис Эш они успешно учатся в школе и продолжат в том же духе в колледже.
Не в состоянии сдержать борьбу эмоций, вызванную моим заявлением, директор уверил меня, что сегодня же вечером напишет рекомендательное письмо, с ним я получу работу в любом детском саду, частном или государственном, по моему желанию.
Поблагодарив, я промолвила: «Я не могу требовать от вас такой доброты, но и не откажусь от нее».
Директор откинулся назад в кресле и посмотрел на меня сквозь бабушкины очки – внимательно, но нельзя сказать, что недобро. Его правая рука взлетела, как горлица, чтобы погладить седеющую бороду, но остановилась на полпути и вернулась на колено. Затем он положил обе руки на стол, перекрестил пальцы, все еще глядя на меня вопросительно.
– С вами все в порядке? – спросил он.
– Давайте определимся с терминами, – проговорила я. – Если вы хотите знать, в добром ли я здравии, физически и умственно, удовлетворена ли своей работой, я скажу: «Да, со мной все в порядке».
– Вы прекрасно поработали, и ваша помощь была неоценима, особенно когда пропала Тори, – сказал он. – Но я не могу не спросить, повлияло ли это как-то на ваше решение?
– Мои решения приходят сами по себе, – ответила я. – Все пройдет, все переменится. Я достаточно спокойный человек.
Директор пообещал принести рекомендательное письмо завтра в первой половине дня и, как я и думала, сдержал слово. Несмотря на мои серьезные замечания по поводу его методов работы, отношения к детям и идеологии – несмотря на мою полную уверенность в том, что на следующий год его без лишних церемоний выгонят с работы, – не могу не пожелать бедолаге всего самого лучшего.
Романтично, не так ли?
N направил взятый напрокат «пежо» через проем в стене и припарковал машину у входа в трактир. Слева от него за старыми дверями темноволосая девушка в ярко-голубом платье подняла с пола мешок муки. Она втащила его на прилавок перед собой и разорвала. Когда N вышел из машины, девушка бросила на него вялый, безразличный взгляд и, зачерпнув из мешка полную горсть муки, высыпала ее на разделочную доску. Высоко в холодном сером небе медленно плыли густые облака. К югу кучевые облака цеплялись за ветки деревьев и льнули к склонам гор.
N достал из багажника свою сумку на колесиках и рюкзак для книг, хлопнул дверью и заглянул в дом через кухонную дверь.
Девушка в голубом платье подняла большой нож и с силой опустила его на ощипанного цыпленка без головы.
N вытащил ручку сумки и покатил ее к стеклянной входной двери.
Он прошел под аркой и оказался в узком неосвещенном холле. Напротив дальней стены стоял длинный стол, заваленный брошюрами. С другой стороны широкие двери открывались в столовую с четырьмя рядами столов. Столы были составлены вместе и накрыты к обеду скатертями в красную клетку. Почерневший от копоти камин с двумя металлическими решетками занимал заднюю стену столовой. С левой стороны через дверь с верхней панелью из цветного стекла в холл проникали мужские голоса.
N прошел через столовую к маленькому неопрятному кабинету, где располагались конторка, стол, заваленный регистрационными книгами и ворохом бумаг, и вытертый стул. Часы рядом с рекламным плакатом какого-то сыра показывали пять тридцать, его ждали еще сорок пять минут назад.
– Bonjour. Monsieur? Madame?
Никто не ответил. N направился к лестнице слева от кабинета. Четыре ступеньки вниз, коридор вел мимо двух дверей с круглыми окошками на уровне глаз, они были похожи на двери закусочных вагона-ресторана из его далекой молодости. Напротив находились двери с номерами 101, 102, 103. Более широкая часть лестницы вела вверх, к пролету, а потом выше, на следующий этаж.
– Bonjour.
Его голос на лестнице отдавался эхом. N уловил мимолетный, но отчетливый запах старого пота и немытой плоти.
Оставив сумку у конторки, он притащил рюкзак к дверям столовой. Кто-то резко выкрикнул позади него какую-то фразу, другие засмеялись. N прошел вдоль столов и добрался до двери с панелью из цветного стекла. Он дважды постучал, затем толкнул ее.
От двери, ведущей к автостоянке, пустые столы расходились веером и заканчивались барной стойкой. Мужчина с лицом развратного академика, в неопрятном твидовом пиджаке, человек болезненного вида с собачьей физиономией, в затасканном голубом спортивном костюме, и лысый бармен оглянулись на него и вновь продолжили разговор, но уже гораздо тише. N плюхнул свой рюкзак на стойку бара и взял табурет. Бармен смерил его взглядом и медленно направился к бару.
– Извините, сэр, но там, за конторкой, никого нет, – сказал N по-французски.
Бармен протянул руку через стойку. Он оглянулся на своих товарищей, затем безрадостно улыбнулся N.
– Мистер Кэш? Мы ждали вас раньше.
N отрицательно помахал длинной рукой.
– У меня были проблемы по дороге из Пау.
– Проблемы с машиной?
– Нет, никак не мог выбраться из Олорона, – сказал N.
Ему дважды пришлось проехать по южной окраине старого города в поисках выезда, пока беззубый старикашка на перекрестке на его крик: «Монтори?» не махнул рукой в сторону шоссе.
– Да, Олорон – настоящее препятствие на пути людей, пытающихся найти эти маленькие городки.
Владелец гостиницы оглянулся через плечо и повторил фразу. Его друзья уже приближались к той стадии опьянения, когда ходить гораздо труднее, чем вести машину.
Собаколицый в спортивном костюме сказал:
– В Олороне, если ты спросишь, где находится Монтори, ответят тебе: «А что такое Монтори?»
– Это точно, – сказал его друг. – А что это такое?
Владелец гостиницы повернулся к N.
– Ваши вещи в машине?
N снял со стойки рюкзак.
– Сумка у конторки.
Хозяин гостиницы крякнул и повел N в столовую. Двое других, как собаки, последовали за ними.
– Вы очень хорошо говорите по-французски, мистер Кэш. Я бы сказал: это не совсем типично для американца – говорить с таким приятным французским акцентом. Вероятно, вы живете в Париже?
– Спасибо, – ответил N. – Я живу в Нью-Йорке.
По сути, так оно и было. Обычно N проводил гораздо больше времени в квартире в Ист-Сайде, чем в домике в Гштааде. Правда, в течение последних двух лет, весьма необычных, ему приходилось снимать комнаты в отелях Сан-Сальвадора, Манагуа, Хьюстона, Праги, Бонна, Тель-Авива и Сингапура.
– Тогда вы, наверное, провели неделю в Париже?
– Я провел там пару дней, – ответил N.
Позади один из мужчин сказал:
– Париж сейчас оккупировали японцы. Я слышал, в «Брассери Липп» теперь вместо сарделек подают сырую рыбу.
Они вышли в холл. N и хозяин гостиницы отправились к конторке, а двое других делали вид, что очень интересуются туристическими проспектами.
– Сколько дней вы проведете у нас? Два, может быть, три?
– Вероятно, два, – произнес N, прекрасно зная, что все эти детали уже улажены.
– Будете ли вы ужинать с нами сегодня вечером?
– К сожалению, не смогу.
На лице хозяина тут же отразилось неудовольствие. Он махнул рукой в сторону столовой и заявил:
– Присоединяйтесь к нам завтра. Будет жареная баранина. Но нужно предупредить хотя бы за час до обеда. Вы будете выезжать вечерами?
– Да.
– Мы закрываем двери на замок в одиннадцать. Есть звонок, но у меня нет желания вставать с постели, чтобы открыть вам. Можете воспользоваться кодовым замком на входе. Наберите два, три, четыре, пять, легко, правда? У конторки возьмете свой ключ. А на следующий день оставите его на столе, и его повесят назад на стенд. Что привело вас в Страну Басков, мистер Кэш?
– Сочетаю полезное с приятным.
– Вы занимаетесь?…
– Я пишу путевые заметки, – пояснил N. – Это прекрасный уголок планеты.
– Вы уже бывали здесь раньше?
N моргнул от неожиданности.
– Не думаю. Я побывал по роду своей деятельности во многих местах. Возможно, я и приезжал сюда когда-то давным-давно.
– Мы открылись в 1961-м, но с тех пор сильно развернулись. – Хозяин шлепнул ключ с металлической пластинкой перед посетителем.
N поставил сумки на кровать, открыл ставни и высунулся из окна, словно в поисках утерянных воспоминаний. Дорога шла мимо трактира, потом делала небольшой поворот и продолжала бежать в гору через маленький деревенский центр. Прямо напротив, на крытой террасе дома с цементными стенами, женщина в свитере сидела за кассовым аппаратом у витрины, надпись на которой гласила: «Местные деликатесы». Вдали зеленые поля протянулись до покрытых лесами гор. Практически в том самом месте, где непременно остановился бы каждый приезжающий и уезжающий из Монтори, у серой каменной стены стояла красная телефонная будка, которой, как сказали N, он может воспользоваться в случае необходимости.
Друзья владельца гостиницы, покачиваясь, вышли на стоянку и уехали в старом, зашлепанном грязью «рено». На дороге появился грузовик по доставке товаров с надписью «Комет» на борту и подъехал к стоянке у старых дверей в кухню. Из него выбрался мужчина в синем рабочем комбинезоне, открыл кузов, вытащил из аккуратной кучи джутовый мешок и понес его в кухню. Светловолосая женщина лет пятидесяти в белом фартуке появилась в дверях и вытащила из машины следующий мешок. Она покачнулась под его тяжестью, выровнялась и понесла мешок внутрь. В поле зрения появилась девушка в голубом платье, она неторопливо подошла к дверям и прислонилась к косяку на расстоянии не более полуметра от того места, где доставщик пристраивал свой второй мешок на первый. Клуб коричневой пыли поднялся от удара одного мешка о другой. Выпрямившись, мужчина смерил девушку прямым, оценивающим взглядом. Платье плотно обтягивало грудь и бедра, черты лица были крупными, но красивыми, несмотря на скучающе-презрительный вид. Она ответила на приветствие с неохотой. Женщина в фартуке вышла снова и указала ей на мешки на полу. Девушка пожала плечами. Доставщик раскланялся перед ней, как шут. Девушка нагнулась, подсунула руки под мешки, подняла их до уровня талии и понесла в глубь кухни.
Пораженный N отвернулся от окна и стал разглядывать номер – желто-белые стены, двуспальную кровать, которая наверняка окажется слишком короткой, старый телевизор, тумбочку с ночником и телефон с диском. Вышивка в рамке над кроватью гласила, что хорошее питание продлевает жизнь. Он подтянул к себе сумку на колесиках и начал развешивать одежду, дотошно складывая куски ткани, которыми оборачивал костюмы и рубашки.
Некоторое время спустя N с компьютерной сумкой в руках вышел к месту парковки. Через ворота можно было видеть девушку в голубом платье и еще одну – лет двадцати, с густыми светлыми волосами, развевающимися вокруг ее мордочки, как у мопса, с животом, как арбуз, и огромными бедрами, выпирающими из шортов. Они крошили зелень на разделочных досках быстрыми отрывистыми движениями. Девушка подняла голову и взглянула на N. Он сказал:
– Bon soir.
Ее улыбка заставила его по-юношески вздрогнуть.
Телефонная будка стояла на пересечении дороги, идущей через деревню, и еще одной, которая круто спускалась с холма, а затем выравнивалась в полях и уходила все дальше в Пиренеи. N сунул карточку в щель и набрал номер в Париже. Подождал второго гудка и положил трубку. Несколько минут спустя телефон зазвонил.
Кто-то с американским акцентом сказал:
– Что ж мы бросаем трубку?
– Пришлось поискать это место, – ответил N.
– Тебе нужен проводник-индеец, он быстро найдет дорогу. – Говоривший часто притворялся американским индейцем. – Возьми пакет, ладно?
– Хорошо, – сказал N. – Смешно, но у меня такое впечатление, что я уже когда-то был здесь.
– Ты был везде, старик. Ты великий человек. Ты звезда.
– В своем последнем шоу.
– Это высечено на камне. Самим Господом Богом.
– Если у меня будут неприятности, я могу натворить дел.
– Да ладно, – ответил связной. N мысленно представил этого человека, его плоское, круглое лицо, мутные очки и торчащие волосы. – Ты же наш лучший человек. Тебе всегда будут благодарны. Очень скоро они начнут использовать японский. Русские. Воображаю, что они об этом думают.
– Слушай, почему бы тебе не заняться своим делом и не оставить меня в покое?
N сидел в уличном cafe tabac на площади Марше в Молеоне с почти пустой чашечкой эспрессо и первым изданием «Кима» Редьярда Киплинга в идеальном состоянии, глядя, как зажигается и гаснет свет в окнах дома на другой стороне аркадной площади. Перед этим он принял душ в хлипкой ванной своего номера и побрился над хлипкой раковиной, затем надел легкий шерстяной костюм и плащ и сейчас, с сумкой, стоящей на соседнем стуле, напоминал путешествующего бизнесмена.
Два престарелых официанта удалились внутрь освещенного кафе, где у барной стойки отирались несколько постоянных посетителей. В течение полутора часов наблюдения под зонтиками побывала французская пара провинциального вида, занявшая столик рядом и заказавшая стейк и картофель фри – при этом они то и дело заглядывали в туристические путеводители, – еще был молодой человек диковатого вида с длинными грязно-белыми волосами, который осушил три кружки пива и ушел. Во время неожиданно начавшегося ливня под зонтик забежал одинокий японец, вытер свои фотоаппараты и лоб и в конце концов смог объяснить официанту, что хочет тушеной говядины и стакан вина.
Оставшись в одиночестве, N уже начал жалеть, что заказал всего лишь бутерброд с сыром, но было уже слишком поздно делать еще один заказ. Объект наблюдения – бывший политический деятель в отставке по имени Дэниэл Хьюберт, владелец антикварной лавки, побочно торгующий оружием, – погасил свет в своем магазине в тот час, о котором N и был предупрежден. Свет загорелся в гостиной наверху, а затем, несколько минут спустя, в его спальне еще этажом выше. Все было в точности как описано.
– Согласно данным полевой команды, он собирается перейти к активным действиям в самое ближайшее время, – сообщил связной. – Они считают, что это случится сегодня или завтра ночью. Все происходит так: он закрывает магазин и поднимается наверх, чтобы подготовиться. Ты увидишь, как включится свет, когда он войдет в спальню. Если увидишь свет на верхнем этаже – там его офис, – это значит, что он проверяет, все ли на месте, и готов ехать. Бледнолицые напрягаются, бледнолицые знают, что он выходит из их лиги. Как только положит трубку телефона, он спустится вниз по лестнице, выйдет через дверь рядом с магазином, сядет в машину. Серый «мерседес» с четырьмя дверями и, черт его побери, дисками на колесах еще с тех времен, когда этот парень был Большой Кучей Дерьма в правительстве. Он отправится в ресторан в горах. У него три разных места, и мы никогда не знаем, какое он выберет. Займи свой пост – хорошая, чистая работка, потом свяжешься со мной. Потом передай дела какой-нибудь mademoiselle – устрой себе бал.
– Как насчет остальных?
– Эй, они же клиенты. Эти ребята путешествуют с миллионом наличными, мы восхищаемся даже верблюжьим дерьмом, по которому они ходят.
Свет в верхней части дома все еще горел. В спальне свет зажегся, погас. С ужасным ревом мимо промчался мотоцикл. Парень диковатого вида, который был в кафе, кинул взгляд на N, заложил вираж и исчез за углом аркады. Один из усталых официантов появился перед N, и он оплатил счет, положив деньги на блюдечко. Когда N оглянулся на здание, свет в офисе и спальне уже не горел, а в гостиной окна были освещены. Затем свет погас.
N встал и направился к своей машине. Дверной проем неожиданно осветился, и под аркадой появился аккуратно постриженный седой мужчина в черном блейзере и серых брюках. Он остановился и придержал дверь для высокой блондинки в джинсах и черном кожаном жакете, чье появление было совершенно неожиданным. Блондинка прошла под одной из арок и встала у правой двери «мерседеса», пока мистер Хьюберт закрывал дверь на ключ. Растерянный и злой N тронулся с места парковки и подождал в глубине площади, пока они уедут.
Они стали чаще позволять себе ошибки, чем раньше. Один раз из четырех полевые команды что-нибудь упускали из виду. N приходилось перестраиваться на ходу. Теперь они делали два промаха из четырех – команда в Сингапуре умудрилась просмотреть, что его объект всегда брал двух телохранителей, один из которых путешествовал в отдельной машине. Когда впоследствии N стал возмущаться по этому поводу, ему ответили, что они «работали над улучшением потока информации во всем мире».
Блондинка была сбоем в потоке информации, вот так.
N ехал примерно через три машины от «мерседеса», мечтая о том, чтобы его работодатели разрешили использование мобильных телефонов, а они не разрешали. Сотовые телефоны «проницаемы», их часто «подсекают», а работодатели не хотели подвергать своих служащих риску. N хотелось, чтобы кто-нибудь объяснил ему значение слов «не подвергать риску». Чтобы проинформировать своего связного о спутнице мистера Хьюберта, ему пришлось бы ехать назад до красной будки. Еще один превосходный пример бюрократизма – платный телефон в Монтори.
«Мерседес» выехал под свет фонаря на окраине города и повернул налево, чтобы запутать следы.
Превосходно, проверяет, нет ли за ними хвоста. Вероятно, господин антиквар заметил кого-то из полевой команды, пока те изо всех сил налаживали информационный поток. N старался держаться как можно дальше, пытаясь предугадать следующее движение объекта и обгоняя его по смежным улицам. В конце концов «мерседес» выехал из Молеона и повернул на восток, на трехполосное шоссе.
N следовал за ними, размышляя о женщине. Несмотря на одежду, она выглядела как любовница, но кто же берет любовниц на такие встречи? Возможно, она представляла южноамериканцев, возможно также, но менее вероятно, что работала на покупателей. А может быть, они просто приятная парочка, выехавшая на ужин. Далеко впереди габаритные огни «мерседеса» свернули влево от шоссе и начали петлять по горам. Они уже почти исчезли к тому времени, как N подъехал к дороге. Он повернул, доехал до первого изгиба дороги и выключил фары. С этого момента главное – не попасть в темноте в какую-нибудь канаву. Впереди фары «мерседеса» осветили деревья вдоль поворота. Дорога шла все время вверх.
Из телефонной будки можно было видеть красную неоновую вывеску «AUBERGE DE L’ETABLE», мерцавшую над огражденной стоянкой.
– Тонто ждет, – сказал связной.
– Жаль, что не было информации о девушке. Я бы оценил.
– Бледнолицый разговаривает невежливо.
N вздохнул.
– Я ждал напротив его дома. Мне показалось, что он очень много бегал вверх и вниз, но когда он вышел с очаровательной молодой леди в мотоциклетной куртке… Должен сказать, я ненавижу сюрпризы.
– Расскажи мне, что произошло.
– Он долго петлял по городу, пока не убедился, что за ним никто не следит. Только после этого покинул Молеон. Я доехал за ним до таверны в горах. Я все время пытался представить, что бы я делал, если бы встреча все-таки состоялась – ведь такая вероятность существовала, а единственный способ связаться с вами и рассказать – это повернуть назад и ехать черт знает сколько до телефона-автомата.
– Да, это было бы ужасно, – согласилась трубка.
– Я подождал, пока они припаркуются и выйдут из машины, подъехал к стене, забрался по ней, чтобы видеть их столик через окно, и все думал, сколько же мне заполнять отчетов, если включить девушку? Помнишь Сингапур? Импровизации мне больше неинтересны.
– Что потом?
– Они ужинали. Вдвоем. Баскский суп, жареный цыпленок, салат, никакого десерта. Бутылка вина. Хьюберт пытался развеселить ее, но безуспешно. Людей было немного: примерно половина зала, в основном местные. Ребята в беретах играли в карты, две четверки, один стол с японцами в куртках для гольфа. Бог знает, как они оказались в этом месте. Когда ехал обратно, вспомнил кое-что.
– Прекрасно. Люди твоего возраста, наоборот, стараются забыть.
– Дай-ка я угадаю: ты знал об этой девушке.
– Мартин – твой запасной вариант.
– С каких это пор мне нужен дублер? – Секунды громко тикали в тишине, пока N боролся со своей яростью. – Ладно. Знаешь, все это здорово. Но Мартин делает всю бумажную работу.
– Пусть решают другие. Между тем постарайся помнить, Мартин участвовала в полевых операциях около года, и мы решили дать ей шанс поучиться у опытного мастера.
– Хорошо, – сказал N, – а что думает о ней Хьюберт?
– Эксперт по психологии арабов. Мы обставили все так, что, когда Хьюберту понадобился кто-то, понимающий этих людей, особенно когда они говорят о делах, под рукой оказалась она. Докторская степень по арабским языкам в Сорбонне, два года работы переводчиком в нефтяной компании на Ближнем Востоке. Хьюберт был просто счастлив, потому что она еще и прекрасно выглядит. Он позволил ей расположиться в его комнате для гостей.
– И Мартин сказала, что его партнеры будут за ним следить.
– Он тебя еще ни разу не видел. Она под таким впечатлением, просто мрак. Ты ее герой.
– Когда мы закончим, Мартин должна провести со мной пару дней, – сказал N, злой настолько, что говорил почти серьезно. – Позволь мне заняться ее образованием.
– Тебе? – Связной рассмеялся. – Забудь.
– Надеюсь, ты понимаешь, как я тебе завидую? – сказал связной. – Когда ты напал на след, дело касалось только тебя. Такие парни, как ты, выдумывают правила игры на ходу. Бледнолицый, для меня честь быть твоим контролером.
– Кем-кем?
– Твоим связным.
– Один из нас занимается не своим делом, – сказал N.
– Было приятно прокатиться с тобой по старому Дикому Западу.
– Да ну тебя к черту! – ответил N, но в трубке уже были гудки.
Тридцать странных лет назад один ветеран по имени Салливан начал изредка допускать промашки. Задолго до этого он работал в Бюро стратегических служб, а затем в ЦРУ. Он все еще был широкоплеч и имел покровительственный взгляд, все еще каждый день носил темный пиджак и белую рубашку, но его живот уже переваливался через ремень, и лицо размякло от выпивки. На самом деле его звали не Салливан, и происхождения он был скандинавского, а не ирландского, имел густые, светлые с проседью жесткие волосы, тонкогубый рот и выцветшие голубые глаза. N провел месяц в Осло, потом еще один в Стокгольме и везде видел таких Салливанов. Во время своей поездки в горы он вспомнил, что когда-то давно привело его во французские Пиренеи.
Это был Салливан.
N был в деле уже около года, и его первые задания прошли хорошо. В импровизированном офисе в долине Сан-Фернандо безымянный человек с жутким шрамом на лице сообщил, что у N появилась блестящая возможность. Он должен лететь в Париж, сделать пересадку до Бордо, встретить там легенду по имени Салливан и отправиться с ним на юг Франции. По его словам, одна неделя, проведенная с Салливаном, стоила многих лет учебы. Задание, последнее для Салливана, его лебединая песня, не было настолько сложным, чтобы престарелый человек не справился самостоятельно. Зачем подключили N? Все просто – из-за самого Салливана. Им показалось, что он утратил хватку, стал не так внимателен, как раньше. Впитывая уроки мастера, N должен был еще и прикрывать его, смотреть, чтобы все шло гладко, и писать еженощные отчеты. Если бы Салливан провалил работу, его бы вытурили – не важно, последнее у него задание или нет. Единственная проблема заключалась в том, сказал человек со шрамом, что Салливан непременно возненавидит N. Он считал, что у всех, кроме него, кишка тонка для такой работы.
Так и вышло. Салливан едва разговаривал по дороге из Бордо. Единственное замечание, которое он сделал, было о том, что сумасшедшие баски верят, будто они потомки спасшихся жителей Атлантиды. Салливан бросил N в отеле в Тардетс, где уже была зарезервирована комната и ждала машина, и посоветовал вечером сходить на ужин. N заикнулся об инструкциях, которые они получили, и сказал, что ждет указаний.
– Прекрасно, я – пенсионер, а ты – бойскаут! – рыкнул Салливан и умчался в свои апартаменты, которые, как вспомнил N еще раз, когда ехал в «пежо» от телефонной будки, находились в «Auberge de l’Etable».
Хотя гостиница тогда была чуть ли не в два раза меньше, чем сейчас, столовая находилась в том же огромном холле. Салливан определил себе столик рядом с фойе, подальше от пар, сидевших у открытого огня, на котором жарился бараний бок. Попеременно, то взглядывая на N, то отворачиваясь от него, Салливан выпил шесть стаканов бренди перед обедом и на превосходном французском, который тогда сильно отличался от несовершенного французского N, пожаловался, что нет водки. В Германии можно достать водку, в Англии можно достать водку, в Швеции, и Дании, и Норвегии, и даже в несчастной Исландии можно достать водку, но во Франции никто за пределами Парижа и не слыхал, что такой напиток существует.
Когда баранина была готова, Салливан заказал две бутылки бордо и начал флиртовать с официанткой. Официантка тоже флиртовала с ним. Они договорились о встрече. Салливан был бабником мирового класса. Либо официантка сегодня заснет позже, либо он раскиснет от алкоголя. Он задал несколько вопросов N, вытерпел его ответы, рассказал несколько историй, от которых у молодого агента просто отвисла челюсть. Развеселившись, Салливан в подробностях поведал о своих любовных подвигах на вражеской территории, рассказывал об операциях Бюро стратегических служб, от которых волосы становились дыбом, копировал разных политических деятелей, разыгрывал смертоубийства в президентских дворцах. Он в совершенстве владел шестью языками, еще три знал почти в совершенстве и довольно сносно играл на виолончели.
– Правда в том, что я – пират, – сказал он, – и не важно, насколько полезны бывают пираты, они выходят из моды. Я не заполняю отчеты и не составляю списки своих расходов, и мне насрать на их выговоры и замечания. Они позволяют мне делать все так, как я считаю нужным, потому что в любом случае мои методы эффективнее. Однако я то и дело заставляю наших маленьких друзей пропотеть. И поэтому здесь ты, так? Мое последнее задание, и я работаю с дублером? Ты наблюдаешь за мной. Они велели тебе писать отчеты каждый вечер.
– Еще они сказали, что с вами я могу пройти лучшую подготовку в мире, – признался N.
– Боже, мальчик, ты должен быть очень хорош, если они хотят, чтобы я отполировал твое мастерство. – Он глотнул вина и улыбнулся так, что даже молодой N почувствовал перемену атмосферы. – Что еще они просили тебя делать?
– Оттачивать мастерство, разве этого недостаточно? – неуверенно ответил N.
Салливан пристально смотрел на него какое-то время, и взгляд его уже был не пьяный, а холодный, пытливый, оценивающий. Этот испытующий взгляд заставил N насторожиться и почувствовать свою незащищенность. Затем Салливан смягчился и объяснил, что он собирается делать и как.
Все шло хорошо – даже лучше, чем хорошо, просто превосходно. Салливан предпринял по меньшей мере полдюжины шагов, которые бы заставили понервничать человека со шрамом, но N взял на себя труд представлять в отчетах все в должном виде, экономил время, увеличивая эффективность работы, делая вполне удовлетворительные выводы. В последний день N позвонил Салливану, чтобы договориться о месте встречи.
– Планы изменились, – сказал Салливан. – Можешь отправляться в аэропорт. Я проведу еще одну ночь с потомками атлантов. – Ему хотелось напоследок побарахтаться в постели с официанткой. – А потом назад к цивилизованной жизни. У меня есть тридцать акров недалеко от Хьюстона, думаю построить особняк в форме Аламо, только во много раз больше, обустрою музыкальную гостиную по последнему слову техники, найму лучшего виолончелиста, которого смогу, чтобы давал мне еженедельные уроки, и шеф-повара. Буду постоянно менять женщин. А еще я хочу выучить китайский. Единственный великий язык, которого я еще не знаю.
Несколько месяцев спустя во время одного из своих редких визитов в штаб-квартиру N встретил человека со шрамом, который переносил гору файлов из кабинета без окон в коридор без окон. На мужчине был маленький тугой галстук-бабочка, волосы на голове напоминали щетину. Ему потребовалось какое-то время, чтобы вспомнить N.
– Лос-Анджелес. – Он жестко произнес «дж».
– Да, конечно. Хорошая была работа. Типичная для Салливана. Грубовато, но результаты прекрасные. Знаешь, этот парень так и не вернулся из Франции.
– Только не говорите, что он женился на официантке, – удивился N.
– Он там умер. В общем, покончил с собой. Не смог смириться с отставкой, вот что я думаю. Очень многие из этих ребят, типа Билли Малыша, опускают руки, когда доходят до конца карьеры.
Спустя годы N то и дело отмечал для себя, что элементарная суть наблюдения заключается в интерпретации. Никто не хотел признавать эту истину. Если ты отрицаешь интерпретацию, которая состоит в двух вещах: размышлениях о том, что ты наблюдаешь и зачем ты наблюдаешь, – твое отрицание тоже является интерпретацией. Ощущая себя все более похожим на Салливана, то есть устойчивым к абсурдной номенклатуре и постоянно возрастающему объему бумажной работы, которой требовала «поточная организация», N никогда не предполагал, что таковая могла позволить женщинам выполнять исключительно мужскую работу. А теперь у него девушка-дублер, но вопрос в следующем: что бы эта девушка стала делать, если бы мистер Хьюберт заметил, что N следит за ним? Что ж, все это – вопрос интерпретации.
N часто вспоминал вопрос, заданный ему Салливаном тогда в ресторане.
Они еще что-нибудь просили тебя сделать?
В учреждениях шаблоны поведения живут дольше, чем исполнители.
Парковка была заполнена на три четверти. В надежде, что еще можно раздобыть какую-то еду, N посмотрел на двери конюшни. Они были закрыты, и в окнах столовой не горел свет. Он прошел к входу и нажал нужные кнопки на цифровом кодовом замке. Стеклянная дверь со щелчком открылась. Столовая в пустынном холле оказалась закрыта. Голодному желудку придется подождать до утра. В приглушенном свете лампы за конторкой на стенде среди рядов пустых крючков одиноко болтался ключ от его комнаты. N поднял панель, прошел мимо стола, чтобы взять ключ, и вдруг в шоке осознал, что среди тысяч резервного персонала, администраторов потоков информации, программистов, контролеров, полевых агентов и всех остальных только он один будет помнить Салливана.
Свет на лестнице включался на точно просчитанный отрезок времени, который позволял дойти до второго этажа и щелкнуть следующим выключателем. Кисловатый, острый запах, который N заметил, как только ступил на лестницу, усилился на втором этаже и стал еще хуже, когда он добрался до своей комнаты. Запах разложения, горящих химикатов, мертвого животного, гниющего на куче сорняков. Отвратительная и вполне материальная вонь жгла глаза и забиралась в нос.
Почти задыхаясь, N всунул ключ в замок и заскочил внутрь, ища спасения в своей комнате. Удивительно, но запах преследовал его и там. Он закрыл дверь, направился к своей сумке. И тут он узнал запах. Это был колоссальный экземпляр запаха человеческого тела, полная версия того, что он унюхал шестью часами раньше.
– Невероятно, – сказал он вслух.
Через секунду N поднял жалюзи и распахнул окно. Кто-то, не мывшийся несколько месяцев, кто-то, воняющий как больная выхухоль, приходил в его комнату, пока он ползал по горам. N начал проверять комнату. Он выдвинул ящики стола, осмотрел телевизор и уже направился к шкафу, когда заметил сверток в оберточной бумаге на столике у кровати. Он наклонился над ним, осторожно подвигал из стороны в сторону и наконец взял в руки. Запах жареного барашка с чесноком, который невозможно спутать ни с чем, пробивался через обертку и тающее зловоние.
N разорвал бумагу. Исписанный от руки и аккуратно сложенный листок в линейку лежал сверху на прозрачном пакете с толстым бутербродом из хлеба грубого помола, кусочков баранины и жареного перца. Девичьим почерком в старомодной манере на просторечном французском было написано:
Надеюсь, вы не станете сердиться, что я это приготовила? Вас не было целый вечер, и, наверное, вы не знаете, как рано все закрывается в наших местах. Если вы вдруг будете голодны, когда придете, примите этот сандвич и мои комплименты.
Альбертина
N упал на кровать и засмеялся.
Громкий звон колоколов, возвещавших время с церковной колокольни в Монтори, поднял его с постели ни свет ни заря. Несмотря на мессу и субботу, чрезмерно толстая молодая женщина натирала кафельный пол в столовой. N кивнул ей, выходя в холл, она с усилием поднялась на ноги и кивнула ему в ответ.
Три японца, одетых для игры в гольф, занимали последний из столов, накрытых сегодня белыми скатертями, с фарфоровыми сервизами и прочей утварью. N стало интересно, могло ли случиться так, что подвыпившие друзья владельца гостиницы были правы, и в «Брассери Липп» действительно подают суши вместо эльзасской пищи, а потом он узнал в них японцев, которых видел в таверне в горах. Они решили потратить свою часть мирового богатства на тур для мальчиков по Франции. Что ж, он, можно сказать, тоже путешествует.
N сел за ближайший к двери столик, и молодая девушка неторопливо подошла к нему. Он сделал заказ. Cafe аи lait. Croissants et confiture. Jus de l’orange. Перед тем, как девушка ушла, он добавил:
– Пожалуйста, поблагодарите Альбертину за сандвич, что она принесла ко мне в комнату. И скажите ей, пожалуйста, что мне бы хотелось лично отблагодарить ее за внимание.
На лице официантки засияла понимающая улыбка. Она удалилась. Японцы молча курили над остатками своего завтрака. Салливану, думал N в седьмой или восьмой раз, тоже назначали дублера, когда он шел на последнее задание. Верил ли он на самом деле, что старый пират мог наложить на себя руки? Что ж, верил какое-то время. В возрасте примерно двадцати пяти лет Салливан казался ему романтическим героем, не способным вынести скуку обычной жизни. Мог ли человек, проживший такую жизнь, быть довольным еженедельными уроками игры на виолончели, чередой прекрасных обедов да женскими прелестями? Теперь, когда N преодолел возраст Салливана и составил список удовольствий для себя – катание на лыжах в Швейцарских Альпах, абонемент на американский футбол, коллекционирование первых изданий Киплинга и Лоуренса да женские прелести, – он не сомневался в ответе.
Они просили тебя сделать что-нибудь еще?
Нет, не просили, Салливан сразу бы все понял. Кто-то еще, какой-то нераскрытый дублер самого N, сделал эту работу. N отпил кофе, намазал мармелад на круассан. Впереди целый день, и времени на проработку деталей плана, уже вырисовывающегося у него в голове, более чем достаточно.
N улыбнулся японским джентльменам, когда они друг за дружкой выходили из столовой. У него достаточно времени даже для того, чтобы устроить себе бонус, которому зааплодировал бы сам Салливан.
Вернувшись в комнату, N поставил стул сбоку от окна так, чтобы можно было видеть стоянку и дорогу, оставаясь при этом незамеченным, и уселся с книжкой на коленях. По городу молотил дождь. Через дорогу хозяин гостиницы стоял под навесом террасы, скрестив руки на толстой груди, и разговаривал с женщиной у витрины, забитой горшочками с медом и бутылками вина жюрансон. Он выглядел ужасно недовольным.
Три японца, которые, по всей видимости, отправились на прогулку под дождем, вернулись откуда-то из центра деревни и повернули к автостоянке. При их появлении настроение хозяина гостиницы стало еще хуже. Не говоря ни слова, японцы забрались в красный «рено» и уехали.
Вышел престарелый француз, аккуратнейшим образом сложил свой желтый плащ на пассажирском сиденье «дошево» и только потом укатил. Две машины проехали, не останавливаясь. Холодный дождь пошел тише и перестал совсем, оставив сверкающие лужи на асфальте. N наугад открыл «Кима» и стал читать знакомые строки.
На той стороне дороги остановился длинный серый туристический автобус. Хозяин гостиницы уронил руки, что-то пробормотал женщине за кассой и натянул профессиональную улыбку. Светловолосые мужчины с покатыми животами и женщины в разной степени страшные на вид вывалились из автобуса и принялись неуверенно оглядываться по сторонам.
Гигантские колокола отгрохотали следующий час.
Владелец гостиницы спрыгнул с террасы, пожал несколько рук и повел первых туристов через дорогу. Была суббота, и они приехали на ланч с бараниной. Когда туристы отяжелеют и отупеют от еды и вина, их пригласят купить местных деликатесов.
В течение следующего часа на стоянку въехал единственный автомобиль – «сааб» с немецкими номерами, из которого выгрузились двое тучных родителей и трое подростков-блондинов, необъяснимо худых и бесполых. Прежде чем ввалиться в таверну, тинейджеры устроили потасовку над кучей рюкзаков и спортивных сумок.
Из-за поворота появился грязный «рено» и припарковался напротив бара. Из него выбрались одетые в белые рубашки, красные галстуки и береты друзья хозяина гостиницы. Собаколицый нес тамбурин, второй достал с заднего сиденья широкую гитару. Они занесли инструменты в бар.
N положил книжку в сумку, пробежал расческой по волосам, поправил галстук и вышел из комнаты. Огонь в столовой горел теперь не так жарко, овечка крутилась на вертеле, обрезанная до костей и хрящей. Туристы из автобуса дружно оккупировали первые три ряда столов. Немецкая семейка сидела в одиночестве в последнем ряду. Один ребенок зевнул и продемонстрировал светящийся металлический шарик пирсинга на языке. Родители, словно буйволы, тяжело, не мигая, осматривали зал. Двое мужчин в национальной одежде басков вышли со стороны бара и стали посередине прохода между первыми двумя рядами столов. Без вступления один из них ударил по струнам расстроенной гитары. Другой начал петь сладким, неуверенным тенором. Подростки уронили свои прилизанные головы на стол. Все остальные любезно слушали музыкантов, которые перешли теперь к ностальгическому циклу и в конце сыграли «Я слышу рапсодию», представив все это с французским лиризмом.
N выбрался на улицу. На кухне у стола никого не оказалось. Воздух был свежий и прохладный, батальоны не меняющих форму облаков маршировали по низкому небу. Он подошел ближе.
– Pardon? Allo?
Изнутри слышался шелест женских голосов, N сделал еще шаг вперед. Шаги предательски громко прозвучали на деревянном полу. Неожиданно в дверях появилась женщина постарше. Она посмотрела на N темными глазами. Взгляд прочесть было невозможно. Приглушенный смех утонул в буре аплодисментов в столовой. N услышал приближающиеся мягкие шаги, и девушка в ярко-голубом платье появилась перед ним. Она прислонилась бедром к дверному косяку, успешно сохраняя выражение безразличия и скуки на лице.
Он сказал по-французски:
– Спасибо вам за то, что сделали сандвич и принесли ко мне в комнату.
На расстоянии трех метров N почувствовал в свежем воздухе волны отвратительного запаха, исходящие от нее, и ему стало интересно, как это терпят другие женщины.
– Надин передала, что вы благодарили меня.
– Я хотел сделать это лично. Согласитесь, очень важно делать такие вещи лично.
– Да, важные вещи нужно делать лично.
– Вы были так внимательны, что заметили мое отсутствие за ужином.
Девушка пожала плечами, и тело ее несколько переместилось в пределах узкого платья.
– Это из простого здравого смысла. Наши гости не должны ходить голодными. А у большого человека вроде вас должен быть отменный аппетит.
– Вы не поверите, но сегодня я опять вернусь поздно.
Ее рот скривился в улыбке.
– Это означает, что вы хотите еще один сандвич?
– Очень.
И, намекая на возможные удовольствия, N сделал еще два шага в ее зловоние и немного тише произнес:
– Мы могли бы разделить его. А еще можно принести бутылочку вина. У меня есть что отпраздновать.
Девушка бросила взгляд на его сумку:
– Вы закончили то, что пишете?
Она явно расспрашивала о нем хозяина.
– Закончу сегодня к вечеру.
– Я никогда раньше не встречала писателей. У вас, наверное, интересная жизнь. Очень романтичная.
– Вы даже не представляете, – сказал он. – Я расскажу вам кое-что. В прошлом году я писал рассказ в Бора-Бора и там разговаривал с молодой девушкой, похожей чем-то на вас. У нее были прекрасные темные глаза и волосы. Должно быть, она искупалась в чем-то особенном, перед тем как прийти ко мне в комнату, потому что пахло от нее лунным светом и цветами. Она выглядела, как королева.
– Я могу быть похожей на королеву гораздо больше, чем кто-то в Бора-Бора.
– Я бы ничуть не удивился.
Она опустила глаза и, покачивая бедрами, удалилась назад в кухню.
Припарковавшись на боковой улице недалеко от площади Марше, N прогулялся по магазинам, пролистал «Кима» и выпил menthe а l’eau в кафе, поглазел на прохожих, на уличное движение в древнем городишке. В магазине под названием «Баскские головные уборы» он увидел японцев из таверны, меняющих свои кепки для гольфа на желтые и зеленые береты, в которых они выглядели как чудаки из комедийного фильма. Японцы не обратили внимания на его улыбку. Европейцы все выглядят одинаково.
Шагая мимо широкой террасы заведения, которое считалось лучшим рестораном в городе, N обратил внимание на мистера Дэниела Хьюберта и авантюрную Мартин, которые о чем-то оживленно спорили. Черный шелковый костюм и черная шелковая водолазка мистера Хьюберта красиво подчеркивали его благородную седину, а свободный белый свитер, короткая желто-коричневая юбка и огромные очки Мартин создавали впечатление, что она только что читала лекцию. Здесь причина для наблюдения не была тайной, но как ее можно было бы интерпретировать?
N вернулся назад, вошел в ресторан с центрального входа и уселся позади них. Он пил минеральную воду за дальним столиком и позволял их жестам и движениям оседать в его памяти. После трезвого рассуждения о своем месте в пищевой цепи мистер Хьюберт заказал лягушачьи лапки. Улыбающаяся, умная, образованная и вдобавок ко всему желанная Мартин держала Хьюберта в игре.
N проследил, как парочка пешком вернулась домой к мистеру Хьюберту, и его блуждающий взгляд все время искал скрытого игрока, о чьем существовании Мартин не подозревала, как он сам когда-то в наивной молодости. Окруженный заботой Мартин Хьюберт успокоился. Остановившись на самом виду, словно восхищаясь каким-то особенно впечатляюще оформленным окном, N видел, как Хьюберт открыл свою резную дверь. Он знал, что этот черт собирается добиться своего. Интересно, если бы его «консультант» не был таким привлекательным, справилась бы природная осторожность Хьюберта с амбициями? Почти наверняка, подумал N. Хьюберт еще не заходил так далеко, игнорируя собственные сигналы тревоги. Они знали, что делают. Хьюберт никогда бы не позволил себе показать слабость перед женщиной, с которой надеялся переспать. Но и у тех, на кого работал N, есть одно существенное слабое место. Они верят в свою способность предугадывать поведение.
Под видом хорошо одетого туриста, поглощенного разглядыванием каменной кладки шестнадцатого века, N попятился в обратную сторону через арки и засек слежку в cafe tabac, что доказывало его теорию.
Стоя или, скорее, привалившись к задней стенке бара, парень диковатого вида, с лохматыми, до плеч, светлыми волосами следил за ним через открытую дверь. Его мотоцикл косо стоял в тени колонны. Словно приходя в себя от восторженного внимания, N бесцельно осмотрел площадь. Парень тут же сдвинулся с места и быстро глотнул пива. С неожиданно нахлынувшим хорошо знакомым удовольствием N сунул руки в карманы плаща и пошел по площади, подождал, пока проедут машины, и легким шагом направился в ту сторону, откуда пришел. Парень оставил пиво и вышел из кафе. N дошел до дальнего края площади и обернулся. Парень с рассеянным видом застыл между колоннами.
Если бы в обязанности N входило обучать парня их нелегкому делу, он сказал бы ему: «Всегда оставляй себе свободу выбора, до самого последнего момента. Катайся на мотоцикле, болван, пока я не скажу тебе, что делать».
Малыш думал, что принятие решения происходит каждую минуту: типично хулиганское представление. N удалялся прогулочным шагом все дальше, и парень решил пойти за ним пешком. Какая-то коварная нервозная бравада была в его медленном движении вперед. Не хватало только мишени на груди. Наслаждаясь собой, N неторопливо бродил по улицам, с туристическим интересом разглядывая прекрасные, словно космические здания, потом вернулся в ресторан, где Мартин совсем недавно уговаривала мистера Хьюберта снова вступить в игру. Он прикинулся, что разглядывает меню в витрине. Через два магазина от N парень крутился у полки открыток с пейзажами. Его мешковатая, неряшливая кожаная куртка достаточно свободна, чтобы спрятать под ней оружие, но, вероятнее всего, оно засунуто под ремень – еще одна хулиганская привычка. N вошел на террасу и занял столик в последнем ряду.
Парень украдкой выглянул из-за угла, нашел его взглядом и скрылся. N открыл сумку, достал роман и кивнул официанту. Официант грациозно склонился перед ним и подал меню. Парень опять появился на другой стороне улицы, сгорбившись вошел в кафе и уселся за столик возле окна. Сделано неплохо, жаль, что все остальное просто ужасно. N переворачивал страницы меню, вчитываясь в название каждого блюда.
Неужели ты не видишь? Я же говорю тебе, что делать. У тебя достаточно времени, чтобы сходить за мотоциклом, вдруг он тебе понадобится, когда я буду уходить?
Парень тяжело уронил подбородок на руку. N заказал грибной суп, баранью отбивную, стакан красного бургундского и бутылку минеральной. Он открыл книгу. Храбрый Кимбалл О’Хара, известный как Ким, находился в данный момент в Гималаях и скоро должен украсть пакет с секретными документами у двух русских шпионов.
Парень прошелся пятерней по волосам, встал, сел. От тарелки грибного супа с пирамидкой сливок распространялся восхитительный земляной запах. Наконец парень, сгорбившись, вышел на тротуар.
N вернулся к Киму, русским и чудесному супу.
Он уже приступил к отбивной, когда услышал грохот подъезжающего к террасе мотоцикла, который перекрывал все остальные звуки. Мотор заглох. N сделал глоток вина. Через дорогу, не скрываясь, прямо перед рестораном парень слез с мотоцикла. Он тряхнул волосами и опустился на колени у своей машины – старого «кавасаки» с толстыми картонными коробками, свисающими с седла. В течение нескольких минут неумело изображал возню с двигателем, потом куда-то убрел.
N отрезал кусочек отбивной, открыв срез ароматного, нежного мяса идеального розового оттенка.
Заплатив за ланч, он убедился, что парень скрылся из виду, и нырнул внутрь ресторана. Мужская уборная находилась в небольшом помещении в коридоре рядом с кухней. N закрыл дверь, облегчился, помыл и вытер руки и лицо и сел на крышку унитаза. Прошло пять минут, в течение которых он совершенно игнорировал стук в дверь и дерганье ручки. N подождал еще две минуты и затем открыл дверь. Хмурый мужчина снаружи торопливо протиснулся в туалет и быстро захлопнул дверь.
N не стал возвращаться в зал, он пошел вдоль коридора к служебной двери и выбрался через нее в узкую мощеную аллею. Из вентиляционного отверстия над переполненными мусорными баками вырывался жар. N отправился в ту часть аллеи, где мотоцикл набирал обороты и ревел, как обманутый зверь.
Парень должен был выполнить инструкции ночью, в горах или на какой-нибудь маленькой дороге назад в Монтори, но, увидев N, он панически боялся потерять его. Звук мотоцикла приблизился и перешел в низкий непрерывный рокот.
N плавно повернул назад. Может быть, Малыш захочет посмотреть, есть ли в ресторане задняя дверь, – не так глупо с его стороны.
N нырнул за мусорные баки, так как шум двигателя усиливался. Парень резко затормозил, как только переднее колесо показалось в начале аллеи. Мотоцикл рыкнул, кашлянул и заглох.
– Merde.[1]
Парень заглянул в аллею и повторил то же самое с более резкой интонацией. Интересно, что он будет делать дальше: поплетется к ближайшему разрешенному телефону сообщать о своем провале или же пройдет в глубь аллеи, чтобы посмотреть, не осталось ли каких-нибудь зацепок.
Малыш втолкнул мотоцикл в аллею и нехотя прокатил его несколько метров. Бормоча что-то вполголоса, поставил мотоцикл на подножку у стены. N дотянулся до сумки и приготовился. Он плотно обхватил рукоятку девятимиллиметрового пистолета, навинтил глушитель, большим пальцем снял с предохранителя и положил указательный палец на спусковой крючок. Шаги парня по направлению к N затихли метрах в пяти. Парень бурчал бессмысленные, дурацкие ругательства. Зловещие шаги возобновились, он был уже на расстоянии трех метров от мусорных контейнеров.
N напряг мышцы ног, подпрыгнул, одновременно поднимая руку. Малыш издал пронзительный вопль. Его тупое лицо побелело и вытянулось. N нажал на спусковой крючок. Одновременно с тихим, мягким хлопком между бровями Малыша появилась дырочка, которая казалась слишком маленькой, чтобы представлять реальную опасность. От выстрела парень отшатнулся назад, а потом шлепнулся на землю. Гильза отскочила от кирпичной стены и упала на бетон. Темная струя жидкости и чего-то еще потекла вниз по стене.
N сунул пистолет назад в сумку и подобрал гильзу. Склонился над телом, выдернул из джинсов бумажник, похлопал по телу, ища оружие, но обнаружил только нож в кармане, застегнутом на молнию. Он направился к «кавасаки», отстегнул коробки на ремне и понес их с собой прочь из аллеи в полдень, заряженный, казалось, серебристым электричеством.
На главной улице навстречу N шла толпа темноволосых монахов с детскими лицами, их сутаны развевались. Один монах уловил его настроение и улыбнулся сверкающей белозубой улыбкой. N усмехнулся в ответ и отошел в сторону. Красный навес вспыхнул, как священный огонь. Проходя мимо, молодые монахи заполнили весь тротуар, они трещали на южноамериканском испанском с эквадорским акцентом. Еще один из них заметил N и тоже ослепительно сверкнул улыбкой. Было воскресенье. Казалось, что шапочки монахов отслаивались в нагретом воздухе. N живо кивнул, все еще ухмыляясь, и отправился дальше.
Когда N добрался до «пежо», его лоб покрылся потом. Он открыл машину, закинул коробки на заднее сиденье, сел за руль и поставил сумку у правой ноги. Вытер лоб носовым платком и выудил бумажник парня из кармана жакета. Бумажник был из красной кожи с эмблемой Картье. Сотня франков, около шестидесяти долларов. Водительское удостоверение на имя Марка Антония Лаборе, проживающего в Байонне. Телефонная карточка. Членский билет из видеопроката. Визитная карточка адвоката в Байонне. Сложенный листок фальцованной бумаги, исписанный телефонными номерами, ни одного знакомого. Кредитная карточка на имя Франсуа Дж. Пеллитьера. Еще одна кредитная карточка на имя Реми Гросселина. Водительские права на имя Дж. Пеллитьера и Реми Гросселина из Тулузы и Бордо соответственно, все с фотографиями только что почившего молодого преступника. Фальшивые документы были тем, что N называл «халтурой» – слегка неровные линии и бледные, едва различимые следы ластика. Он вытащил деньги, положил бумажник на приборную доску и подтянул к себе коробки.
Первая оказалась утрамбованной джинсами, рубашками, нижним бельем, носками, парой свитеров – все это мятое и в складках, грязное, пропитанное кисловатым запахом нищеты. С отвращением N открыл вторую коробку и увидел блестящие застежки и матовое сияние дорогой кожи. Он достал сумку из крокодила. Она была пустая. Следующая, тоже пустая, черного цвета от фирмы «Прада». N достал из коробки еще четыре женские сумочки, слегка поношенные, но в хорошем состоянии, все пустые. Засовывая их назад в коробку, N представлял себе, как Малыш, проезжая на мотоцикле мимо своих жертв, срывал у них с плеч сумки и уносился на полном ходу. Он забирал деньги и ценности и выбрасывал все остальное, лучшие сумки оставлял, чтобы сбыть какому-нибудь торговцу краденым.
Либо хозяева N теряли хватку, либо он неверно идентифицировал этого разбойника как своего возможного убийцу. Последнее казалось наиболее вероятным. Раздраженный, озабоченный и веселый одновременно, N прогонял в памяти последние двадцать четыре часа. Кроме этого парня, единственными людьми, которых он видел больше одного раза, были японские туристы, которые отправлялись на прогулки под дождем и покупали себе яркие береты. Его связной говорил что-то про японское задание, но это ничего не значило.
Позади взвыла сирена. Тут же еще одна завопила слева. Он сунул бумажник от Картье в коробку и выехал задом через одну из улочек.
Грохот и звон колоколов, заглушая сирены, возвестил об окончании очередной мессы. Скорость движения в районе ресторана снизилась до скорости пешеходов, так как офицеры полиции опрашивали оставшихся на террасе посетителей. Еще двое, в опрятных мундирах, заблокировали въезд в аллею. Затем движение набирало темп, и скоро N уже мчался по прямой широкой дороге в сторону Монтори.
В Алосе он сделал резкий поворот и оказался на пустом мосту через реку. На середине притормозил, торопливо обошел машину спереди, открыл пассажирскую дверь и одним непрерывным движением руки достал коробки и, опершись бедром о перила, швырнул их в быструю маленькую речку Сезон.
Связной смог перезвонить ему только через двадцать минут.
– Что ж мы опять бросаем трубки? – спросил N, цитируя связного.
– Я не на обычном месте. Сегодня воскресенье, если помнишь. Им пришлось меня искать. Что случилось? Ты не должен был звонить до сегодняшнего вечера.
– Хочу кое-что узнать, – сказал N. – Я вообще чертовски любопытный парень в конечном итоге. Развесели меня. Где они тебя отыскали? Во время партии в гольф? Ты, наверное, прямо как доктор? Все время носишь бипер?
Какое-то время в трубке было тихо.
– Что бы там у тебя ни случилось, мы можем с этим справиться.
Опять тишина.
– Я знаю, что Мартин для тебя – неприятный сюрприз. Если честно, я не виню тебя за то, что ты струхнул. Она тебе нужна как дырка в башке. Ладно, давай договоримся. Никаких отчетов, никакой бумажной работы, никаких мотивировок стрельбы. Ты просто уйдешь и получишь большой-большой чек. Она сделает все остальное. Ты улыбаешься? Я вижу блеск в твоих глазах.
– Ты, наверное, был в своем фитнес-клубе? – спросил N. – Может, тебе пришлось ради меня бросить захватывающий теннисный матч?
Связной вздохнул.
– Я дома. В своем старом вигваме. В общем, я на заднем дворе, делаю кроличью клетку для дочери. В смысле, для ее кролика.
– Ты живешь не в Париже.
– Мне посчастливилось жить в Фонтенбло.
– И у тебя есть бипер.
– У кого нет?
– Как зовут кролика?
– О боже! – вздохнул связной. – Мы так и будем говорить ни о чем? Кролика зовут Кастер. Семейная шутка.
– Ты что – настоящий индеец? – спросил N и громко засмеялся от удивления. – Индеец Честное Слово?
Прежний образ идиота в толстых очках трансформировался в фигуру с высокими скулами, бронзовой кожей и черными до плеч волосами.
– Честное слово, – ответил связной, – хотя термин «коренной американец» приятнее на слух. Тебе интересно узнать мою племенную принадлежность? Я сиу.
– Я хочу знать твое имя.
Когда связной отказался отвечать, N заметил:
– Мы оба знаем, что ты не обязан говорить мне, но взгляни на это по-другому: ты дома, никто не прослушивает этот звонок. Когда я здесь закончу, никто никогда обо мне не услышит. Если ты скажешь мне свое имя, я стану больше доверять тебе. Я считаю, это самый важный момент в полевой работе. Мое доверие к тебе уже прилично истрепалось.
– Почему это?
– Сначала скажи имя. Пожалуйста, без глупостей. Я все равно узнаю, если ты солжешь.
– Да что, черт возьми, там происходит? Ладно. Вручаю свою карьеру в твои руки. Ты готов? Меня зовут Чарльз Много Лошадей. В свидетельстве написано Чарльз Гораций Банс, но мое индейское имя Много Лошадей, и когда вы боретесь за правительственные контракты, как мы в свое время, вам приходится сталкиваться с определенными стандартами. «Много Лошадей» звучит гораздо более по-индейски, чем Банс. Теперь будь добр, объясни, какого черта ты взбаламутился?
– Здесь еще кто-нибудь следит за мной? Кроме Мартин? Кто-то, о ком я не должен знать?
– О, пожалуйста! – взмолился связной. – С чего ты взял? А, понял, по голосу слышно, что ты заприметил кого-то, или тебе показалось… И все? Похоже, с возрастом развивается паранойя. Если ты и вправду кого-то видел, его нет в наших ведомостях. Опиши его.
– Сегодня в Молеоне я заметил парня, отиравшегося в кафе прошлой ночью. Пять футов десять дюймов, сто пятьдесят фунтов, около тридцати лет. Длинные белые волосы, неопрятный, на мотоцикле «кавасаки». Он следил за мной, Чарльз, я ни капли не сомневаюсь. Куда я шел, туда и он, и если бы я не был, как ты знаешь, в некотором роде знатоком своего дела, я бы никогда в жизни его не засек. Вышло так, что мне пришлось выбежать из ресторана через заднюю дверь, чтобы уйти от него. Можешь называть меня параноиком, но такие вещи мне не нравятся.
– Он не наш, – быстро сказал связной. – Кроме этого, я не знаю, что сказать тебе. Это ведь твой звонок, старик.
– О’кей, Чарльз, – сказал N, уловив мрачную двусмысленность в голосе собеседника. – Вот так обстоят дела. Если я увижу этого парня снова, мне придется с ним разобраться.
– Красиво сказал, – ответил связной.
– Еще одно, Чарльз. Мы нанимали каких-нибудь японцев на полевые работы по твоим сведениям? Ты заикнулся вчера о такой возможности. Это было сказано просто так? Или нет? Просто так ведь ничего не говорится. Мы ведь наняли несколько японцев, так?
– Теперь ты об этом. Ну, парочку – да. Теперь уже не найти людей вроде тебя. По крайней мере в Штатах.
– Те японские джентльмены, которых я вижу, куда бы ни пошел, и есть эта парочка?
– Разреши мне задать тебе вопрос. Ты знаешь, как дорого стоит иена против западных валют? Это шутка. Если полетишь первым классом на самолете «Эр Франс», тебе подадут суши вместо улиток. Суетливые маленькие японские туристы наводнили всю Европу, включая Пиренеи.
– Да, суши вместо улиток.
Где же он слышал совсем недавно почти идентичную реплику? Ах да, это были пьяные баски. N немного успокоился.
Связной издал хриплый смешок.
– Да ты тот еще черт. Такой гордый. В любом случае можешь уложить япошек. Но ты увидишь таких же еще и еще, потому что они – абсолютно везде.
– Чистый и опрятный, тихий и секретный. Только Хьюберт, Мартин и я.
– Смотри, как хорошо получается, когда ты не забиваешь голову ерундой. Постарайся не повредить его машину. Мартин поведет ее назад в город. Тягач, который везет ее машину из Парижа, потащит «мерседес» в Москву. Уже есть покупатель.
– Было бы сказано, будет сделано.
– Или, как говорят у нас: никогда не стреляй в лошадь, пока она дышит. Я рад, что мы поговорили.
Чистый и опрятный, тихий и секретный. Лежа на кровати, N позвонил по частной линии в Нью-Йорк и попросил своего брокера ликвидировать его капитал в ценных бумагах. Взволнованный брокер потребовал длительного объяснения, как можно перевести фонды на несколько кодовых счетов в швейцарских банках, не нарушая закон, а потом захотел услышать все это еще раз. Да, сказал N, он понимает, что аудит неизбежен, никаких проблем, все в порядке. Затем он заказал телефонный разговор со своими банкирами в Женеве по ежедневно круглосуточному номеру, известному только избранным клиентам, и после продолжительных дискуссий и споров относительно процентов ему открыли банковский счет для поступающих денежных средств и перераспределения имеющихся вложений по новым счетам. В понедельник эти же услужливые банкиры отправят с посыльным на корабле разные важные документы в сейфе, вверенном их заботам. Квартиру N снимал, тут все просто, только жалко было книг. Он разделся до рубашки и трусов и завалился в кровать, глядя гонконгский триллер, дублированный на оживленном французском, в котором герой-детектив, мускулистый дервиш, говорил что-то вроде: «Почему же мне всегда выпадает истреблять подонков?»
N проснулся под обсуждение цен на сельскохозяйственные продукты между профессором языкознания, известным шеф-поваром и прошлогодним лауреатом Гонкуровской премии в области литературы. Он выключил телевизор и прочитал несколько страниц из «Кима». Затем положил книжку в сумку и тщательно почистил пистолет, прежде чем вставить холостой патрон в обойму и перезарядить. Прицелился, поставил пистолет на предохранитель и уложил его рядом с романом. Принял душ, побрился и подстриг ногти. Надел темно-серый костюм и тонкую черную водолазку и сел у окна.
Стоянка постепенно заполнялась. Немецкая семейка вышла в серый полдень и забралась в «сааб». Как только они скрылись из виду, грязный «рено» съехал с холма, и из него выгрузились друзья хозяина гостиницы. Через несколько минут на стоянку вкатился красный «рено». Три японца в новых цветных беретах перешли через дорогу, чтобы внимательно изучить в витрине ассортимент еды и напитков. Белокурая женщина предложила им кусочки сыра, отрезанные от целой головки, и японцы закивали головами с видом глубокой признательности. Девушка в синем платье прошлась мимо дверей в кухню. Японцы купили два клинышка сыра и бутылку вина. Они поклонились продавщице, и та поклонилась им в ответ. На стоянку выбежала любопытная черная с белым собака и начала обнюхивать пятна на земле. Когда японцы подошли к таверне, собака забежала с ними внутрь.
N закрыл дверь на ключ и спустился в холл. Открыв пасть и глядя на него снизу вверх озорными глазами, собака сидела у стола, внимательно проследила за тем, как он положил ключ на конторку. N почувствовал к ней симпатию и по дороге на улицу погладил по костлявому черепу. У витрины он купил кусочек сыра из овечьего молока. Вскоре после этого N уже ехал по узкой дороге в сторону Тардетс, потом крутой поворот через реку в Алосе и длинное прямое шоссе в Молеон.
N сидел в машине на своем месте в глубине аркады и осторожно откусывал кусочки влажного сыра, постепенно разворачивая бумагу, чтобы крошки не падали на пиджак. Под желтыми зонтиками на той стороне площади расположился пожилой человек и читал газету. Молодая пара с коляской гремела погремушками перед ребенком. Привилегированный мистер Хьюберт стоял на тротуаре перед антикварной лавкой. Двое подростков появились на площади и устало потащились в сторону кафе, где, выскользнув из своих громадных рюкзаков, упали на стулья рядом с молодыми родителями. Девушка с рюкзаком наклонилась вперед и состроила ребенку рожицу, младенец от удивления выпучил глаза. Элегантная женщина примерно возраста N прошла мимо его машины, направилась в сторону аркады и вошла в антикварный магазин. Он доел последний кусочек сыра, аккуратно сложил оберточную бумагу и засунул ее в наружный карман кейса. В медленно спускающейся темноте постепенно то тут, то там стали зажигаться огни.
Японских игроков в гольф в баскских беретах нигде не было видно. Ребята с рюкзаками слопали чипсы и убрели куда-то, молодая пара покатила коляску домой. Туристы и постоянные клиенты заполняли половину столиков под зонтами. Мужчина и женщина в добротной английской одежде вошли в магазин Хьюберта и вышли через двадцать минут с элегантной женщиной на буксире. Мужчина посмотрел на часы и повел своих спутниц под аркаду. С другого конца площади проехала полицейская машина. Флегматичный мужчина на пассажирском сиденье повернул свое лицо цвета колбасного фарша и мертвые глаза к N. Ненадолго возникло знакомое ощущение страха полного разоблачения.
Повинуясь импульсу, еще не сформировавшемуся в мысль, N оставил машину и пошел под арки, к окну антикварного магазина. Оставалось примерно двадцать минут до закрытия. Мистер Хьюберт что-то печатал на компьютере, стоящем на огромном письменном столе в дальнем углу за рядом прекрасной, сияющей мебели. Лампа с зеленым абажуром освещала глубокую вертикальную складку между его бровями. Амбициозной Мартин нигде не было видно. N открыл дверь, и колокольчик зазвенел у него над головой.
Хьюберт бросил на N взгляд и протянул в сторону руку ладонью кверху. N стал с задумчивым видом прохаживаться вдоль мебели. Когда-то давным-давно одно из заданий включало пребывание в антикварном отделе известного аукционного дома в течение месяца, а еще раньше параллельно с другими занятиями в его обучение входили уроки мастера по имени Эльмо Маас, который показывал, как отличить антикварную вещь от подделки. Эти уроки оказались гораздо более полезными, чем N мог тогда предполагать.
Любуясь деревянной мозаикой на столике времен правления Наполеона III, N заметил едва различимое затемнение на дереве в верхней части одной из ножек. Он встал на колени, чтобы пробежаться кончиками пальцев вверх по внутренней стороне ножки, и наткнулся на крошечную, но все равно выступающую над поверхностью шайбу, которую невозможно было различить глазами. Стол оказался ненастоящий. N прошел к столу конца восемнадцатого века, испорченному неумеренной позолотой, вероятно, сделанной в тридцатые годы. Следующая вещь, которую он посмотрел, была откровенной подделкой. N даже знал, кто это сделал.
Эльмо Маас, настоящий спец в искусстве подделки, боготворил мастера по имени Клемент Тюдор, который занимался изготовлением антикварной мебели. Если научишься отличать работы Тюдора, говорил Маас, то сможешь распознать любую подделку, какой бы хорошей она ни была. Из мастерской в Камберуэлле, на юге Лондона, ежегодно в течение почти сорока лет выходило по пять-шесть предметов мебели. Тюдор сосредоточил свое внимание на Франции семнадцатого и восемнадцатого веков. Свои изделия он распространял через дилеров во Франции и США. Его мастерство явилось благословением не только для него, но и для его работ: ни одна из них не была признана фальшивкой, разве что Маас, его восторженный поклонник, смог бы это определить. Антикварная ценность мебели Тюдора даже не подвергалась сомнению. Некоторые из его работ осели в музеях, некоторые – в частных коллекциях. Используя фотографии и слайды вместе с образцами собственных изделий, Маас учил N видеть почти невидимые нюансы: обработку скосов, угол, под которым мастер держал инструмент, следы стамески и шила, и массу других тонкостей. Как раз здесь и имелись эти тонкости, рассыпанные по кабинетному шкафчику, скорее как намек на отпечатки пальцев, чем собственно отпечатки.
Мистер Хьюберт подошел следом за N.
– Изысканно, не так ли? Сегодня я закрываюсь рано, но если вас интересует что-то конкретное, наверное, я мог бы…
Манера говорить, одновременно почтительная и снисходительная, выдавала его желание отправить клиента из магазина как можно скорее. Скрытое беспокойство проглядывало в напряженных морщинках вокруг глаз. Период успешного блефа придал губам мистера Хьюберта ироничный изгиб.
– Я ищу антикварный комплект книжных шкафов для своей коллекции первых изданий, – сказал N. – Что-нибудь подходящее для Мольера, Расина, Дидро – вы понимаете, что я имею в виду.
Глаза Хьюберта сверкнули алчностью.
– А у вас большая коллекция?
– Пока скромная. Примерно пятьсот томов.
От улыбки морщинки вокруг глаз Хьюберта стали еще глубже.
– Не такая уж и скромная. Здесь у меня ничего подходящего для вас нет, но я точно знаю, где есть то, что вы ищете. Поскольку магазин работает по воскресеньям, в понедельник у меня закрыто, но, может быть, вы возьмете мою визитную карточку и позвоните мне в это же время завтра? Могу я узнать ваше имя?
– Роже Марис, – сказал N.
– Отлично, мсье Марис. Думаю, вы останетесь довольны тем, что я покажу вам.
Он выдернул визитную карточку из подставки на столе, дал ее N.
– Вы ведь пробудете здесь еще несколько дней?
– До следующих выходных, – ответил N. – Затем вернусь в Париж.
Хьюберт открыл дверь, снова устанавливая колокольчик.
– Могу я задать вам несколько вопросов о той мебели, что у вас есть?
Хьюберт поднял брови и кивнул головой.
– Ваш прекрасный столик времен Наполеона III абсолютно цел?
– Конечно! У нас нет мебели, которая подвергалась ремонту или собрана из разных частей. Естественно, каждый может ошибиться, но в этом случае…
Он пожал плечами.
– А каково происхождение шкафчика, который я разглядывал?
– Вещь принадлежала потомку одной знатной семьи в Перигоре, он захотел распродать кое-какую мебель из своего замка. Налоги, сами знаете. Один из его предков приобрел шкафчик в 1799-м. В моем архиве есть письмо со всеми деталями. А теперь, боюсь, мне нужно…
Хьюберт жестом показал в заднюю часть магазина.
– Тогда до завтра.
Антиквар натужно улыбнулся и с очевидной торопливостью закрыл дверь.
Через девяносто минут «мерседес» проехал под фонарем на окраине города. Припарковавшись в тени около бакалейного магазина и кафе немного дальше по дороге, N видел, как «мерседес» снова резко взял влево и помчался назад в Молеон, как и предполагалось. Хьюберт повторял действия своего пробного прогона. N завел «пежо», выехал со стоянки у кафе на шоссе и устремился на восток, в горы.
Извилистая дорога в горную гостиницу едва позволяла разъехаться двум машинам. С одной стороны дорога прилегала к утесу, с другой стороны обрывалась в пропасть. Иногда она кружила и поднималась над предыдущей петлей всего на двадцать или тридцать футов. На дороге было два узких места, где машина, поднимающаяся в гору, должна подождать на придорожной площадке, пока машина, спускающаяся вниз, проедет мимо в целости и сохранности. Первая площадка находилась примерно на полдороге к гостинице, вторая – сотней футов ниже.
N ехал быстро, насколько позволяло шоссе, поворачивая и кружа вместе с ним. Мимо со свистом пронеслась машина, появившись и исчезнув в неровном свете передних фар. N проехал первую площадку, продолжил путь дальше, заметил вторую и преодолел оставшийся путь до таверны.
У входа в желтое двухэтажное здание на широкой парковке рядами стояли машины. Две или три скорее всего принадлежали обслуге. Хитрый мистер Хьюберт, инстинктивно осторожный, как и все мошенники, выбрал вечер, когда ресторан наполовину пуст. N припарковался в дальнем конце стоянки и вышел, не заглушив двигатель. Передние фары освещали белый деревянный забор с редкими зубьями и восемь футов луговой травы, а дальше ничего, кроме неба, – пропасть. Ближе к горизонту громоздились горы. N согнулся, пролез между зубьями забора и ступил на траву. В темноте ущелье походило на бездну. Можно сбросить туда сотню тел, прежде чем кто-нибудь заметит. Хмыкнув, он быстро пошел назад к машине.
N свернул на придорожную площадку и выключил фары и зажигание. Далеко внизу мелькнули огни автомобиля и исчезли. N подтянул галстук и пригладил волосы. Через несколько минут вышел из машины, встал посреди дороги с сумкой под мышкой, слушая, как «мерседес» преодолевает путь в гору. Его передние фары неожиданно вспыхнули из-за поворота и осветили N. Он шагнул вперед и поднял правую руку. Машина приблизилась, и N сделал еще шаг в слепящий свет. Два бледных лица всматривались в темноту через ветровое стекло, круглый значок на капоте и зубастая решетка неохотно остановились в нескольких футах от него. N показал на свою машину и поднял руки вверх, всем видом выражая беспомощность. В «мерседесе» какое-то время переговаривались. N подошел к машине сбоку. Стекло плавно поехало вниз. Лицо мистера Хьюберта выражало тревогу и беспокойство.
– Мсье Марис? Что случилось?
Он узнал N и немного расслабился.
– Господин Хьюберт! Я совершенно счастлив видеть вас!
N наклонил голову, чтобы посмотреть на Мартин. На ней было что-то черное и ужасно короткое, и даже хмурясь, девушка выглядела превосходно. Их глаза встретились, ее взгляд был полон яростной сосредоточенности. Ну-ну.
– Мисс, мне очень жаль, что пришлось нарушить ваше уединение, но моя машина сломалась по дороге из ресторана, и боюсь, мне нужна помощь.
Мартин чуть не заморозила его своим взглядом.
– Дэниел, ты действительно знаешь этого человека?
– Это клиент, о котором я тебе рассказывал, – объяснил ей Хьюберт.
– Клиент?
Хьюберт погладил ее по коленке и повернулся к N.
– У меня нет времени помогать вам сейчас, но я буду счастлив позвать кого-нибудь из гаража при таверне.
– Меня нужно только слегка подтолкнуть, – просил N. – В любом случае все гаражи сейчас закрыты. Как вы видите, машина уже направлена под гору. Мне жаль, что приходится вас беспокоить, но я был бы очень благодарен.
– Мне это не нравится, Дэниел, – произнесла Мартин.
– Успокойся, – сказал Хьюберт. – Дело не займет и минуты. Кроме того, мне надо кое-что обсудить с мсье Марисом.
Он проехал вперед и остановился у дальнего края площадки. N подошел к нему сзади. Хьюберт вышел из машины, качая головой и улыбаясь.
– Ужасно, когда машина ломается в таком месте.
Мартин повернулась на сиденье и стала смотреть через заднее стекло.
– Очень удачно, что я встретил вас здесь, – сказал N.
Хьюберт положил ему на руку два пальца в качестве деликатного жеста мира и согласия. Еще до того как он склонил голову набок, чтобы доверительно прошептать несколько слов, N знал, что он собирается сказать.
– Ваш вопрос насчет резного столика не давал мне покоя целый вечер. В конце концов, я каждый раз рискую своей репутацией, когда выставляю что-нибудь на продажу. Я обследовал его с огромной тщательностью и думаю, что, возможно, вы были правы. Существует определенная вероятность того, что меня ввели в заблуждение. Мне придется детально разобраться с этим делом. И я вам очень благодарен за столь ценное замечание.
Он похлопал N двумя пальцами по руке, затем выпрямился и уже более официальным тоном произнес:
– Вы обедали в моем любимом ресторане? Приятное местечко, не так ли?
Хьюберт сделал один быстрый шаг по узкой дороге, затем еще один, довольный, что так здорово разделался с одним делом, и готовый приступить к следующему.
В шаге позади него N достал из сумки пистолет и приставил ствол к основанию черепа Хьюберта. Проворный маленький обманщик прекрасно понял, что происходит, – он попытался увернуться в сторону. N вжал дуло в копну волос и спустил курок. После быстрой вспышки и звука не громче, чем кашель, в воздухе появился резкий запах пороха и паленой плоти. Хьюберт покачнулся вперед и шлепнулся на землю. N услышал дикий крик Мартин еще до того, как она выскочила из «мерседеса».
N запихнул пистолет в сумку, прижал ее локтем, нагнулся, обхватил лодыжки Хьюберта и потащил его к краю дороги. Мартин все еще кричала на дальнем конце стоянки. Когда ее крик начал переходить в гневную истерику, N оторвался от своего занятия и увидел хорошенький маленький пистолет, такой же, как у него дома в тумбочке, направленный ему в грудь. Мартин тяжело дышала, но держала пистолет крепко, вытянув руки над верхом «мерседеса». N замер и посмотрел на нее с невозмутимым спокойствием и любопытством.
– Опусти эту штуку, детка, – сказал он и протащил тело мистера Хьюберта еще шесть дюймов.
– Стой! – завизжала Мартин.
Он остановился и снова посмотрел на нее.
– Да?
– Ничего не делай, только слушай. – Она сделала паузу, чтобы собраться с мыслями. – Мы работаем на одних и тех же людей. Ты не знаешь, кто я, а я знаю, что ты действуешь под именем Кэш. Ты не должен был влезать до тех пор, пока не заключат сделку, так в чем дело?
Голос у нее был гораздо спокойнее, чем он мог предположить.
Все еще держа Хьюберта за лодыжки, N сказал:
– Прежде всего я знаю, кто ты, Мартин. И должно быть очевидно, что все происходящее – всего лишь неожиданный пересмотр наших планов на вечер. Наверху выяснили, что твой друг собирался надуть своих клиентов. Тебе не кажется, что нам следовало бы убрать его с дороги, прежде чем здесь появятся покупатели?
Она посмотрела вниз, на дорогу, не убирая пистолет.
– Мне ничего не говорили об изменениях.
– Возможно, просто не смогли. Извини, что напугал тебя.
N попятился до края дороги. Он бросил ноги Хьюберта, прошел вперед и ухватился за воротник жакета.
Мартин опустила пистолет.
– Откуда ты знаешь мое имя?
– От связного. Как его теперь называют? Нашего контролера. Он сказал, что ты будешь делать всю бумажную работу. Интересный парень. Он индеец, ты знала? Живет в Фонтенбло. У его дочки есть кролик по имени Кастер.
N опустился на колени и схватил Хьюберта за бока. Когда он толкнул его вперед, тело сложилось пополам и издало стон.
– Он все еще жив, – сказала Мартин.
– Нет. Это воздух.
N посмотрел через край узкой полоски травы вниз, в ту же пропасть, которую видел, стоя на краю стоянки. Дорога вверх на плато бежала по самому краю ущелья.
– Мне не показалось, что он собирается обманывать кого-то. – Она так и не вышла из-за «мерседеса». – Он хотел заработать денег. Так же, как и мы.
– Этот проныра только обманом и зарабатывал деньги.
N подтолкнул сложенное тело еще на дюйм ближе к краю. Кишечник Хьюберта опорожнился с чередой хлюпающих звуков и сильным запахом экскрементов. N качнул тело и отпустил вниз. Хьюберт тут же исчез. Через пять или шесть секунд долетел мягкий звук удара о каменистую насыпь, а потом было тихо до тех пор, пока не раздался почти неслышный глухой стук.
– Он обманывал даже своих покупателей, – сказал N. – Половина его мебели была подделкой.
Он отряхнул руки и осмотрел свою одежду на предмет пятен.
– Жаль, что меня не предупредили, что так произойдет. – Мартин спрятала пистолет в сумочку и медленно обошла вокруг машины. – Я могла бы вызвать группу поддержки, ведь так?
– Могли бы, – сказал N. По-английски он добавил: – Если вы действительно уверены, что так для вас лучше.
Мартин кивнула и облизала губы. Ее волосы сияли в отсвете фар. Оказывается, она была одета в черную рубашку-платье, а стройные ноги в нейлоновых чулках заканчивались туфлями-лодочками на низком каблуке. Оделась для арабов, а не для ресторана. Мартин провела рукой по голове и посмотрела ему в глаза.
– Хорошо, мистер Кэш, что же мне делать теперь?
– То же, что вы должны были делать раньше. Я поеду в ресторан, а вы отправляйтесь за своей машиной. Человек, который гонит ее из Парижа, должен переправить «мерседес» в Россию.
– Как насчет…
Она махнула рукой в сторону таверны.
– Я собираюсь выразить нашим друзьям самые искренние сожаления и заверить, что их требования скоро будут удовлетворены.
– Мне говорили, что полевая работа полна сюрпризов, – неуверенно улыбнулась ему Мартин.
Через боковое стекло N заметил на заднем сиденье плоский черный портфель. Он сел за руль, поставил сумку на колени и потрогал рычаги. Нажав кнопку на двери, он отъехал на сиденье назад, чтобы освободить себе больше места.
– Черт возьми, до чего же жаль отдавать эту прекрасную машину какому-то русскому бандиту.
Он поиграл с кнопкой, опуская и поднимая сиденье.
– Кстати, как мы называем наших бедных на оружие друзей? Тонто называет их тряпочными головами, но даже у них должны быть имена.
– Мсье Темпл и мсье Ло. Дэниел не знал их настоящих имен. Не пора ли нам ехать?
N снял машину с ручника. Нажал педаль тормоза и переместил рычаг переключения скоростей из нейтрального положения на первую скорость.
– Дайте мне портфель с заднего сиденья. Лучше сделать это сейчас, сэкономим время.
N отпустил педаль тормоза, и «мерседес» поплыл вперед. Мартин взглянула на него, затем повернулась, чтобы встать коленкой на свое сиденье. Она наклонилась вбок и потянулась за портфелем. N сунул руку в сумку, приставил конец глушителя к груди женщины и выстрелил. Он услышал, как пуля стукнулась обо что-то вроде кости, а затем понял, что она прошла через тело и ударилась о металлическую арматуру под кожаной обшивкой. Мартин рухнула в промежуток между сиденьями. Перед N взлетела длинная нога, резко дернулась, стукнув по приборной панели так, что от туфли отвалился каблук. Гильза со свистом отскочила от ветрового стекла и рикошетом ударила его под ребра.
N сунул пистолет на место и нажал педаль газа. Мартин соскользнула еще глубже в проем между сиденьями. N распахнул свою дверь и крутанул руль влево. Ее бедро съехало на рычаг переключения скоростей. Он снова нажал на газ. «Мерседес» рыкнул и скачком рванул вперед. Очень близко к краю дороги N выпрыгнул из машины.
Гладкая, утопленная в задней двери ручка была настолько близко, что он смог бережно погладить ее на прощание. Дюйм за дюймом машина приближалась к краю дороги. Мартин бессознательно пробормотала что-то неразборчивое. «Мерседес» подкатился к пропасти, высунул над ней свой нос, накренился вперед и вниз и, словно в колебании, замер. Лампочка на потолке осветила Мартин, пытающуюся вернуться назад на свое место. «Мерседес» дрогнул и качнулся вперед, опустив нос еще глубже, а потом изящно и с неохотой соскользнул с обрыва в зияющую черноту. Кувыркаясь в воздухе, он показал свои колеса в желтом свете фар, который погас, как только машина врезалась во что-то далеко внизу.
N шел размашистым шагом вверх по холму, и вдруг перед его глазами возник отчетливый образ длинной женской ноги, яркий и неожиданный, как вспышка молнии. Плавный изгиб, бегущий от модельного бедра до нежной тыльной стороны коленки и дальше по икре. Словно скульптура идеальной ноги, этот совершенный образ заполнял перед ним все пространство. Когда же Мартин собиралась сделать свой ход? Она слишком долго колебалась, когда следовало выстрелить, она не смогла бы этого сделать, когда он вел машину, так что скорее всего это произошло бы на стоянке. У нее была «беретта» двадцать пятого калибра, отличная штука, как считал N. Вытянутая нога Мартин снова вспыхнула перед ним, и он с трудом сдержал дурманящее голову чувство восторга.
N прошел мимо стены таверны и вступил в полоску мягкого света, льющегося из окон. Гравий на стоянке хрустел под ногами. После трехкилометровой пробежки в гору он даже не запыхался – замечательный результат для мужчины в его возрасте. N направился к дальнему концу парковки, положил руки на забор и вдохнул воздух исключительной свежести и чистоты. Вдали под быстро бегущими облаками виднелись горные вершины и хребты. Великолепный уголок мира, очень жаль оставлять его позади. Но N все оставлял позади. Труднее всего оставить книги. Что ж, книгами торгуют и в Швейцарии. И у него ведь еще оставался «Ким».
N направился ко входу в таверну. Сквозь огромные окна были видны престарелые джентльмены в беретах, играющие в карты, семейка из местных ужинала с родителями, юноша и девушка у камина флиртовали, сгорая от страсти и влечения друг к другу. Плотная пожилая женщина принесла к семейному столику большое блюдо. Японские игроки в гольф не вернулись, все остальные столики пустовали. Возвращаясь на кухню, пожилая женщина подсела к картежникам и засмеялась над репликой одного старика, потерявшего почти все зубы.
Вряд ли кто-нибудь из них сдвинется с места в течение часа. Желудок N громко пожаловался, что, несмотря на близость еды, его не кормят. N отступил назад, в относительную темноту, и стал дожидаться второй части ночной работы.
Затем снова вышел вперед, так как недалеко от стоянки показались сияющие огни фар. N двинулся навстречу прозрачному свету и снова пережил старое доброе волнение, открывая себя непредвиденному, стоя на пересечении бесконечного множества вариантов. «Пежо» того же года выпуска, модели и цвета, что и у него, появился на широкой парковке вслед за светом фар. N направился к машине, и двое мужчин на переднем сиденье встретили его напряженными, невыразительными лицами. «Пежо» подъехал к нему сбоку, и стекло поползло вниз. Безжизненное, рябое лицо пристально смотрело на него с холодной, угрожающей беспристрастностью. N это понравилось – значит, ситуация предсказуема.
– Мсье Темпл? Мсье Ло?
Без перемены выражения лицо человека за рулем стало глубже, интенсивнее, казалось, он одновременно стал и жестче, и человечнее. N прочел полную историю гнева, разочарования и неудовлетворенных желаний. Шофер после некоторого колебания посмотрел в глаза N и медленно кивнул головой.
– Есть проблема, – сказал N. – Пожалуйста, не беспокойтесь, но мсье Хьюберт сегодня не сможет присоединиться к вам. Он попал в серьезную автомобильную катастрофу.
Человек на пассажирском сиденье сказал пару предложений по-арабски. Его руки обхватили ручку толстого черного «дипломата». Шофер что-то односложно ему ответил и повернулся к N.
– Мы ничего не слышали об аварии. – Его французский звучал по-варварски жестко, но говорил он без ошибок. – А вы, простите, кто?
– Марк Антоний Лаборе. Я работаю на мсье Хьюберта. Несчастье произошло во второй половине дня. Думаю, он говорил с вами до этого?
Мужчина кивнул, и радостный поток адреналина снова хлынул в кровь N.
– Недалеко от Монтори потерял управление туристический автобус и столкнулся с его «мерседесом». К счастью, мсье Хьюберт отделался всего лишь переломом ноги и сильным сотрясением мозга, а его спутница, молодая женщина, погибла. Он то приходит в сознание, то теряет его, и, конечно же, он очень расстроен из-за смерти девушки, но когда я оставлял его в госпитале, мсье Хьюберт выразил свои сожаления по поводу причиненных неудобств. – N вдохнул еще литр прозрачного воздуха. – Он настаивал, чтобы я лично принес его глубочайшие извинения и заверил вас в его почтении. Он также желает, чтобы вы знали, что не далее как после небольшой задержки все дела будут улажены.
– Хьюберт никогда не говорил о помощнике, – сказал шофер. Другой произнес что-то по-арабски. – Мсье Ло и я желаем знать, что подразумевается под «небольшой задержкой»?
– Дело всего нескольких дней, – ответил N. – Все детали у меня в компьютере.
Их смех прозвучал, как треск веток, как звук от автомобиля, приземляющегося на деревья и скалы.
– Наш друг Хьюберт без ума от своего компьютера, – сказал шофер.
Мсье Ло наклонился вперед и посмотрел на N. У него были густые усы, высокий лоб интеллектуала и пронизывающий взгляд ясных темных глаз.
– А как звали погибшую женщину?
Акцент у мсье Ло был сильнее, чем у водителя.
– Мартин. Все, что я знаю, – сказал N. – Непонятно, откуда взялась эта сучка.
Глаза мсье Ло сощурились.
– Мы продолжим беседу внутри.
– Рад бы присоединиться к вам, но мне нужно возвращаться в госпиталь. – N махнул сумкой в дальний конец стоянки. – Почему бы нам не пройти туда? Это займет каких-то пять минут. Я покажу вам, что есть в компьютере, и вы обсудите все за ужином.
Мсье Темпл глянул на мсье Ло. Мсье Ло поднял и опустил указательный палец. «Пежо» зашуршал по гравию и остановился у забора. Габаритные огни погасли, и мужчины вышли. Мсье Ло ростом около шести футов и худой, мсье Темпл – на несколько дюймов выше и толще в груди и в поясе. На обоих отличные темные костюмы и сияющие белизной рубашки. Приближаясь к ним, N видел, как они поправляют одежду. У мсье Темпла был большой пистолет в наплечной кобуре, у мсье Ло что-то поменьше в кобуре на поясе. Они чувствовали свое превосходство, даже некоторое презрение к мсье Лаборе – лакею торговца антиквариатом, который привязан к своему компьютеру, как младенец к материнской груди.
N подошел к мсье Темплу сбоку, улыбнулся и нырнул сквозь щель в заборе.
– Лучше, если они не увидят экран, – сказал он в их нахмуренные лица. – Я имею в виду – люди в ресторане.
Теряя терпение от всех этих глупостей, мсье Ло кивнул мсье Темплу:
– Иди разберись с этим, – и добавил кое-что по-арабски.
Мсье Темпл оскалился, дернул вниз полу пиджака, нагнулся, положил правую руку на грудь, а другой рукой помог себе установить равновесие и просунул свое пузо через трехфутовую щель. N отошел в сторону, держа свою сумку сверху на заборе. Мсье Темпл перекинул одну ногу через белую нижнюю планку и заколебался, будто не зная, поднять ему вторую ногу или опустить эту. Наклонившись влево, он согнул правое колено и крутанулся. При этом зацепился ногой в легком кожаном ботинке за забор. N сделал еще один шаг вдоль забора, прижав сумку к груди, словно пытаясь защитить ее. Мсье Темпл отскочил на одной ноге в сторону и вызволил другую. Смутившись, он нахмурился и снова подергал полу пиджака.
N встал на колени, держа сумку перед собой. Мсье Ло взялся за доску и просунул голову через щель. Когда он перешагнул через нижнюю перекладину, N выхватил пистолет и выстрелил прямо в центр его интеллектуального лба. Пуля вырвалась через затылочную часть черепа мсье Ло и, ведомая законами физики и невероятной удачей, чмокнула мсье Темпла в грудь; кровь и серая мякоть забрызгали его рубашку. Мсье Темпл пошатнулся назад и со стоном рухнул на землю. N чувствовал себя как игрок в гольф, попавший в лузу во время прощального турнира. Он вскочил на ноги и приблизился к мсье Темплу. Гримасничая и захлебываясь кровью, заливающей рот, араб все еще храбро пытался вытащить пистолет из наплечной кобуры. Пуля прошла через легкое или, может быть, гуляла где-то внутри, прежде чем остановиться. N установил дуло глушителя позади мясистого уха, и правый глаз мсье Темпла, большой, как у коровы, повернулся на него.
Свет струился из окон таверны, мягко освещая ряд машин и растекаясь по гравию. Мсье Ло в неуклюжей позе лежал на нижней планке забора, свесив руки и ноги по обеим сторонам. Кровь капала на траву под ним.
– Красота всегда радует глаз, – сказал N.
Мсье Темпл предложил что-то очень неприятное в ответ, но его оборвала девятимиллиметровая пуля.
N сгреб мсье Ло за воротник и ремень и стащил с забора. Затем взял его за запястья, отволок по траве к краю ущелья и вернулся за мсье Темплом. Он достал их бумажники из боковых карманов и вынул деньги, в сумме вышло около тысячи долларов франками. Он сложил купюры в карман пиджака и выкинул бумажники в пропасть. Осторожно, чтобы кровь не попала на руки и одежду, N подтолкнул мсье Темпла ближе к краю и скатил его с обрыва. Тело тут же исчезло из виду. Следом он столкнул мсье Ло, и на этот раз ему показалось, что снизу из темноты донесся слабый звук удара. Улыбаясь, N направился назад к забору и перелез через него.
N открыл машину арабов со стороны водителя, вынул ключ из зажигания и откинул сиденье вперед, чтобы дотянуться до кожаного чемоданчика. Судя по весу, можно было бы сказать, что чемоданчик набит книгами. N мягко хлопнул дверью и перекинул ключи через забор. Находясь в прекрасном расположении духа, он не смог удержаться от тихого смеха, пересек покрытую гравием площадку и направился вниз с холма к своей машине с сумкой в одной руке и чемоданчиком в другой, качающимся в такт шагам.
Сев за руль, N поставил чемоданчик на пассажирское сиденье и включил верхний свет. В течение нескольких секунд он не мог пошевелиться, только смотрел на гладкую черную отстроченную кожу и медные защелки. У него перехватило дыхание. N наклонился к кейсу, закрыл глаза и нажал пальцами на застежки. Они открылись с плавным, значительным звуком. Он приподнял крышку на несколько дюймов, раскрыл глаза и увидел плотные ряды перевязанных тысячедолларовых купюр, лежащих в три слоя.
– И все это мое, – прошептал N.
Через несколько секунд, придя в себя, он вдохнул и выдохнул, чувствуя, как все мышцы тела дышат вместе с ним. Затем завел машину и плавно покатился вниз с горы.
Когда N повернул к огражденной стоянке, он увидел ярко освещенные окна столовой, за которыми вовсю шел праздник. На столах горели свечи, до него долетали гул и отдаленное жужжание людских голосов. Эта счастливая толпа, казалось, заняла все места на стоянке, разве что кроме грузовика с надписью «Комет», припаркованного перед кухней под таким углом, что он занимал три места сразу. N прокатил мимо грязного «рено» пьяных басков, высокого красного авто японских туристов, мимо «сааба» немцев и других знакомых и незнакомых машин. Перед решеткой рядом с входом оказалось свободным узкое местечко. N въехал в ворота, собрал свои сумки и, задержав дыхание и втянув живот, протиснулся из машины наружу.
Шофер грузовика в синем комбинезоне сидел на стуле у дверей в кухню. Лицо его выражало скуку и безграничное терпение, как у музейного стража. Женщины в это время суетливо бегали туда-сюда с полными подносами и грудами посуды. N стало интересно, что же это такое важное понадобилось привезти вечером в воскресенье, а затем он увидел ярко вспыхнувшее платье Альбертины, стоявшей лицом к раковине и спиной к нему. В нескольких дюймах от ее бедра хозяин гостиницы склонился над раковиной, скрестив руки на груди, и что-то говорил сквозь зубы с заговорщическим видом. Интимность их беседы, ее внимательное отношение к его словам подсказали N, что это отец и дочь. То, о чем папочка не знает, его и не расстроит, подумал он.
Хозяин обернулся, и они встретились взглядами с N.
N улыбнулся ему и плечом открыл стеклянную дверь.
По дороге к конторке он увидел, что это его собственное приподнятое настроение наполнило обычный воскресный обед ощущением праздника. Японские джентльмены, семья немцев, французские туристы и группа местных басков ели и пили за разными столами. Альбертина не освободится еще в течение нескольких часов. У него достаточно времени, чтобы заказать билет на самолет, упаковать вещи, насладиться ванной и даже вздремнуть. Адреналин перестал поступать в кровь, и N почувствовал, что телу требуется отдых. Голод, который он испытывал раньше, исчез – еще один знак того, что надо немного поспать. N взял ключ со стенда и поволок тяжелющий чемодан по лестнице, включая по дороге свет.
Он замкнул дверь изнутри, сел на кровать и открыл кейс. Двадцать пять банкнот в каждом пакете, шесть рядов в ширину и три ряда в глубину. Четыреста пятьдесят тысяч долларов: не миллион, но душу греет. N закрыл кейс, аккуратно положил его на полку в шкафу и поднял трубку телефона. Через двадцать минут он обеспечил несуществующему джентльмену по имени Кимбалл О’Хара чартерный рейс из По в Тулузу в четыре утра и перелет до Марселя на пять. Беспокойство его заказчиков не достигнет серьезной стадии до тех пор, пока он не доберется до Тулузы, и N уже будет лететь на самолете в Италию, когда они дойдут до стадии совершенной паники. Тела могут не найти в течение многих дней.
N сложил и упаковал свою одежду в сумку на колесиках и поставил ее у двери. «Кима» он оставил на прикроватном столике. Он выбросит свою сумку в канал где-нибудь в Олороне.
Горячая вода с журчанием стекала в раковину, N брился второй раз за день. Ванна убаюкала его до дремоты. Он обкрутил полотенце вокруг талии и вытянулся на кровати. Прежде чем N погрузился в сон, перед его глазами возник последний образ – неподвижная великолепная женская нога в прозрачном черном чулке.
Тихий, но настойчивый стук в дверь разбудил его. N посмотрел на часы: одиннадцать тридцать, раньше, чем он предполагал.
– Сейчас иду.
Он встал, потянулся, плотнее обмотал полотенце вокруг талии. Облако тошнотворного цветочного запаха окутало его, как только он открыл дверь. Альбертина, одетая в плащ поверх ночной рубашки, нырнула в комнату. N поцеловал ее шею, едва коснулся жадных губ, он продолжал улыбаться, пока она тащила его к кровати.
Альбертина закрыла за собой дверь, и трое мужчин в коридоре одновременно выступили вперед. Тот, что был справа, открыл мешок для мусора и протянул ей. Она сунула туда большой окровавленный нож и изорванную ночную рубашку. Мужчина окинул ее внимательным взглядом.
– Можете войти, – сказала Альбертина, благодарная за то, что он не стал ничего говорить на своем отвратительном французском.
Все трое поклонились. Несмотря на все обещания себе, она не смогла удержаться и поклонилась им в ответ. Униженная, она снова выпрямилась, чувствуя их взгляды на своем лице, руках, ступнях, лодыжках, волосах и на всем остальном, что они могли разглядеть. Альбертина отошла в сторону, и они проскользнули по очереди в комнату, чтобы начать работу.
Она спустилась в затемненный холл, ей навстречу из-за конторки встал отец. Под длинным столом Гастон, пес, черный с белым, вздрогнул во сне.
– Все прошло нормально? – спросил отец.
Он тоже оглядел ее, ища пятна крови.
– А как, ты думаешь, все прошло? – вопросом ответила Альбертина. – Он почти спал. К тому моменту, когда он понял, что происходит, его грудная клетка была уже вскрыта.
Кодовый замок на входной двери щелкнул и открылся. Два американца посмотрели на них. Гастон поднял голову, вздохнул и снова заснул. Альбертина сказала:
– Эти идиоты в беретах сейчас наверху. Кстати, как долго вы использовали японцев?
– Около шести месяцев.
Человек в твидовом пиджаке говорил по-английски, потому что знал, что этот язык раздражает ее, а вызывать раздражение было его способом флиртовать.
– Эй, нам нравятся эти дикие и сумасшедшие парни, они наши меньшие самурайские братья.
– Только пусть твои пустоголовые братья не упустят чемодан в шкафу, – сказала Альбертина.
Уродливый в спортивном костюме хитро глянул на нее.
– У этого человека хорошая одежда. Может, сменишь прикид? – язвительно заметила она.
– Все его вещи отправятся прямо в огонь, – сказал уродливый. – Мы даже не смотрим на них. Знаешь, мы говорим о настоящей личности. Что-то вроде легенды. Я слышал о нем много увлекательных историй.
– Спасибо, Альбертина, – вмешался ее отец. Он не хотел, чтобы дочь слушала эти увлекательные истории.
– Есть за что благодарить, – ответила она. – Этот старый петух заставил меня принять ванну. Кроме того, мне пришлось смыть запах моих духов, потому что он хотел, чтобы я пахла, как девушка из Бора-Бора.
Оба американца уставились на пол.
Тот, что был в твидовом жакете, закрыл глаза руками. Уродливый сказал:
– Альбертина, ты – идеальная женщина. Все восхищаются тобой.
– Хорошо, тогда я должна получить больше денег.
Она развернулась и пошла вниз по лестнице.
Уродливый пропел ей вслед:
– Не правда ли, романтично?
Под его сладкий фальшивый тенор грузовик завелся и задним ходом подъехал к дверям.
Деревня привидений
Во Вьетнаме я знал человека, который медленно, но верно сошел с ума, потому что жена написала ему, что его сын подвергся сексуальному надругательству со стороны руководителя церковного хора. Человека звали Леонард Хэмнет. Это был ужасно ворчливый негр ростом в шесть футов и шесть дюймов из маленького городка в Теннесси под названием Арчибальд. Написать его жена додумалась лишь после того, как вынесла все прелести похода в полицию, разговоров с другими родителями и повторного заявления, после которого наконец выдвинули официальные обвинения. Руководитель хора должен был предстать перед судом через два месяца. Леонарду Хэмнету от этого легче не стало.
– Я должен убить его, понимаешь? Хотя я серьезно подумываю о том, чтобы убить и ее, – говорил Леонард. Он все еще держал в руках письмо, обращаясь к Спанки Бурраджу, Майклу Пулу, Конору Линклейтеру, Кельвину Хиллу, Тино Пумо, великолепному М. О. Дэнглеру и ко мне. – Все это просто ужасно, моему мальчику нужна помощь, этого мистера Брустера надо лишить рясы, его надо вздернуть на дыбе и сровнять с землей, а она мне ничего не сказала! Она хочет, чтобы я ее саму укокошил, вот что. Чтобы я снес ее чертову башку и насадил на кол во дворе. Я бы еще плакат повесил: «Самая глупая баба на свете».
Мы были в одном из укромных местечек Кэмп-Крэндалле, известном как Ничья Земля, что располагалась между проволочной оградой и хибарой, где маленький проныра по имени Вильсон Мэнли продавал контрабандное пиво и спиртное. Ничья Земля называлась так потому, что командование делало вид, что ее не существует. Там была гора старых шин, канализационная труба и много грязной красной земли. Леонард Хэмнет подавленно посмотрел на письмо, убрал его в карман рабочей одежды и стал нарезать круги вокруг кучи шин, пиная ногами те, что сильно торчали наружу.
– Самая глупая баба, – повторял он.
Пыль взлетала вверх от ударов по изношенным резиновым покрышкам.
Я хотел прояснить, сознает ли Хэмнет, что злится на мистера Брустера, а не на свою жену, и сказал:
– Она просто пыталась…
Огромная блестящая бычья голова Хэмнета повернулась ко мне.
– Да ты не понимаешь, что наделала эта женщина! Она выставила пацана на посмешище. Заставила других людей признать, что над их детьми тоже издевались. Это почти невыносимо. Она добилась ареста этого ублюдка. Теперь его увезут далеко и надолго. Я угроблю эту сучку, – сказал Хэмнет и поддал ногой по старой серой шине с такой силой, что та почти на фут вошла назад в кучу.
Остальные шины вздрогнули и сдвинулись со своих мест. В течение секунды казалось, что сейчас обрушится вся куча.
– Я же говорю про моего мальчика, – рычал Хэмнет. – Все это дерьмо зашло слишком далеко.
– Самое главное, – сказал Дэнглер, – тебе нужно убедиться, что с мальчиком все в порядке.
– И как мне это сделать отсюда? – закричал Хэмнет.
– Напиши ему письмо, – сказал Дэнглер. – Расскажи, как ты его любишь. Объясни: мол, он правильно сделал, что пошел со своей бедой к матери. Напиши, что все время думаешь о нем.
Хэмнет достал письмо из кармана и уставился на него. Оно уже было сильно помято и запачкано. Я подумал, что бумага не выдержит еще одно прочтение Хэмнетом. Лицо его, казалось, потяжелело.
– Мне нужно домой, – сказал он. – Нужно вернуться домой и разобраться со всеми.
Хэмнет начал настойчиво выпрашивать отпуск по семейным обстоятельствам – по одной просьбе в день. Я иногда видел, как он разворачивал драный листок бумаги и прочитывал его два-три раза подряд, напряженно вдумываясь в каждое слово. Когда письмо протерлось до дыр на сгибах, он склеил его.
В те времена мы выходили в четырех-пятидневные патрули, неся большие потери. В полевых условиях Хэмнет вел себя нормально, однако настолько ушел в себя, что разговаривал почти односложно. Он ходил с мрачным, безжизненным видом, как человек, который только что плотно пообедал. Со стороны мне казалось, что он сдался, а когда люди сдаются, они долго не протягивают – они тогда настолько близки к смерти, что другие начинают их избегать.
Мы разбили лагерь среди деревьев на краю рисового поля. В тот день мы потеряли двоих новичков. Я даже забыл их имена. Нам приходилось есть холодные обеды, обогащенные витамином «С», потому что разогревать их на «Си-4» – все равно что выставить рекламные щиты и развесить лампочки. Нельзя было курить и разговаривать. Рацион Хэмнета состоял из банки тушенки, выпущенной еще в предыдущую войну, и банки консервированных персиков. Он увидел, как Спанки уставился на персики, и кинул ему банку. А потом уронил банку тушенки между ног. Смерть уже ходила вокруг Хэмнета. Он достал из кармана письмо и попытался прочитать его в сырых, серых сумерках.
В этот момент кто-то начал в нас стрелять, лейтенант крикнул «Черт!», мы побросали еду и стали отстреливаться от невидимых людей, которые пытались нас убить. Стрельба все продолжалась, и нам пришлось бежать через рисовое поле.
Теплая вода доходила до груди. Приходилось перелезать через перегородки и снова нырять в грязь с другой стороны. Парень из калифорнийского городка Санта-Крус по имени Томас Блевинс получил пулю в шею и упал замертво прямо в воду недалеко от первой перегородки, а другой парень по имени Тирелл Бадд кашлянул и ушел под воду рядом с ним. Наблюдатели вызвали артиллерийский огонь. Мы сидели, прижавшись спинами к последним двум перегородкам, а на нас валились снаряды. Земля тряслась, вода колыхалась, а опушка леса взлетела в воздух от серии взрывов. Визжали обезьяны.
Друг за другом мы перелезли через последнюю перегородку и выбрались на мокрую, но твердую землю с другой стороны рисового поля. Здесь деревья росли гораздо реже, и через них виднелось несколько крытых соломой хижин.
Затем одно за другим произошли два события, которых я не понял. Кто-то в лесу стал обстреливать нас из миномета – из одного-единственного. Один миномет, одна мина. Это первое событие. Я упал на землю и ткнулся лицом в грязь, и все вокруг меня сделали то же самое. Я подумал, что это, возможно, моя последняя секунда на земле, и жадно вдохнул жизнь, какой она была в тот момент. Кто бы там ни палил из миномета, похоже, он прекрасно знал о месте нашего расположения, и тогда я пережил бесконечно длившееся мгновение полной, приводящей в ужас беспомощности – мгновение, в которое душа одновременно цепляется за тело и готовится покинуть его. Оно длилось до тех пор, пока мина не опустилась на последнюю перегородку и не разорвала ее на куски. Земля, грязь и вода шлепались вокруг нас, осколки свистели в воздухе. Один осколок пролетел прямо над нами, отхватил от дерева кусок коры и древесины размером с гамбургер и лязгнул о каску Спанки Бурраджа со звуком кирпича, попавшего в мусорный бак. Осколок упал на землю, и от него поднялась тонкая струйка дыма.
Мы встали. Спанки был как мертвый, только дышал. Хэмнет повесил на одно плечо снаряжение, подобрал Спанки и перекинул его через другое. Он заметил, что я смотрю на него.
– Я должен разобраться с этими людьми, – сказал Хэмнет.
Второе событие, которое я не понял (кроме миномета, взявшегося неизвестно откуда), произошло, когда мы вошли в деревню.
Лейтенанту Гарри Биверсу еще предстояло присоединиться к нам, и целый год оставался до событий в Иа-Туке, когда весь мир и мы вместе с ним сошли с ума. Я должен объяснить, что тогда случилось. Лейтенант Гарри Биверс убил тридцать детей в пещере у Иа-Тука, и их тела исчезли, но Майкл Пул и я были в той пещере и знали, что там произошло что-то грязное и непристойное. Мы чувствовали запах зла, мы трогали его крылья руками. Жалкий, ничтожный человек по имени Виктор Спитални, услышав выстрелы, вбежал в пещеру и вылетел оттуда пулей с диким криком, покрытый рубцами от ударов и крапивницей, которая исчезла, как только он выскочил наружу. Бедный Спитални, он тоже прикоснулся к этому. Мне было тогда двадцать, я мысленно писал книжки, и пещера представилась мне местом, где окончились приключения другого Тома Сойера, где Индеец Джо изнасиловал Бекки Тэтчер и перерезал Тому горло.
Когда мы вошли в маленькую деревеньку в лесу на другой стороне рисового поля, я словно почувствовал грядущий Иа-Тук.
Это место по самой своей сути, в самой основе было неправильным – слишком тихое, слишком спокойное, абсолютно бесшумное и неподвижное. Там не было кур, собак и свиней; не было старух, вышедших посмотреть на нас, не было примирительно улыбающихся стариков. Маленькие пустые хижины, необитаемые – такого во Вьетнаме я не видел ни раньше, ни потом. Деревня-призрак в стране, где люди верят, что земля освящена телами их предков.
На карте Пула это место называлось Бонг-То.
Хэмнет опустил Спанки на траву, как только мы дошли до центра пустой деревни. Я прокричал несколько слов на корявом вьетнамском.
Спанки простонал. Он осторожно потрогал свою каску с боков.
– Меня ранили в голову, – проговорил он.
– У тебя вообще не было бы головы, если б не каска, – сказал Хэмнет.
Спанки закусил губу и стал стягивать шлем с головы. Он застонал. Тонкая струйка крови стекла рядом с ухом. Наконец каска прошла через шишку размером с яблоко. Морщась от боли, Спанки потрогал пальцами этот огромный узел.
– У меня двоится в глазах, – сказал он. – Я никогда не надену эту каску назад.
Медик сказал:
– Не переживай, мы вытащим тебя отсюда.
– Отсюда? – Спанки повеселел.
– Назад в Крэндалл, – кивнул медик.
Спитални украдкой оглядывался по сторонам.
Спанки хмуро посмотрел на него.
– Здесь никого нет, – сказал Спитални. – Что, черт возьми, здесь происходит?
Он воспринимал пустоту деревни как личное оскорбление.
Леонард Хэмнет отвернулся и сплюнул.
– Спитални, Тиано, – приказал лейтенант, – отправляйтесь на рисовое поле и принесите Тирелла и Блевинса. Сейчас же!
Татту Тиано, которому суждено было умереть шесть с половиной месяцев спустя, считался единственным другом Спитални. Он сказал:
– Теперь ваша очередь, лейтенант.
Хэмнет развернулся и пошел по направлению к Тиано и Спитални. Казалось, он вырос в размерах в два раза и руками мог легко ворочать огромные камни. Я уже забыл, какой он огромный. Голова опущена, а вокруг зрачков появился ободок чисто-белого цвета. Я бы не удивился, если бы у него из ноздрей повалил дым.
– Эй, я ушел, я уже там, – сказал Тиано.
Они со Спитални быстро побежали через редкий лес в сторону рисового поля. Кто бы там ни палил в нас из миномета, он уже собрал вещи и ушел. Стало темнеть, и нас отыскали москиты.
– Ну и? – произнес Пул.
Хэмнет плюхнулся на землю, да так тяжело, что я почувствовал, как вздрогнули мои ботинки. Он проговорил:
– Мне надо домой, лейтенант. Не то чтобы я вас не уважал, просто больше мочи нет выносить все это дерьмо.
Лейтенант сообщил, что думает об этом.
Пул, Хэмнет и я оглядели деревню.
Спанки Буррадж заметил:
– Прекрасное тихое местечко, как раз Хэм вдоволь начитается.
– Лучше я все-таки посмотрю, – сказал лейтенант.
Он щелкнул пару раз зажигалкой и направился к ближайшей хижине. Все остальные стояли на месте, как дураки, слушая звон москитов и звуки Тиано и Спитални, тащивших мертвых солдат через перегородки. Спанки то и дело стонал и тряс головой. Прошло слишком много времени.
Изнутри хижины лейтенант пробормотал что-то неразличимое, потом торопливо выскочил наружу. Даже в темноте было видно, что он обеспокоен и озадачен.
– Андерхилл, Пул, – сказал он, – я хочу, чтобы вы посмотрели на это.
Мы с Пулом переглянулись. Наверно, я выглядел так же плохо, как и он. Казалось, Пул готов одновременно броситься на лейтенанта с кулаками и взорваться. Глаза его на грязном лице стали размером с куриное яйцо. Он был как заведенная пружина в дешевых часах. Думаю, я в тот момент очень сильно походил на Пула.
– А что там, лейтенант? – спросил он.
Лейтенант жестом приказал нам подойти к хижине, затем повернулся кругом и шагнул внутрь. Не было никакой причины отправляться за ним. Лейтенант был сопляком, но Гарри Биверс, наш следующий лейтенант, оказался бароном, графом среди сопляков, и мы почти всегда выполняли его приказы, какую бы дрянь он ни нес. Пул был просто на взводе, казалось, он вот-вот выстрелит лейтенанту в спину. Даже я хотел выстрелить ему в спину. Я осознал это секундой позже, не имея никакого представления о том, что творится в голове у Пула. Я что-то проворчал и направился к хижине. Пул пошел следом.
Лейтенант стоял в дверном проеме, глядя на нас через плечо и держась за оружие в кобуре на боку. Он нахмурил брови, показывая, что мы слишком медленно подчинялись его приказам, затем щелкнул зажигалкой. Неожиданно появившиеся на его лице впадины и тени сделали лейтенанта похожим на один из трупов, которые я вскрывал, когда работал в морге при лагере «Уайт-Стар».
– Хочешь знать, что здесь, Пул? О’кей, ты мне и скажешь, что это.
Он поднял зажигалку над собой, как факел, и строевым шагом направился внутрь. Я представил себе, как эта совсем сухая, хлипкая конструкция загорается от зажигалки ярким пламенем. Лейтенанту не суждено было вернуться домой живым и здоровым, и я ненавидел и жалел его почти в равной мере. Но мне не хотелось превратиться в поджаренный тост только потому, что он нашел внутри хижины труп американского солдата и не знал, что с ним делать. Я слышал раньше, как другие отряды находили обезображенные трупы американских пленных, и очень надеялся, что не пришла наша очередь.
А в следующий миг я почувствовал запах крови и увидел, как лейтенант поднимает панель на полу, и подумал, что напугало его, наверное, не тело американского военнопленного, а тело ребенка, которого убили и оставили в этом пустынном месте. Лейтенант скорее всего еще не видел мертвых детей.
Он поднял деревянную крышку в полу, и я снова уловил запах крови. Зажигалка «Зиппо» погасла, и нас окутала темнота. Лейтенант уронил крышку на пол. Запах крови поднимался от чего-то, что скрывалось под полом. Лейтенант чиркнул зажигалкой, и его лицо вынырнуло из темноты.
– Теперь скажите мне, что это.
– Это место, где они прячут детей, когда приходят люди вроде нас, – сказал я. – Но пахнет как-то неправильно. Здесь что-то произошло. Вы успели рассмотреть?
По ввалившимся щекам и почти безгубому рту лейтенанта я понял, что он не успел. Он вовсе не собирался спускаться вниз и принимать смерть от Минотавра, когда его взвод находится снаружи.
– Рассмотреть придется тебе, Андерхилл. Это твоя работа, – сказал он.
В течение секунды мы оба смотрели на лестницу, сделанную из ободранных от коры веток, перевязанных между собой тряпками. Она вела в яму.
– Дайте мне зажигалку, – сказал Пул и выхватил ее у лейтенанта.
Он сел на краю отверстия и наклонился вперед, опустив пламя ниже уровня пола. Что-то пробурчал по поводу увиденного, а потом, удивив до глубины души лейтенанта и меня, сам стал спускаться. Свет погас. Мы с лейтенантом смотрели вниз, в темный открытый прямоугольник.
Зажигалка вспыхнула снова. Я мог различить вытянутую руку Пула, дрожащий огонек, земляной пол. Потолок скрытой комнаты был всего в дюйме от головы Пула. Он сделал несколько шагов в сторону от отверстия.
– Что там? Есть там какие-нибудь… – голос лейтенанта скрипнул, – …какие-нибудь тела?
– Спускайся вниз, Тим, – позвал Пул.
Я сел на пол и спустил ноги в яму. Спрыгнул.
Под полом запах крови был тошнотворно силен.
– Что вы видите? – крикнул лейтенант.
Он пытался говорить как командир, но голос его взвизгнул на последнем слове.
Я видел пустую комнату, по форме похожую на огромную могилу. Стены покрывала какая-то толстая бумага, которая держалась за счет деревянных подпорок, утопленных в землю. Толстый слой коричневой бумаги и две подпорки были заляпаны старыми пятнами крови.
– Горячо, – сказал Пул и выключил зажигалку.
– Давайте же, черт возьми! – раздался голос лейтенанта. – Выбирайтесь оттуда.
– Есть, сэр, – ответил Пул.
Он снова щелкнул зажигалкой. Много слоев плотной бумаги образовывали абсорбирующую прокладку между землей и комнатой, а верхний слой бумаги покрывали вертикальные строки вьетнамских букв. Надписи были похожи на стихи. Как страницы поэтических переводов Ту Фу и Ли По, что читают справа налево.
– Ну и ну, – сказал Пул; я обернулся и вновь взглянул на то, что поначалу показалось нам замысловато запутанными прядями каната, прикрепленного к залитым кровью деревянным стойкам.
Пул шагнул вперед, и плетение приобрело четкие очертания. На высоте около четырех футов над землей к стойкам были прикручены железные цепи. Толстый слой бумаги на стене между двумя кусками цепи полностью пропитался кровью. Между столбами участок земли шириной в три фута был какого-то ржавого цвета. Пул поднес зажигалку ближе к цепям, и мы увидели на металлических звеньях засохшую кровь.
– Я требую, чтобы вы выбирались оттуда, сейчас же, – заныл лейтенант.
Пул закрыл крышку зажигалки.
– Я передумал, – прошептал я. – Кладу двадцать баксов в фонд Илии. На две недели с сегодняшнего дня. Что это будет, двадцатое июня?
– Расскажи это Спанки, – ответил Пул.
Спанки Буррадж придумал организовать общий котел, который мы назвали «фонд Илии», все деньги хранились у него. Майкл никогда не клал денег в общий котел. Он считал, что новый лейтенант может быть еще хуже, чем нынешний. И он, конечно, оказался прав. Нашим следующим лейтенантом стал Гарри Биверс. Илия Джойс, лейтенант Илия Джойс из Нового Утрехта, Айдахо, выпускник университета, прошел курс боевой подготовки в форте Бенниг, в Джорджии; он был никуда не годный, слабохарактерный лейтенант, но не приносил ощутимого вреда. Знай Спанки, что будет дальше, он бы раздал деньги и молился о спасении лейтенанта Джойса.
Мы с Пулом двинулись к отверстию. У меня было чувство, будто я только что видел место поклонения какому-то непотребному божеству. Лейтенант наклонился и бесполезно протянул руку, потому что он не нагнулся настолько, чтобы мы дотянулись до его руки. На негнущихся, как после бассейна, конечностях мы выбрались из ямы. Лейтенант отступил назад. У него было тонкое лицо и толстый мясистый нос, кадык танцевал по тонкой шее, как прыгающий боб. Он, конечно, не Гарри Биверс, но тоже не подарок.
– Ну, сколько?
– Что «сколько»? – спросил я.
– Сколько их там?
Он хотел вернуться в Кэмп-Крэндалл с внушительным списком убитых.
– Там не было никаких тел, лейтенант, – сказал Пул, пытаясь слегка опустить лейтенанта.
Потом он описал, что мы видели.
– Ну, как нам это может пригодиться?
Лейтенант хотел сказать: «Как это поможет мне?»
– Возможно, допросы, – сказал Пул. – Если допрашивать кого-нибудь там, внизу, никто снаружи не услышит ни звука. А ночью можно легко вытащить тело в лес.
Лейтенант Джойс кивнул головой.
– Пост для полевых допросов. Прямо на месте, – сказал он, тщательно подбирая слова. – Пытки. С применением силы. Все очевидно. – Он снова кивнул. – Правильно?
– Все так, – сказал Пул.
– Это показывает, с какими врагами нам приходится сталкиваться в этой войне.
Я больше не мог выносить Илию Джойса на одном квадратном метре рядом с собой и сделал шаг в сторону выхода. Не знаю, что именно мы видели с Пулом, но совершенно точно, что это не Пост Для Полевых Допросов И Пыток С Применением Силы. Разве только вьетнамцы начали пытать обезьян. Мне пришло в голову, что надписи на стенах могли быть чьими-то именами. У меня было ощущение, что мы столкнулись с тайной, которая не имеет никакого отношения к войне, с вьетнамской тайной.
Через секунду музыка из моей прошлой жизни, музыка красивая до невыносимости, начала звучать в моей голове. В конце концов я узнал ее. «Прогулка по Райскому Саду» из «Деревенских Ромео и Джульетты» Фредерика Делиуса. Там, в Беркли, я слышал ее сотни раз.
Если бы ничего больше не случилось, думаю, вся мелодия до конца прозвучала бы в моем мозгу. Слезы наполнили глаза, и я сделал еще один шаг к двери. И вдруг кровь застыла в моих жилах. Вьетнамский мальчик семи или восьми лет в рваной одежде рассматривал меня с серьезным видом из дальнего угла хижины. Я знал, что его там нет, я знал, что это призрак. Я не верил в призраков, но это был именно призрак. Какая-то изолированная часть моего мозга невозмутимо напомнила мне, что «Прогулка по Райскому Саду» повествовала о двух детях, которые вот-вот должны умереть, в каком-то смысле эта музыка была их смертью. Я потер глаза рукой – мальчик все еще стоял в углу. Он был красив, красив самой обычной красотой, как и все вьетнамские дети, которые всегда казались мне красивыми. Затем он исчез, весь сразу, погас, как огонек «Зиппо». Я громко простонал. Этот ребенок был убит в хижине, не просто умер, его убили.
Я что-то сказал и вышел через дверь в сгущающуюся темноту. Очень смутно помню, как лейтенант попросил Пула повторить описание деревянных стоек и окровавленных цепей. Хэмнет, Буррадж и Кельвин Хилл сидели снаружи, прислонившись спиной к дереву. Виктор Спитални вытирал руки о запачканную рубаху. Белый дым поднимался вверх от сигареты Хилла, а от Тино Пумо поднимался длинный белый поток испарений. Беспокойная мысль посетила меня, с этого момента я мог с абсолютной уверенностью утверждать, что это и был Райский Сад. Люди, развалившиеся в темноте; узор сигаретного дыма и абрисы сидящих и стоящих людей; плотная, густая темень, накрывшая нас, как одеяло; очертания деревьев и плоское, темно-зеленое рисовое поле на заднем фоне.
Моя душа вернулась к жизни.
Затем я почувствовал, что что-то не так с людьми, находящимися передо мной, и снова только через секунду мой рассудок догнал интуицию. Каждый член нашего боевого подразделения непроизвольно отмечает для себя, когда кто-то из отряда погибает в бою; иногда твоя жизнь зависит от количества людей, которые идут с тобой, и ты ведешь подсчет, почти не осознавая этого. Я заметил, что передо мной на два человека больше. Вместо семи там было девять, и еще два человека, с которыми нас, выживших после боя, было девять, находились в хижине позади меня.
М. О. Дэнглер смотрел на меня со всевозрастающим любопытством, и я подумал, что он читает мои мысли. Холодная дрожь пробежала по моему телу. Я увидел Тома Блевинса и Тирелла Бадда, стоящих вместе чуть поодаль, справа от взвода. Немножко грязнее, чем другие, они тем не менее отличались лишь тем, что, как и Дэнглер, пристально смотрели прямо на меня.
Хилл выбросил сигарету, и она полетела в сторону, описав яркую дугу. Пул и лейтенант Джойс вышли из хижины. Леонард Хэмнет похлопал себя по карману, чтобы еще раз убедиться, что письмо на месте. Я снова посмотрел вправо – двое мертвецов исчезли.
– Давайте сниматься с места, – сказал лейтенант. – Ничего хорошего тут нет.
– Тим? – позвал Дэнглер.
Он не сводил с меня глаз с тех пор, как я вышел из хижины. Я потряс головой.
– Ну, что там было? – спросил Тино Пумо. – Это было аппетитно?
Спанки и Кельвин Хилл засмеялись и захлопали в ладоши.
– Может, нам спалить это место? – спросил Спитални.
Лейтенант не обратил внимания на его слова.
– Достаточно аппетитно, Пумо. Пост для полевых допросов. Прямо на месте.
– Вот черт! – сказал Пумо.
– Эти люди занимаются пытками, Пумо. Всего лишь еще одно доказательство.
– Понял.
Пумо глянул на меня, и взгляд его стал любопытным. Дэнглер подошел поближе.
– Я просто кое-что вспомнил, – сказал я, – кое-что из мирной жизни.
– Лучше забудь о мирной жизни, пока ты здесь, Андерхилл, – произнес лейтенант. – Я делаю все, чтобы сохранить ваши задницы, если ты не заметил. Нам надо держаться вместе.
Его адамово яблоко прыгало, как маленький щенок-попрошайка.
Как только лейтенант во главе отряда повел нас из деревни, я отдал двадцать долларов Спанки и сказал:
– Две недели с сегодняшнего дня.
– Мама дорогая, – прошептал Спанки.
Больше в этом рейде ничего не случилось.
На следующий вечер у нас уже была возможность принять душ, нормальная еда, выпивка и койки, чтобы выспаться. Простыни и подушки. Два новых парня заменили Тирелла Бадда и Томаса Блевинса, чьи имена мы старались больше не упоминать, по крайней мере я, до тех пор, пока война не кончилась и мы с Пулом, Линклейтером и Пумо не отправились в Вашингтон, к Стене, чтобы прочесть на ней имена всех, кого мы потеряли. Я хотел забыть эту разведку, особенно то, что я увидел и пережил внутри хижины. Я хотел, чтобы все это кануло в реку Забвения.
Помню, что шел дождь. Помню пар, поднимающийся от земли, и конденсат, капающий с металлических опор в палатках. Влага блестела на лицах людей вокруг меня. Я сидел в общей палатке, слушая музыку, которую проигрывал Спанки Буррадж на большом катушечном магнитофоне. Он купил его в ремонтной мастерской в Тайпее. Спанки Буррадж никогда не включал музыку Делиуса, но то, что он ставил, было просто райским: лучший джаз от Армстронга до Колтрейна, записанный на бобины специально для него друзьями из Литл-Рока. Он знал записи настолько хорошо, что мог найти любую мелодию или песню, даже не глядя на счетчик. Спанки нравилось быть диск-жокеем в эти долгие вечера, менять бобины и проматывать тысячи футов пленки, чтобы проиграть одни и те же песни в исполнении разных музыкантов или даже одну и ту же песню, прячущуюся под разными названиями – «Чероки» и «КоКо», «Индиана» и «Донна Ли», – или бесконечные серии песен, в названиях которых встречается одно и то же слово: «Я думал о тебе» (Арт Татум), «Ты, и ночь, и музыка» (Сонни Роллинз), «Я люблю тебя» (Билл Эванс), «Если бы я мог быть с тобой» (Айк Квебек), «Ты забрала мое дыхание» (Милт Джексон) и даже, просто ради шутки, «Твои округлости» Гленроя Брейкстоуна. В тот раз Спанки устроил вечер одного музыканта и проигрывал записи Клиффорда Брауна.
В тот жаркий дождливый день музыка Клиффорда Брауна звучала величественно и сверхъестественно. Клиффорд Браун шел к Райскому Саду. Слушать его – все равно что смотреть на человека, открывающего плечом огромную дверь, чтобы впустить великолепные, ослепительные лучи света. Мы забыли о войне. Мир, в котором мы оказались, был за пределами боли и потерь, а воображение отогнало страх.
Даже Коттон и Хилл, которые предпочитали Клиффорду Брауну Джеймса Брауна, лежали на своих койках, слушая, как Спанки, следуя своим инстинктам, ставит одну запись за другой.
Часа через два Спанки перемотал длинную пленку и сказал:
– Все. Хватит.
Конец пленки стучал по магнитофону. Я посмотрел на Дэнглера, который выглядел так, словно очнулся от долгого сна. Воспоминание о музыке все еще витало вокруг нас: свет все еще струился через щель в огромной двери.
– Пойду-ка я покурю и чего-нибудь выпью, – объявил Хилл и соскочил со своей койки.
Он подошел к входу в палатку, откинул брезент в сторону и впустил сырую зеленую морось. Ослепительный свет, свет из другого мира, начал таять. Хилл вздохнул, нахлобучил на голову широкополую шляпу и вынырнул наружу. До того как брезентовое покрывало упало и закрыло вход, я видел, как он, перепрыгивая через лужи, направился в сторону хижины Вильсона Мэнли. Я чувствовал себя так, словно вернулся из долгого путешествия.
Спанки закончил укладывать пленку с записями Клиффорда Брауна в картонную коробочку. Кто-то в глубине палатки включил радио. Спанки глянул на меня и пожал плечами. Леонард Хэмнет достал из кармана письмо, развернул его и медленно прочитал от начала до конца.
– Леонард! – позвал я, и он повернул свою большую бычью голову в мою сторону. – Ты все еще просишь отпуск по семейным обстоятельствам?
Он кивнул.
– Ты знаешь, что я должен это сделать.
– Да-а, – тихо протянул Дэнглер.
– Они отпустят меня. Я должен позаботиться о своих. Они отправят меня назад.
Хэмнет говорил монотонно, вообще без оттенков в речи, как ребенок, который научился выпрашивать то, что ему нужно, повторяя одно и то же, как попугай, даже не вникая в значение слов.
Дэнглер посмотрел на меня и улыбнулся. Секунду он казался таким же чужим, как Хэмнет.
– Как ты думаешь, что будет дальше? С нами, я имею в виду. Думаешь, все так и пойдет день за днем до тех пор, пока кого-то из нас не убьют, а кто-то не вернется домой? Или дальше странностей будет все больше и больше?
Он не стал дожидаться ответа.
– Я думаю, – продолжал Хэмнет, – всегда будет что-то похожее, но уже не так… Мне кажется, грани между реальным и нереальным начинают стираться. Думаю, именно это происходит, когда торчишь тут слишком долго.
– У тебя в голове все грани стерты уже давным-давно, Дэнглер, – сказал Спанки и захлопал своей собственной шутке.
Дэнглер все еще пялился на меня. Он всегда напоминал серьезного темноволосого мальчика, и военная форма никогда не сидела на нем как положено. Она ему не шла.
– Вот о чем я. Что-то типа этого, – сказал он. – Когда мы слушали этого трубача…
– Брауна, Клиффорда Брауна, – прошептал Спанки.
– …я видел в воздухе ноты. Как будто они написаны на длинном свитке. А когда он проигрывал их, они еще долго висели.
– Мой сладкий пирожок, – мягко проговорил Спанки. – Пожалуй, у тебя слишком меланхоличное настроение для маленького белокожего парнишки.
– Там, в той деревне, на прошлой неделе, – снова заговорил Дэнглер. – Расскажи, что там было.
Я сказал, что он тоже был там.
– Но что-то произошло с тобой. Что-то особенное.
– Я положил двадцать баксов в фонд Илии, – ответил я.
– Только двадцать? – удивился Коттон.
– Что было в той хижине? – настаивал Дэнглер.
Я помотал головой.
– Ладно, – сказал Дэнглер. – Но это все еще происходит, ведь так? Все меняется.
Я не мог говорить. Не мог рассказать Дэнглеру в присутствии Коттона и Спанки Бурраджа, что я видел призраков Блевинса, Бадда и убитого ребенка. Я улыбнулся и покачал головой.
– Отлично, – произнес Дэнглер.
– Какого черта ты говоришь «отлично»? – возмутился Коттон. – Я ничего не имею против музыки, но мне надоела эта бредятина. – Он спрыгнул с койки и показал на меня пальцем. – Какой срок ты даешь Илии?
– До двадцатого.
– Он протянет дольше. – Коттон повернул голову, когда по радио запел Моби Грейп. С раздосадованным видом он снова повернулся ко мне. – Сыграет в ящик в конце августа. Он так устанет, что будет спать на ходу. Отбудет всего полсрока. Он будет чуть живой, тут его и накроет.
Коттон поставил тридцать долларов на тридцать первое августа, точно на середину пребывания лейтенанта Джойса в должности. У него было достаточно времени, чтобы смириться с потерей денег, потому что сам Коттон протянул до начала февраля, когда его подстрелил снайпер. Тогда он стал одним из отряда привидений, который преследовал нас, куда бы мы ни шли. Мне кажется, что этот призрачный отряд, состоящий из людей, которых я любил и ненавидел, чьи имена я помнил или нет, рассеялся только тогда, когда я отправился к Стене в Вашингтоне, но к тому моменту я уже чувствовал себя одним из них.
Я вышел из палатки со смутным желанием выбраться наружу и вдохнуть прохладного после дождя воздуха. Пакетик с белым порошком «Си Ван Во» покоился на дне правого переднего кармана, да так глубоко, что мои пальцы только коснулись его верхушки. Я решил, что пиво сейчас будет в самый раз.
Хижина Вильсона Мэнли находилась на противоположном конце лагеря. Мне никогда не нравилось в солдатской забегаловке, где, по сплетням, подавали дешевое вьетнамское пиво в американских бутылках. Конечно, бутылки часто были с ободранными этикетками, и крышки для придирчивых глаз имели изъяны; да и само пиво там на вкус совсем не то, что у Мэнли.
Оставалось еще одно место, гораздо дальше солдатской забегаловки, но ближе хижины Мэнли, и по статусу нечто среднее между ними. Примерно в двадцати минутах ходьбы от того места, где я стоял, как раз за поворотом круто идущей вниз дороги к аэродрому и мотостоянке находилась изолированная деревянная постройка под названием «У Билли». Сам Билли, который, по общему мнению, был капитаном зеленых беретов и организовал бар с девочками на старом французском командном пункте, давным-давно уехал домой, а заведение его все еще работало. Там больше не было девочек, впрочем, неизвестно, были ли они там вообще, а фирменное пойло заслуживало большего доверия, чем пиво в солдатской забегаловке. Худенькие мальчики-монтаньярды[2], что спали в почти пустых комнатах наверху, подавали напитки. Я был в этих комнатах два или три раза, но так никогда и не узнал, куда подевались мальчики, когда заведение закрыли. Они почти не говорили по-английски. Ничто «У Билли» не напоминало французский командный пункт, даже если его превратить в бордель: там было как в придорожной закусочной.
Когда-то давно здание выкрасили в коричневый цвет. Дерево прогнило и стало мягким. Кто-то однажды заколотил два окна с внешней стороны на нижнем этаже, а потом кто-то еще оторвал по одной узкой доске с каждого окна так, что свет проникал в помещение двумя плоскими белыми полосками, которые путешествовали по полу в течение дня. Около шести тридцати солнечные лучи рикошетом отскакивают от длинного, засиженного насекомыми зеркала, которое стояло за рядами бутылок. После пяти минут слепящего света солнце исчезает за сосновыми досками, и в течение десяти – пятнадцати минут комнату наполняет приглушенный розовый отсвет. Там не было электричества и не было льда. Стаканы заляпаны отпечатками пальцев. Если тебе нужно в туалет, ты отправляешься в небольшую кабинку с металлическими подставками для ног по обе стороны от дырки в полу.
Здание находилось в небольшой рощице за поворотом спускающейся вниз дороги, и когда я шел к нему в рассеянном, красноватом свете заката, с правой стороны бара постепенно вырисовался заляпанный грязью джип камуфляжной раскраски, он словно возник из невидимого, как оптическая иллюзия. Казалось, джип выплыл из деревьев, чтобы стать их частицей.
Ступив на мягкие доски крыльца, я услышал приглушенные мужские голоса. Я окинул взглядом джип, пытаясь разглядеть опознавательные знаки, но дверные панели покрывала грязь. Что-то белое неясно отсвечивало на заднем сиденье. Когда я присмотрелся внимательней, то увидел в петле веревки овал кости, в которой через мгновение узнал абсолютно голый, выбеленный человеческий череп.
Прежде чем я успел дотронуться до ручки, дверь открылась. Мальчик по имени Майк оказался передо мной, в широких шортах цвета хаки и грязно-белой рубашке, которая была ему слишком велика. Он узнал меня.
– О, – произнес он. – Да. Тим. Хорошо. Входи.
На самом деле мальчика звали не Майк, но его настоящее имя звучало очень похоже. Он держался со странной настороженностью, всегда готовый обороняться. Он стрельнул в меня скупой, натянутой улыбкой.
– Дальний столик с правой стороны.
– Все в порядке? – спросил я, потому что все его поведение говорило об обратном.
– Д-да. – Майк отступил на шаг назад, чтобы впустить меня.
Я почувствовал запах кордита еще до того, как увидел других людей. Бар выглядел пустым, а полоски света, пробивающиеся сквозь отверстия над окнами, уже добрались до длинного зеркала, образуя яркое, ослепительное сияние, белый огонь. Я сделал пару шагов внутрь, а Майк обошел вокруг меня и вернулся на свое место.
– Вот дьявол! – выкрикнул кто-то слева от меня. – И мы должны мириться с этим?
Я повернул голову, чтобы посмотреть в темноту по другую сторону бара; там я увидел троих, сидящих за круглым столом у стены. Керосиновые лампы еще не зажгли, а свет, отражающийся от зеркала, делал дальние углы комнаты еще менее различимыми.
– Все о’кей, все о’кей, – сказал Майк. – Старый клиент. Старый друг.
– Готов поспорить, что так и есть, – сказал голос. – Только не впускай сюда женщин.
– Никаких женщин, – сказал Майк. – Без проблем.
Я прошел мимо столов в правый угол.
– Хочешь виски, Тим? – спросил Майк.
– Тим? – повторил мужчина. – Тим?
– Пиво, – сказал я и сел.
На столе перед тремя мужчинами стояла почти пустая бутылка виски «Джонни Уокер», три стакана и около дюжины банок из-под пива. Солдат, сидящий спиной к стене, сдвинул несколько пивных банок в сторону так, чтобы я мог видеть рядом с бутылкой пистолет 45-го калибра. Он наклонился вперед, с трудом удерживая равновесие. Рукава на рубашке оторваны, а кожа такая темная от грязи, будто он не мылся годами. Волосы солдата, когда-то светлые, были обрезаны ножом.
– Я просто хочу убедиться, – проговорил он. – Ты ведь не женщина, так? Можешь поклясться?
– Все, что ни пожелаете, – ответил я.
– Ни одна женщина не должна здесь появляться. – Он положил руку на пистолет. – Ни медсестра. Ни чья-нибудь жена. Вообще никакая. Ясно?
– Ясно, – сказал я.
Майк бежал ко мне с пивом.
– Тим. Смешное имя. Вот Том – нормальное имя. А Тим – это кто-то маленький. Типа его. – Солдат указал на Майка левой рукой, не то чтобы пальцем, а всей рукой, правая рука все это время спокойно лежала на пистолете. – Этому маленькому говнюку надо носить платье. Черт возьми, да он и так носит платье.
– Разве ты не любишь женщин? – спросил я.
Майк поставил на стол передо мной банку пива «Будвайзер» и дважды отрицательно помотал головой. Он хотел, чтобы я зашел внутрь, потому что боялся, что этот пьяница его пристрелит, а теперь все стало еще хуже.
Я посмотрел на двоих солдат рядом с напившимся офицером. Оба были грязные и измотанные – что бы ни случилось с пьяным, это же произошло и с ними. Разница лишь в том, что они еще не успели напиться.
– Это сложный вопрос, – ответил пьяный. – Вопрос ответственности. Ты можешь отвечать за себя. Ты отвечаешь за своих детей и свой род. Ты отвечаешь за тех, кого защищаешь. Но как можно отвечать за женщину? Если можно, то до какой степени?
Майк потихоньку ушел за стойку бара и сел на табуретку. Рук его не было видно. Я знал, что у него там дробовик.
– Ты даже не представляешь, о чем я толкую, ведь так, Тим? Чертова тыловая крыса.
– Ты боишься, что пристрелишь любую женщину, что войдет сюда, поэтому и сказал бармену не впускать их.
– Какого черта этот сопливый сержантик лезет мне в душу? – поинтересовался пьяный у плотного мужчины справа от него. – Скажите, чтобы убирался отсюда, а то он у меня сейчас огребет…
– Оставь его в покое, – сказал другой мужчина.
Полоски высохшей грязи прилипли к его худому, осунувшемуся лицу.
Пьяный офицер задел меня, наклоняясь к другим. Он заговорил на ясном, доходчивом вьетнамском. Это был старомодный, почти литературный вьетнамский язык, должно быть, он думал и мечтал на нем, если владел им так хорошо. Он решил, что ни я, ни мальчик не поймем его.
– Это серьезно, – сказал пьяный, – и я говорю совершенно серьезно. Если хотите узнать, насколько серьезно, просто сидите на своих стульях и слушайте. Вы разве не знаете, на что я теперь способен? Разве вы сами ничего не узнали? Вы знаете то, что знаю я. Я знаю то, что знаете вы. Между нами лежит огромная тяжесть. Из всех людей на свете в этот момент я не презираю лишь тех, кто уже мертв или должен умереть. В этот момент убийство ничего не значит для меня.
Он говорил еще, и я не могу поклясться, что точно передаю его слова, но смысл был такой. Может быть, он сказал, что убийство стало пустым.
Потом все на том же струящемся вьетнамском, который даже для моих ушей звучал как высокопарный язык третьесортной викторианской новеллы:
– Вспомните, что у нас в джипе; вы должны помнить, что мы привезли с собой, потому что я никогда не забуду этого. А вам разве легко будет забыть?
Чтобы вычистить и выбелить кость, требуется много времени и терпения. А череп – самая трудная часть всего скелета.
– Налейте своему командиру еще этого нектара, – сказал пьяный и откинулся назад на стуле.
Он смотрел на меня, держа руку на пистолете.
– Виски, – сказал крепкий солдат.
Майк уже тащил бутылку с полки. Он понял, что офицер хочет напиться до беспамятства, прежде чем сорвется и убьет кого-нибудь.
На секунду мне показалось, что плотный солдат справа мне знаком. Волосы на его голове так коротко сбриты, что он казался лысым, а глаза просто огромные. Часы из нержавеющей стали свисали через прорезь в воротнике. Он протянул мускулистую руку за бутылкой, которую поднес Майк. Мальчик старался держаться как можно дальше от стола. Солдат открутил крышку и налил в три стакана. Пьяный офицер тут же выпил все виски и стукнул стаканом о стол, требуя следующей порции.
Изможденный солдат, который до сих пор молчал, произнес:
– Что-то здесь произойдет. – Он посмотрел мне прямо в глаза. – Эй, друг!
– Этот парень никому не друг, – сказал пьяный. И прежде чем кто-нибудь успел сообразить, он схватил пистолет, прицелился в мою сторону и выстрелил. Огненная вспышка, громкий взрыв и резкий запах пороха. Пуля прошла прямо через мягкую деревянную стену на расстоянии восьми футов слева от меня. Тоненький лучик света стал пробиваться в комнату через новую дырку.
На секунду я оглох. Сделав последний глоток пива, встал. В голове звенело.
– Ненавижу все это дерьмо, понял? – сказал пьяный. – Хорошо понял?
Солдат, который назвал меня другом, засмеялся, а плотный налил пьяному офицеру еще виски. Затем он встал и направился в мою сторону. Усталость и разводы грязи не скрывали его напряженности и обеспокоенности. Он уселся между мной и парнем с пистолетом.
– Я не тыловая крыса, – произнес я. – Мне не нужны проблемы, но воюют не только такие, как он.
– Может, ты позволишь мне спасти твою задницу, сержант? – прошептал он. – Майор Бачелор три года не видел белого человека, и у него небольшие проблемы с адаптацией. По сравнению с ним мы все тыловые крысы.
Я посмотрел на его изорванную рубашку.
– Ты что, нянькой подрабатываешь, капитан?
Он окинул меня рассерженным взглядом и оглянулся через плечо на майора.
– Майор, брось свою чертову пушку. Этот сержант – боевой солдат. Он возвращается в лагерь.
– Мне все равно, кто он, – сказал майор по-вьетнамски.
Капитан начал подталкивать меня к двери, все время оставаясь между мной и своим столиком. Я жестом показал Майку, чтобы он выходил со мной.
– Не бойся, майор его не пристрелит. Майор Бачелор любит «ярдов», – сказал капитан.
Он нетерпеливо посмотрел на меня, потому что я шел медленно. А потом я видел, как изменилось лицо капитана, когда он посмотрел мне в глаза.
– Черт возьми! – сказал капитан и тут же остановился. – Черт возьми, – повторил он, но уже другим тоном.
Я начал смеяться.
– Ох, это же… – Он затряс головой. – Это же и вправду…
– Где же ты был? – спросил я его.
Джон Рэнсом повернулся к столу.
– Эй, я знаю этого парня. Это мой старый футбольный друг.
Майор Бачелор пожал плечами и положил пистолет на стол. Глаза его закрывались.
– Я не люблю футбол, – сказал он, но руку с оружия не убрал.
– Налейте сержанту выпить, – произнес изможденный солдат.
– Налейте этому чертову сержанту выпить, – поддержал майор.
Джон Рэнсом быстро пошел к бару и схватил стакан, который протянул ему вконец растерявшийся Майк. Затем Рэнсом вернулся к своему столу, наполнил два стакана и с ними снова подошел ко мне.
Мы наблюдали, как голова майора постепенно опускается на грудь. Когда его подбородок наконец достиг расстегнутой верхней пуговицы изодранной рубашки, Рэнсом сказал: «Давай, Боб», и другой мужчина потихоньку вытащил пистолет из-под руки майора. Он засунул его себе за пояс.
– Он вырубился, – сказал Боб.
Рэнсом снова повернулся ко мне.
– Он не спал трое суток подряд, пока был с нами, и одному Богу известно, сколько еще до этого. – Рэнсому не пришлось уточнять, кто это «он». – Мы с Бобом немножко поспали по очереди, а он трепался всю дорогу.
Рэнсом уселся на один из стульев за моим столом и опрокинул стакан в рот. Я сел рядом с ним.
Какое-то время в баре стояла тишина. Полоска света, пробивающаяся через открытую щель в окне, уже сползла с зеркала и теперь добиралась до стены, что означало, что скоро она исчезнет совсем. Майк поднял стекло у одной из ламп и подрезал фитилек.
– Слушай, почему, когда мы видимся, у тебя всегда проблемы?
– Очень хочешь знать?
Рэнсом улыбнулся. Он очень изменился с тех пор, как я видел его последний раз. Тогда Рэнсом собирался переправлять партию боеприпасов сенатору Буррману в лагерь «Уайт-Стар». Он окреп и возмужал, а глаза ввалились. Мне казалось, что сейчас он на один огромный шаг ближе к цели, которую я всегда видел в нем, чем раньше, когда Рэнсом фанатично клялся мне, что остановит распространение коммунизма. Этот человек нахлебался войны по горло, и теперь война была у него внутри.
– Я же тебя отмазал от морга в «Уайт-Стар», верно?
Я с ним согласился.
– Как ты называл это? Трупная бригада? На самом деле не очень-то похоже на морг, правда? – Рэнсом улыбнулся и тряхнул головой. – Я позаботился тогда и о вашем капитане Маккью. Он называл это свалкой. Я не представляю, как он мог так долго терпеть. Единственный с крепкими нервами был тот сержант, как это его… Итальянец.
– Ди Маэстро.
Рэнсом кивнул головой.
– Вся операция тогда провалилась.
Майк зажег большую кухонную спичку и поднес ее к фитильку керосиновой лампы.
– Я слышал кое-что об этом…
Он тяжело откинулся назад, оперся спиной о стену и глотнул виски.
– Там было что-то дикое.
Я спросил, по-прежнему ли их база находится в горах за лаосской границей. Он со вздохом покачал головой.
– Так ты теперь не с этим племенем, как его, хату?
Рэнсом открыл глаза.
– У тебя хорошая память. Нет. Я больше не там. – Он собирался сказать еще что-то, но потом передумал. Сдержался. – Жду, когда меня пошлют в Ке-Сан. Лучше бы я остался там, в горах. Но сейчас я мечтаю лишь об одном: принять ванну и завалиться в постель. Любую постель. В общем, я бы даже согласился на сухое ровное место на земле.
– А откуда ты сейчас?
– Ездили в глубь страны. – Его лицо сморщилось, он недовольно скривил рот. Я не сразу понял, что Рэнсом улыбается. – Заехали далеко на вражескую территорию. Нам пришлось вытаскивать майора.
– Похоже, вам пришлось его не вытаскивать, а вырывать, как зуб.
Мое невежество заставило его выпрямиться.
– Ты что, хочешь сказать, что никогда о нем не слышал? О Франклине Бачелоре?
И тогда мне показалось, что кто-то давным-давно рассказывал мне о нем.
– Бачелор в тылу врага вытворял такие вещи, что простым смертным и не снилось. Он – легенда.
Легенда, подумал я. Прямо как Зеленые береты, которых Рэнсом так же называл когда-то в «Уайт-Стар».
– Он один прошел столько, что хватит на армию, хорошо поработал в провинции Дарлак. Он был там совсем один. Этот человек – герой. Это точно. Бачелор пробирался в места, к которым мы даже приблизиться не могли, – он был внутри лагеря северовьетнамской армии, слышишь меня, внутри, и тихонько перебил полдивизиона.
В тот момент я вспомнил майоровы слова: «Я не презираю лишь тех, кто уже мертв или должен умереть». Наверное, я что-то не расслышал.
– Ему удалось обмануть бдительных рхадэ. Он жил с ними, – продолжал рассказывать Рэнсом. В голосе его слышался ужас. – Он даже женился там. По их обрядам. Его жена ходила с ним на задания. Я слышал, она была красавица.
Тогда я вспомнил, при каких обстоятельствах слышал о Франклине Бачелоре. Он был капитаном, когда Ратман со своим взводом напоролся на него. Это было как раз после того, как рядовой по имени Бобби Свэт взорвался на рельсах в провинции Дарлак. Ратман тогда подумал, что его жена – темноволосый ангел.
А потом я вдруг понял, чей череп лежал с веревкой на шее на заднем сиденье джипа.
– Я слышал о нем, – сказал я. – Я знаю одного человека, который видел его. И его женщину тоже.
– Его жену, – поправил Рэнсом.
Я спросил, куда они везут Бачелора.
– Мы остановились в Крэндалле на ночь. Надо передохнуть. Потом заскочим в Тан Сон Нхут и отправим его назад в Штаты – в Лэнгли. Я сначала думал, нам придется его связывать, но, кажется, достаточно просто заливать в него виски.
– Он же захочет назад свой пистолет.
– Может, я и отдам ему.
Судя по всему, капитан почти знал, что майор Бачелор сделает со своим пистолетом, если его на некоторое время оставить одного.
– Его ждут тяжелые времена в Лэнгли. Там будет жарко.
– Почему Лэнгли?
– Не спрашивай. Но и наивным тоже не будь. Как думаешь, они… – Он не окончил предложение. – Как думаешь, почему нам в первую очередь пришлось вытаскивать оттуда его?
– Потому что что-то пошло не так.
– О да, все пошло не так. Бачелор полностью вышел из-под контроля. Он начал вести свою собственную войну. Делал много того, что не входило в задание. Он был в курсе вещей, которые, как бы это сказать… должны быть под строгим контролем.
Рэнсом почти перестал обращать на меня внимание.