Орландо бесплатное чтение
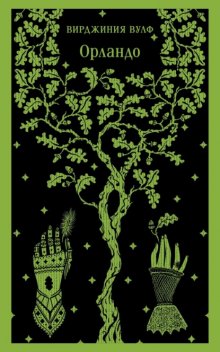
© Целовальникова Д., перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Вступительное слово
Эту книгу мне помогли написать многие мои друзья. Некоторые мертвы и настолько блистательны, что я едва осмеливаюсь назвать их имена, и все же невозможно читать и писать, не будучи в неоплатном долгу перед Дефо, сэром Томасом Брауном, Стерном, сэром Вальтером Скоттом, лордом Маколеем, Эмили Бронте, Де Квинси и Уолтером Патером – их имена приходят на ум в первую очередь. Остальные живы и по этой причине, пожалуй, внушают меньший трепет, хотя по-своему не менее блистательны. Я глубоко признательна мистеру Ч. П. Сэнгеру, без чьих знаний законов о недвижимости эта книга так и не была бы написана. Очень надеюсь, что широкая и весьма своеобразная эрудиция мистера Сидни Тернера уберегла меня от досадных ошибок. Мне посчастливилось воспользоваться познаниями мистера Артура Уэйли в китайском – насколько велик его вклад, судить лишь мне. Мадам Лопокова (миссис Дж. М. Кейнс) всегда рядом, чтобы помочь мне с русским языком. Пониманием искусства живописи, насколько это возможно в моем случае, я обязана безграничной отзывчивости и воображению мистера Роджера Фрая. Надеюсь, я извлекла пользу из необыкновенно резкой и строгой критики моего племянника Джулиана Белла. Неустанные изыскания мисс М. К. Сноудон в архивах Харрогита и Челтнема были слишком трудоемкими, чтобы дать им пропасть зря. Прочие друзья помогали мне самыми разными способами, перечислить которые не представляется возможным. Я вынуждена ограничиться упоминанием мистера Ангуса Дэвидсона, миссис Картрайт, мисс Джанет Кейс, лорда Бернерса (чьи познания в музыке Елизаветинской эпохи оказались поистине бесценными), мистера Фрэнсиса Биррелла, моего брата – доктора Адриана Стивена; мистера Ф. Л. Лукаса, мистера и миссис Десмонд Маккарти, самого вдохновляющего из критиков – моего шурина мистера Клайва Белла, мистера Дж. Х. Райлендза, леди Коулфакс, мисс Нелли Боксолл, мистера Дж. М. Кейнса, мистера Хью Уолпола, мисс Вайолет Дикинсон; достопочтенного Дж. Эдварда Саквилл-Уэста, мистера и миссис Сент-Джон Хатчинсон; мистера Дункана Гранта; мистера и миссис Стивен Томлин; мистера и леди Оттолайн Моррелл, моей свекрови – миссис Сидни Вулф, мистера Осберта Ситуэлла, мадам Жак Равера, полковника Кори Белла, мисс Валери Тейлор, мистера Дж. Т. Шеппарда, мистера и миссис Т. С. Элиот, мисс Этель Сэндс, мисс Нэн Хадсон, моего племянника мистера Квентина Белла (наш давний и ценный соратник-литератор), мистера Рэймонда Мортимера; леди Джеральд Уэлсли; мистера Литтона Стрейчи, виконтессы Сесил, мисс Хоуп Мирлис, мистера Э. М. Форстера, достопочтенного Гарольда Николсона и моей сестры Ванессы Белл – увы, список рискует чересчур растянуться и уже успел стать слишком именитым. Хотя он и пробуждает во мне самые приятные воспоминания, у читателя неизбежно появятся надежды, которые сама книга лишь обманет. Поэтому в заключение я хочу поблагодарить руководство Британского музея и Государственного архива за их неизменную любезность, мою племянницу мисс Анжелику Белл за услугу, которую никто, кроме нее, не смог бы оказать, и моего мужа за терпение, с которым он неизменно помогал мне в моих исследованиях, и за глубокие исторические познания, коим эти страницы обязаны той степенью точности, которой мне удалось достичь. Наконец, хотелось бы поблагодарить, не позабудь я имя и адрес, джентльмена из Америки, который великодушно и безвозмездно исправлял ошибки в пунктуации, ботанике, энтомологии, географии и хронологии моих предыдущих работ и, надеюсь, не пожалеет своих сил и в данном случае.
Глава 1
Он – ибо никаких сомнений в половой принадлежности нашего героя быть не могло, хотя одежда той эпохи немало этому способствовала – был занят тем, что рубил голову мавра, висевшую на стропилах. По цвету и по форме голова напоминала старый футбольный мяч, не считая запавших щек и пары-другой прядей жестких, сухих, как волокно кокосового ореха, волос. Отец Орландо или, может, дед снес ее с плеч огромного язычника, выскочившего на него из залитых лунным светом дебрей Африки, и теперь она непрерывно покачивалась на сквозняке, который гулял по чердакам грандиозного особняка срубившего ее лорда.
Предки Орландо носились вскачь по лугам асфоделей, по каменистым пустошам, по полям, орошаемым чужестранными реками, и срубили с плеч множество голов, которые привезли домой и развесили на потолочных балках. Сам Орландо поклялся заняться тем же. Но поскольку ему было всего шестнадцать лет и он не мог отправиться в Африку или во Францию, юноша норовил улизнуть от матери и павлинов в саду и отправиться на чердак, где тренировал выпады и размахивал клинком, рассекая воздух. Иногда он перерубал веревку и череп падал на пол, его приходилось вешать вновь, закрепляя на высокой балке не без доли отваги, и враг торжествующе усмехался иссохшими черными губами. Череп раскачивался взад-вперед, ибо особняк был таким огромным, что ветер, казалось, застрял в нем, как в ловушке, и дует и зимой, и летом. Зеленый гобелен с изображенными на нем охотниками колыхался постоянно. Предки Орландо принадлежали к знати испокон веку – они вышли из северных туманов прямо с венцами на головах. Сквозь окно с витражом огромного фамильного герба на пол падали темные полосы и желтые пятна света. Сейчас Орландо стоял посреди желтого тела геральдического леопарда. Он положил руку на подоконник, желая распахнуть окно, и та окрасилась в красный, синий и желтый, словно крыло бабочки. Любители символов и их толкований могли бы заметить, что в тот миг, когда стройные ноги, красивое тело и статные плечи юноши окрасились в разные геральдические оттенки, лицо его освещало лишь солнце. Более искреннего и своенравного лица вы точно не встречали! Счастлива мать, которая его выносила, но еще счастливее биограф, который повествует о жизни такого человека! Матери не в чем себя упрекнуть, а биографу нет нужды привлекать романиста или поэта. Перо следует за героем от подвига к подвигу, от триумфа к триумфу, из кабинета в кабинет, пока тот не достигнет любой вершины, какой пожелает. Судя по внешности, Орландо был создан именно для подобной стези. Румяные щеки покрывал легкий персиковый пушок, вокруг рта он рос чуть гуще. Миниатюрные губы с чуть приподнятыми уголками обнажали зубы изысканно белые, словно очищенный миндаль. Нос прямой, как стрела, и столь же решительный, волосы – темные, уши – маленькие, плотно прижатые к голове. К сожалению, ни один перечень черт юношеской красоты не обходится без описания лба и глаз. Увы и ах, люди редко рождаются с неполным комплектом, ибо, взглянув на стоящего у окна Орландо, мы тут же признаем, что его глаза – как фиалки в росе, огромные и подернутые влагой, из-за чего кажутся еще больше и шире, лоб – мраморный купол, зажатый между гладких полусфер висков. Так взглянем же на глаза и лоб, кои воспеваем! И тут мы вынуждены констатировать тысячу неприятных моментов, опускать которые – долг любого хорошего биографа. Взору нашего героя открылись образы тревожные, вроде его матери, очень красивой леди в зеленом, идущей кормить павлинов в сопровождении Твитчет, служанки, образы возвышенные – птицы и деревья, образы, навевающие любовь к смерти, – вечернее небо, грачи устраиваются на ночь; и так, поднимаясь по винтовой лестнице прямо в мозг – кстати, весьма объемный, – все эти зрительные образы, звуки из сада, стук молотка, удары топора положили начало буйству и разгулу страстей, которых терпеть не может любой хороший биограф. Тем не менее продолжим: Орландо медленно отступил от окна, сел за стол, достал тетрадь с надписью: «Этельберт: трагедия в пяти актах» и макнул в чернильницу старое, перепачканное гусиное перо.
Вскоре он настрочил стихов по меньшей мере страниц на двадцать. Писал он, несомненно, бойко, но весьма абстрактно. Героями его пьес были Порок, Злодеяние, Страдание; короли и королевы несуществующих земель, против них велись ужасные заговоры, их переполняли благороднейшие чувства; и они не произнесли ни единого слова так, как произнес бы их автор – все дышало красноречием и любезностью, которую едва ли услышишь из уст юноши, не достигшего и семнадцати лет, к тому же на излете шестнадцатого века. В конце концов, дело застопорилось. Как и все юные поэты, Орландо описывал природу и, желая наиболее точно подобрать оттенок зеленого, бросил взгляд на реальный объект (и тем самым явил куда больше храбрости, чем многие), коим оказался лавровый куст под окном. После чего, разумеется, продолжить он не смог. В природе зеленый цвет один, в литературе – совершенно иной. По-видимому, между природой и буквами существует взаимная неприязнь: сведи их вместе, и они порвут друг друга в клочья. Оттенок зеленого, увиденный Орландо, испортил рифму и нарушил размер. Более того, у природы – свои хитрости. Стоит выглянуть в окно и посмотреть, как кружатся пчелы среди цветов, как зевает собака, как садится солнце, и подумать: «сколько еще закатов суждено мне увидеть» и так далее и тому подобное, как поэт роняет перо, хватает плащ, бежит вон из комнаты и спотыкается об расписной сундук. (Ибо Орландо слегка неуклюж.)
Он старательно избегал любых встреч. Вот на дорожке возник Стабс, садовник. Орландо укрылся за деревом, ожидая, пока тот пройдет мимо, и выскользнул через калитку в садовой стене. Обогнул конюшни, псарни, пивоварни, столярные мастерские, прачечные, помещения, где делают сальные свечи, забивают быков, куют подковы, шьют колеты – целый город, кишащий людьми, занятыми всевозможными ремеслами, – и выбрался незамеченным на поросшую папоротником тропинку через парк, которая вела в гору. Вероятно, черты характера как-то между собой связаны – одна тянет за собой другую, и биографу следует привлечь внимание читателя к тому, что неуклюжесть часто сочетается с любовью к уединению. Споткнувшись о сундук, Орландо, конечно же, полюбил безлюдные места, бескрайние просторы, чувство одиночества и ныне, и присно, и вовеки веков.
После долгого молчания он наконец выдохнул: «Совсем один», приоткрыв уста впервые в нашей истории. Юноша быстро поднялся в гору через заросли папоротников и кустов боярышника, распугав оленей и лесных птиц, к полянке, увенчанной одиноким дубом. С ее вершины можно было увидеть девятнадцать графств, а в ясные дни, если погода стояла очень хорошая, – тридцать или даже сорок. Иногда вдали, где волна догоняла волну, проглядывал Ла-Манш. И реки с прогулочными лодками, и уходящие в море галеоны, и армады в клубах дыма от грохочущей канонады, и форты на побережье, и замки посреди лугов, и сторожевые башни, и крепости, и огромные особняки вроде дворца, принадлежавшего отцу Орландо, возвышались в долинах, словно окруженные стенами города. На востоке виднелись лондонские шпили и городской дым, а на самой линии горизонта, если ветер дул с нужной стороны, среди облаков проступали скалистая вершина и зубчатые края горы Сноудон. На мгновение Орландо застыл, вглядываясь, подсчитывая, узнавая. Вот дом отца, вот дядин. Вон те три огромные башни среди деревьев принадлежат тетке, а ему с отцом – вересковая пустошь и лес с фазанами и оленями, лисами, барсуками и бабочками.
Юноша глубоко вздохнул и бросился наземь – в движениях его сквозил столь неподдельный пыл, что выбор слова вполне оправдан – у подножия дуба. Несмотря на скоротечность лета, Орландо любил прильнуть к земному хребту, за который сейчас принял твердый корень дерева, или – образы сменялись один за другим – к спине могучей лошади, к качающейся палубе корабля – да к чему угодно, лишь бы поверхность была твердой, ибо ощущал потребность привязать к чему-нибудь свое мятущееся сердце – сердце, которое не давало ему покоя, сердце, которое каждый вечер переполняли пряные любовные порывы, стоило выйти на прогулку. И Орландо привязывал сердце к дубу, лежа под трепещущей сенью, и постепенно успокаивался; листочки обвисали, олени застывали на месте, бледные летние облака замирали, руки и ноги наливались тяжестью, и он лежал столь неподвижно, что к нему подходили олени, над ним кружились грачи, ласточки ныряли и нарезали круги, мимо проносились стрекозы – все это изобилие и любовные игрища летнего вечера оплетали тело Орландо, словно паутина.
Примерно через час – солнце стремительно клонилось к закату, белые облака стали багровыми, горы сиреневыми, леса фиолетовыми, долины почернели – прозвучал трубный глас. Орландо вскочил. Пронзительный звук доносился из долины, исходя из темного пятна внизу – массивного и напоминающего очертаниями лабиринт или город, обнесенный стенами; исходя из самого сердца его собственного огромного дома, прежде темного – пока Орландо смотрел, к трубе присоединились более шумные звуки, темноту пронзили огни. Одни судорожно мелькали, словно по коридорам забегали слуги, выполняя приказы, другие горели высоко и ярко, словно в пустых банкетных залах вспыхнули люстры, готовясь к приему гостей, которые пока не явились; третьи реяли и дрожали, опускались и поднимались, как в руках лакеев, что кланяются и приседают, стоя на страже, встречают и препровождают в дом со всеми почестями великую госпожу, сошедшую с колесницы. Кареты разворачивались и катили по двору. Лошади в плюмажах мотали головами. Прибыла королева.
Мешкать Орландо не стал и ринулся вниз в долину. Забежав через садовую калитку, он взлетел по винтовой лестнице, ворвался в свою комнату, швырнул чулки в одну сторону, колет в другую. Ополоснул лицо и руки, подстриг ногти. Глядя на себя в зеркальце не больше шести дюймов при свете пары огарков, он напялил алые бриджи, кружевной воротник, камзол из тафты и туфли с огромными, как цветок георгина, бантами, потратив менее десяти минут. Вот теперь готов! Лицо его пылало, сердце радостно билось, но опаздывал он ужасно!
Выбирая кратчайший путь, юноша торопливо зашагал по бесчисленным анфиладам комнат и лестниц в банкетный зал, находившийся в пяти акрах на другой стороне дома, однако на полдороге, в задних помещениях, где жила прислуга, внезапно остановился. Гостиная миссис Стьюкли стояла нараспашку – несомненно, сама она ушла по зову хозяйки, прихватив все свои ключи. И там, за обеденным столом, с пивной кружкой и стопкой бумаги сидел довольно тучный, потрепанный жизнью человек в несвежем плоеном воротнике и одежде из темного домотканого полотна. В руке он держал перо, но не писал. Похоже, обдумывал какую-то идею так и эдак, мысленно гонял туда-сюда, пока та не обретет нужную форму или накал. Глаза, круглые и мутные, словно зеленый камень причудливой фактуры, смотрели неподвижно. Орландо он не заметил. Невзирая на спешку, юноша застыл как вкопанный. Не поэт ли? Не пишет ли стихов? «Скажите, – хотелось ему спросить, – есть ли в целом свете?..» – ибо у юноши были весьма дикие, нелепые, причудливые представления о поэтах и стихах – но как разговаривать с тем, кто тебя в упор не видит? С тем, кто сейчас зрит великанов-людоедов, сатиров или морские глубины? Незнакомец повертел в руках перо, глядя в никуда и размышляя, стремительно начеркал полдюжины строк и поднял взгляд. Оробев, Орландо бросился прочь и влетел в банкетный зал как раз вовремя, чтобы преклонить колена и, смущенно опустив голову, протянуть великой королеве чашу с розовой водой.
Он так смутился, что видел лишь руку с перстнями, опущенную в воду, но и этого ему хватило. И что это была за рука! Тонкая, с длинными скрюченными пальцами, словно сжимает державу или скипетр; нервическая, гневливая, недужная; и в то же время рука властная, которой довольно подняться – и чья-то голова упадет с плеч; рука, догадался он, соединенная со старым телом, что пахнет словно пропитанный камфарой шкаф, где хранятся меха; телом, украшенным всевозможными драгоценными камнями и парчой, что держится очень прямо, несмотря на радикулитные боли, и ни разу не дрогнет, хотя и сковано тысячей страхов, а глаза у королевы – светло-желтые. Все это он постиг, когда массивные перстни блеснули в воде, и вдруг почувствовал прикосновение к волосам – что, вероятно, объясняет, почему Орландо не увидел ничего более полезного для пера историка. По правде говоря, разум юноши пребывал в полном сумбуре – ночь и горящие свечи, потасканный поэт и великая королева, притихшие поля и галдеж слуг – он не видел ничего, разве только руку.
Судя по всему, сама королева видела лишь склоненную голову. Однако, если по руке можно сделать выводы о теле, наделенном всеми атрибутами великой государыни, о ее гневливости и мужестве, немощи и страхах, столь же выразительна и голова, на которую взирает с трона леди, чьи глаза всегда, если верить восковой скульптуре в Вестминстерском аббатстве, всегда широко распахнуты. Темноволосая головка с длинными кудрями склоняется перед нею столь почтительно, столь невинно, что невольно подразумевает наличие самых красивых на всем дворе аристократических ножек, фиалковые глаза, золотое сердце, преданность и мужское обаяние – все качества, что женщина в старости ценит тем больше, чем меньше они ей доступны. Ибо она постарела, поблекла и согнулась не по годам. В ушах ее вечно гремела канонада. Перед глазами вечно маячили капля яда и длинный стилет. Сидя за столом, она в страхе прислушивалась: то ли выстрелы за Ла-Маншем, то ли заговор, то ли просто шепот. Тем дороже казались ей на этом темном фоне невинность и простота. Согласно преданию, в ту самую ночь, пока Орландо крепко спал, королева передала в дар его отцу, по всей форме приложив руку и печать к пергаменту, сию огромную обитель, некогда принадлежавшую архиепископу, а затем королю.
Орландо проспал в неведении всю ночь. Королева его поцеловала, а он и не знал. Вероятно, именно благодаря его неведению – женские сердца весьма прихотливы – и тому, как он вздрогнул, когда она коснулась его губами, юный кузен (ибо они состояли в родстве) запал ей в душу. В любом случае не прошло и пары лет тихой сельской жизни, и Орландо написал не более двадцати трагедий, дюжины историй и десятка сонетов, как ему было велено явиться к королеве в Уайтхолл.
– А вот и мой невинный мальчик! – объявила она, наблюдая, как Орландо шагает по длинной галерее. (В нем всегда была безмятежность, которая воспринималась как невинность, даже после утраты последней.)
– Иди же! – велела она.
Королева сидела у камина безупречно прямо, будто кол проглотив. Поманила Орландо к себе, осмотрела с головы до ног. Сравнивала ли королева впечатления той ночи с истинным обликом юноши? Оправдалась ли ее догадка? Глаза, рот, нос, грудь, руки – она пробежалась по ним взглядом, и губы ее заметно дрогнули; увидев же ноги Орландо, рассмеялась в голос. Снаружи – благородный дворянин, а что внутри? Желтые, как у ястреба, глаза сверкнули, пронзая душу насквозь. Юноша выдержал взгляд, хотя и зарделся, словно дамасская роза, что очень ему шло. Сила, грация, романтичность, безрассудство, поэзия, юность – она его читала, словно открытую книгу. Решительно стянув с распухшего сустава перстень, надела на палец юноши и нарекла своим казначеем и сенешалем, повесила на шею должностную цепь, велела преклонить колено и самолично затянула на самом узком месте украшенный драгоценными камнями Орден Подвязки. С тех пор Орландо не знал отказа ни в чем. Во время торжественных выездов он скакал верхом возле дверцы кареты. Елизавета послала его к несчастной королеве Шотландии с печальным известием. Орландо собирался отплыть на польскую войну, но не вышло. Могла ли она смириться с тем, что нежную плоть юноши искромсают, и кудрявая головка будет валяться в пыли? Королева оставила его при себе. С высоты своего триумфа, когда в Тауэре палили пушки и воздух настолько пропитался порохом, что тянуло чихать, а под окнами раздавались ликующие крики толпы, она привлекла его к себе, на подушки, куда ее уложили фрейлины (королева стала совсем стара и слаба), и заставила зарыться лицом в умопомрачительное амбре – платье она не меняла по месяцу – пахну#вшее точно так же, подумал Орландо, вспоминая свои отроческие впечатления, как старый шкаф, где хранились материны меха. Он поднялся, едва не задохнувшись в объятиях.
– Вот она, – выдохнула королева, и щеки ее окрасились багрянцем от взмывшей в небо шутихи, – моя победа!
Старуха его любила. С первого взгляда распознав в нем мужчину, хотя, как судачили, и не вполне обычным образом, она задумала для него блестящую, грандиозную будущность. Королева дарила ему земли, отписывала дома. Орландо должен был стать ей сыном, надежей и опорой в старческой немощи. Она хрипела свои обещания и слова странной, деспотической привязанности (тогда они были в Ричмонде), сидя очень прямо в жестком парчовом платье у огня, который ее не согревал, сколько бы дров ни положили в камин.
Тем временем наступили долгие зимние месяцы. Деревья в парке усыпал иней, река едва струилась. Однажды, когда землю укрыл снег и тени заполонили обитые панелями комнаты, а по парку разбрелись олени, она увидела в зеркале, которое вечно держала при себе, опасаясь шпионов, в дверях, которые вечно держала открытыми, опасаясь убийц, как юноша – неужели Орландо? – целует девушку – что за наглая потаскушка, черт бы ее побрал?! Схватив клинок с золоченой рукоятью, королева яростно ударила по зеркалу. Стекло разбилось, забегали слуги, ее подняли и вновь усадили в кресло, но она так и не оправилась от потрясения и до конца своих дней вздыхала о мужском вероломстве.
Пожалуй, Орландо действительно провинился, но разве мы вправе его судить? Если на то пошло, в Елизаветинскую эпоху и мораль была иной, и поэты, и климат, и даже овощи. Все было иным. И погода – летняя жара и зимняя стужа, надо полагать, отличались совершенно иным нравом. Дивный, страстный день разнился с ночью столь же явно, как суша с морем. Закаты пылали ярче и насыщеннее, рассветы румянились нежнее и чище. Нашего тусклого полумрака и затяжных сумерек тогда и не ведали. Дождь лил как из ведра или не шел вовсе. Солнце сияло ярко или царила полная тьма. По привычке переводя все в сферу духа, поэты красиво пели о том, как розы увядают, роняя лепестки. Жизнь коротка, твердили они, жизнь – только миг, потом для всех наступает долгая ночь. Что же касается ухищрений вроде теплицы или оранжереи, чтобы продлить пору цветения или сохранить свежими гвоздики и розы, то это был не их метод. Пожухшие премудрости и экивоки нашего неспешного и полного сомнений века им были неведомы. Разгул страстей – наше все! Цветок расцветает и вянет. Солнце встает и садится. Любовь вспыхивает и гаснет. И то, о чем поэты говорили стихами, молодость претворяла в жизнь. Девушки – розы, чей век столь же недолог. Спеши сорвать их до заката, раз день мимолетен, ибо день – наше все. Таким образом, если Орландо и последовал велению климата, поэтов, эпохи, сорвал цветок прямо с подоконника, презрев снег за окном и бдительную королеву в коридоре, едва ли нам его судить. Он был юн, неопытен, поддался зову естества. Что же касается девушки, то нам известно о ней не больше, чем королеве Елизавете. Звали ее то ли Дорис, то ли Хлорис, Делия или Диана – Орландо подбирал пассий так, чтобы их имена рифмовались; в равной степени она могла быть придворной дамой или служанкой. Ибо вкусы Орландо весьма варьировались – он любил не только садовые цветы, дикие и даже сорные травы восхищали его ничуть не меньше.
В данном случае мы на правах биографа грубо срываем покров, обнажая любопытную черту характера Орландо, которую, вероятно, можно объяснить тем, что одна из его бабок облачалась в фартук и таскала подойник. Крупицы кентской или сассекской земли смешались с водянистой благородной жидкостью, проистекающей из Нормандии. Сам он полагал, что сочетание бурой земли и голубой крови получилось весьма удачным. Несомненно, его всегда тянуло в низкое общество – особенно людей образованных, чей ум не дает им добиться успеха, – словно их связывали кровные узы. В пору жизни, когда в голове Орландо теснились рифмы и он не ложился спать, не сложив парочку пышных виршей, румяная мордашка дочери трактирщика казалась ему свежее, а остроумие племянницы егеря – гораздо искрометней, чем у придворных дам. Поэтому он стал часто наведываться по ночам на старую лестницу в Уоппинге, в доки, и в пивные сады, завернувшись в серый плащ, чтобы скрыть звезду на груди и подвязку на колене. Сидя с кружкой в незамысловатой обстановке среди посыпанных песком дорожек и площадок для боулинга, он увлеченно внимал рассказам моряков про лишения, ужасы и жестокость нравов испанского доминиона, где иные из них потеряли пальцы на ногах или носы – ибо устные рассказы лишены той гладкости и прикрас, что появляются в записанных историях. Особенно ему нравилось слушать, как они горланили песни об Азорских островах, а вывезенные с тех мест длиннохвостые попугаи поклевывали кольца в ушах моряков, стучали твердыми жадными клювами по рубинам в перстнях и сквернословили почище своих хозяев. Женщины едва ли уступали птицам дерзостью речей и свободой манер. Они усаживались юноше на колени, обнимали за шею и, догадываясь, что под плащом он скрывает нечто незаурядное, стремились перейти к сути дела не менее рьяно, чем сам Орландо.
Благо возможностей хватало с избытком. По реке сновали баржи, барки и плавучие посудины всех мастей. Каждый день в море отплывал прекрасный корабль, направлявшийся в Индию, другой же, почерневший и потрепанный, с заросшими шерстью чужаками на борту, горестно причаливал. Никто не бросался на поиски юноши или девушки, если они бродили у воды после заката, не поднимал бровь, если молва доносила, что они безмятежно спят в объятиях друг друга среди мешков с сокровищами. Вот какое приключение выпало однажды на долю Орландо, Сьюки и графа Камберленда. День выдался жаркий, любовь – бурной, и парочка уснула среди рубинов. Позже в ту ночь граф, чьи богатства во многом зависели от испанских авантюр, пришел осмотреть добычу. Он посветил себе фонарем и отпрянул, выругавшись. Вокруг бочонка обвились два спящих призрака. По натуре суеверный и отягчивший свою совесть многими грехами граф принял парочку – они укрылись красным плащом, грудь Сьюки белела не хуже вечных снегов в стихах Орландо – за привидения матросов, восставших из морских могил ему в укор. Граф осенил себя крестом, взмолился о прощении. Целый ряд богаделен, выстроенных на Шин-роуд, – видимые плоды охватившей его в тот момент паники. Дюжина бедных приходских старушек целыми днями распивают чаи, а по ночам возносят хвалы его светлости за крышу над головой, так что запретная любовь подобна кораблю с сокровищами – однако мораль мы опустим.
Впрочем, вскоре Орландо устал не только от неприютности подобного образа жизни и угрюмых улочек возле доков, но и от грубых манер их обитателей. Следует помнить, что преступность и нищета не имели для елизаветинцев той привлекательности, что находим в них мы. В отличие от нас они вовсе не стыдились учености, не верили, что родиться сыном мясника и не уметь читать есть благо, не тешили себя иллюзиями о том, что «жизнь» и «реальность» тождественны невежеству и жестокости, как, впрочем, и любым их аналогам. Орландо вращался среди них не в погоне за «жизнью» и покинул их не в поисках «реальности». Услышав в сотый раз о том, как Джейкс лишился носа, а Сьюки – девичьей чести – следует признать, рассказывали они об этом бесподобно – он несколько подустал, ведь нос можно отрезать лишь одним способом, а потерять невинность – другим (или так ему казалось), в то время как искусство и наука настолько разнообразны, что будоражили его любопытство чрезвычайно. Посему, навсегда сохранив счастливые воспоминания, он покинул пивные сады и кегельбаны, повесил серый плащ в шкаф, перестал скрывать звезду на шее и подвязку на колене и вновь явился ко двору короля Якова. Орландо был молод, богат, хорош собой. Разумеется, его встретили с распростертыми объятиями.
Безусловно, многие леди желали одарить его благосклонностью. По крайней мере трех дам ему прочили в супруги – Хлоринду, Фавиллу, Эвфросину – так он называл их в своих сонетах.
Попробуем разобраться. Первая, Хлоринда, отличалась миловидностью, обладала хорошими манерами – Орландо весьма увлекся ею на шесть с половиной месяцев, но у нее были белесые ресницы, и она не выносила вида крови. Жареный заяц, поданный к столу ее отца, мог вызвать у бедняжки обморок. К тому же она слишком увлеченно внимала пастырям церкви и скупилась на нижнее белье, чтобы подавать милостыню. Вдобавок взяла на себя труд перевоспитать Орландо, погрязшего в грехах, вызвав в нем такое отвращение, что юноша отказался от брака и не особо сожалел, когда вскоре она умерла от оспы.
Следующая, Фавилла, была совсем иного склада. Дочь бедного дворянина из Сомерсетшира отличалась завидным усердием и умела строить глазки, благодаря чему добилась успеха при дворе, где искусная наездница, к тому же обладавшая грацией и изящным подъемом стопы, вызывала всеобщее восхищение. Впрочем, однажды она сгоряча отхлестала плеткой спаниеля, порвавшего ей шелковый чулок (в защиту Фавиллы следует упомянуть, что чулки были у нее наперечет, да и те по большей части из грубой шерстяной материи), чуть ли не до смерти прямо под окном Орландо. И тогда наш страстный любитель животных заметил, что зубы у нее кривые, два передних резца повернуты внутрь, что в женщине, заявил он, служит явным признаком порочного и жестокого нрава, посему и разорвал помолвку в тот же вечер.
Третья, Эвфросина, безусловно стала самым страстным его увлечением. Происходя из рода ирландских Десмондов, она обладала генеалогическим древом не менее достославным и глубоко укорененным, чем у Орландо. Цветущая, слегка флегматичная блондинка хорошо говорила по-итальянски и имела идеально ровные верхние зубы, хотя нижние были и не столь белы. Вечно с уиппетом или спаниелем на коленях, кормила песиков белым хлебом со своей тарелки, сладко пела под аккомпанемент верджинела и не одевалась ранее полудня, поскольку чрезвычайно заботилась о своей персоне. В общем, идеальная жена для аристократа вроде Орландо, и дело зашло так далеко, что поверенные с обеих сторон занялись обсуждением обязательств, вдовьей части, приданого, недвижимого имущества, аренды и всего прочего, что необходимо для слияния двух огромных состояний, когда со всей неизбежностью и неожиданностью, столь типичной для английского климата, грянул Великий мороз.
По утверждению историков, Великий мороз был самым суровым из всех, что обрушивались на наши острова. Птицы замерзали в воздухе и камнем падали на землю. В Норвиче юная селянка в полном здравии пустилась через улицу, дошла до угла и вдруг под порывом ледяного ветра прямо на глазах изумленных очевидцев обратилась в облако инея, развеявшееся над крышами. Падеж среди овец, коров и быков достиг небывалых масштабов. Трупы вмерзали в землю так, что не оторвешь. Стада свиней, вповалку застывших на дороге, стали привычным зрелищем. В полях повсюду виднелись пастухи, пахари, упряжки лошадей и мальчишки, пугавшие птиц, которых лютая стужа застигла врасплох – один чесал нос, другой поднес бутылку к губам, третий размахнулся, чтобы бросить камень в ворону, сидевшую на изгороди, словно чучело всего в ярде от него. Мороз был настолько суровый, что порой жертвы обращались в камень, и многие полагали, что необычайное изобилие валунов в Дербишире связано вовсе не с вулканической деятельностью, каковой там отродясь не наблюдали, а с затвердеванием несчастных путников, которые обратились в камни там же, где стояли. Церковь мало чем могла помочь, и, хотя иные землевладельцы чтили сии останки, большинство предпочитали использовать их в качестве межевых знаков, чесалок для овец или, если форма камня позволяла, поилок для скота, коим целям те и служат, причем весьма успешно, и по сей день.
Пока сельские жители страдали от крайней нужды и торговля в стране замерла, Лондон предавался самым блистательным увеселениям. Двор находился в Гринвиче, и новый король воспользовался возможностью снискать расположение подданных, которую давала коронация. Он распорядился, чтобы реку, промерзшую на глубину двадцати футов и более, расчистили на семь миль вверх и вниз по течению, подмели, украсили и превратили в подобие парка развлечений с беседками, лабиринтами, кегельбанами, питейными павильонами и прочим за счет короны. Себе и придворным он выделил отдельное место напротив дворцовых ворот, отгороженное лишь шелковой веревкой, где тут же собралось самое изысканное английское общество. Под багровым балдахином Королевской пагоды великие мужи с бородами и в рюшах вершили государственные дела. В полосатых шатрах, увенчанных плюмажами из страусовых перьев, военные готовились к завоеванию мавров и победе над турками. Взад-вперед по узким дорожкам сновали адмиралы с бокалами в руках, оглядывая горизонт и рассказывая истории про Северо-западный проход и испанскую Армаду. На диванах, устланных соболями, миловались влюбленные. Стоило королеве с фрейлинами выйти на прогулку, как замерзшие розы сыпались дождем. В небе неподвижно парили цветные воздушные шары. Повсюду пылали огромные костры из кедровых и дубовых дров, щедро посыпанных солью, благодаря чему пламя горело зеленым, оранжевым и лиловым. Но как бы яростно они ни пылали, тепло не могло растопить лед, который при необычайной прозрачности сделался твердым, как сталь. И таким он был прозрачным, что на глубине нескольких футов отчетливо виднелась то морская свинья, то камбала. Стайки угрей застыли неподвижно, и иные мыслители ломали голову над тем, погибли те или же просто впали в оцепенение и с приходом тепла вновь оживут. Возле Лондонского моста, где река промерзла на глубину двадцати морских саженей, еще с прошлой осени лежала на дне разбитая барка, груженная яблоками. Старая торговка в пледе и в юбке с фижмами, с яблоками в подоле, перевозившая фрукты на суррейскую сторону, сидела как живая, словно приготовилась обслужить покупателя, хотя ее и выдавала легкая синева губ. Королю Якову это зрелище доставляло особое удовольствие, и он часто водил толпу придворных поглазеть на старуху. Короче говоря, днем с яркостью и забавностью этой сцены не могло поспорить ничто, зато ночью всем правил карнавал. Ибо мороз не ослабевал, ночи стояли ясные, луна и звезды сверкали алмазами, и придворные танцевали под дивную музыку флейт и труб.
Правда, в силу своей неуклюжести и рассеянности Орландо не умел играючи отплясывать куранту и вольту. Ему больше нравились знакомые с детства танцы родного края, нежели эти иностранные выкрутасы. Часов в шесть вечера седьмого января, едва он свел ноги вместе, окончив то ли кадриль, то ли менуэт, как вдруг из павильона посла Московии выскользнула фигурка (сложно сказать, увидел он юношу или девушку, поскольку русская мода на свободные туники и шаровары отлично маскировала пол), которая возбудила в нем крайнее любопытство. Человек, вне зависимости от пола или звания, был среднего роста, изящно сложен и одет в устричного цвета бархат, отороченный зеленоватым мехом неведомого зверя. Но все эти мелочи затмила незаурядная притягательность, исходившая от хрупкой фигурки. В сознании Орландо крутились самые вычурные и несуразные образы, метафоры. Он нарек ее дыней, ананасом, оливой, изумрудом и лисицей в снегах – и все в течение трех секунд; он не понимал, то ли слышит ее, то ли осязает на вкус, то ли видит, то ли все сразу. (Хотя повествование нельзя останавливать ни на миг, мы отметим, что на сей раз образы, пришедшие на ум герою, чрезвычайно просты, вполне соответствуют его чувствам и по большей части состоят из того, что нравилось ему на вкус в детстве. Однако при всей простоте чувства его необычайно сильны, посему не может быть и речи о том, чтобы прерываться и искать объяснения происходящему.) … Дыня, изумруд, лисица в снегу, – бессвязно бормотал Орландо, вперив взор. Когда юноша – увы, все-таки юноша, ведь ни одна женщина не способна скользить по льду на коньках с такой скоростью, с таким задором – пронесся мимо, Орландо едва не кинулся рвать на себе волосы от досады, что незнакомец одного с ним пола, и, значит, всякие нежности совершенно исключены. Но тут конькобежец подъехал ближе. Ноги, руки, манера держаться – как у юноши, однако ни у одного юноши нет таких губ, ни у одного юноши нет такой груди, ни у одного юноши нет таких глаз, словно выуженных со дна моря! Наконец конькобежец остановился совсем близко и присел в грациознейшем реверансе перед королем, который прошаркал мимо под руку с каким-то придворным лордом. Женщина! Орландо посмотрел на нее в упор и дрогнул, его бросило в жар, потом в холод, ему захотелось нестись навстречу летнему ветерку, топтать желуди, обнимать стволы берез и дубов. В сложившихся обстоятельствах оставалось лишь ощерить мелкие белоснежные зубы, приоткрыть губы, словно желая укусить, и клацнуть, словно это ему удалось. На его руке висела леди Эвфросина.
Он выяснил, что незнакомку зовут княжна Маруся Станиловска Дагмар Наташа Илиана Романович, и она прибыла со свитой посла Московии, приходившегося ей то ли дядей, то ли отцом, чтобы посетить коронацию. Про московитов знали немногое. Они носили огромные бороды и меховые шапки, вечно помалкивали и распивали черный напиток, то и дело сплевывая на лед. По-английски не говорили, а если и владели французским, то при дворе Якова его почти никто не понимал.
Так, собственно, Орландо и познакомился с княжной. Они сидели друг напротив друга за длиннющим столом, накрытым под огромным навесом для знати. Княжну усадили между двумя юными аристократами, в сущности, славными малыми, но французским лорд Фрэнсис Вир и граф Морэй владели не лучше новорожденных младенцев. Наблюдать за их мучениями было даже забавно. В начале обеда княжна повернулась к графу и промолвила с изяществом, покорившим его сердце: «Je crois avoir fait la connaissance d’un gentilhomme qui vous était apparenté en Pologne l’été dernier»[1] или «La beauté des dames de la cour d’Angleterre me met dans le ravissement. On ne peut voir une dame plus gracieuse que voire reine, ni une coiffure plus belle que la sienne»[2], и юные лорды пришли в полное смятение. Первый щедро положил ей соуса из хрена, второй свистнул своего пса и заставил служить за мозговую косточку. Княжна не смогла сдержать смех, и Орландо, поймавший ее взгляд поверх кабаньих голов и чучел павлинов, тоже расхохотался. Он смеялся, но смех стыл у него на губах. Кого же я любил, вопрошал он себя в полном смятении чувств, до сего времени? Старуху – кожа да кости. Разрумяненных шлюх не стоит и перечислять. Унылую монашку. Прожженную, бессердечную авантюристку. Сонную груду кружев и светских манер. Раньше любовь была для него пустым звуком – ему доставались лишь опилки да огарки. Радости любви в лучшем случае казались ему пресными. Поразительно, как Орландо умудрялся сдерживать зевоту, их вкушая. По мере того как он смотрел, кровь в его жилах оттаяла и заструилась быстрее, лед превратился в вино – он услышал пение птиц и журчание рек, в суровый зимний пейзаж ворвалась весна, в нем пробудился мужчина, сжал в руке меч, бросился на врага гораздо более лихого, чем поляк или мавр, нырнул в самую бездну, увидел растущий на краю цветок, протянул руку – он твердил про себя один из самых пылких своих сонетов, как вдруг к нему обратилась княжна:
– Сделайте милость, передайте соль.
Он густо покраснел.
– С превеликим удовольствием, сударыня, – ответил Орландо на превосходном французском. Слава небесам, этим языком он владел как родным, научившись у горничной своей матери. Впрочем, лучше бы он не знал его вовсе, не отвечал незнакомке, не подчинился блеску этих глаз…
Княжна продолжила разговор. Что за деревенщины с манерами конюхов сидят с ней рядом, поинтересовалась она. Что за гадость ей навалили в тарелку? Неужели в Англии собаки едят с людьми за одним столом? Неужели потешное чучело с всклокоченными волосами (comme une grande perche mal fagotée)[3] во главе стола – сама королева? А король всегда так чавкает? А кто из этих разряженных фатов Джордж Вильерс? Поначалу вопросы смутили Орландо, но княжна задавала их так остроумно и забавно, что он невольно расхохотался; к тому же, судя по отсутствующим взглядам сидящих за столом придворных, никто не понял ни слова, поэтому юноша отвечал столь же непринужденно, как она спрашивала, и на столь же прекрасном французском.
Так между ними завязалась близость, впоследствии ставшая предметом придворного скандала.
Вскоре все заметили, что Орландо уделяет москвитянке гораздо больше внимания, чем того требовала простая вежливость. Он редко отходил от нее далеко, и их беседа, хотя и непонятная для остальных, велась с таким оживлением, частенько вгоняла обоих в краску и перемежалась таким задорным смехом, что даже самые недогадливые смекнули, что к чему. Более того, Орландо совершенно преобразился. Он буквально ожил. За одну ночь стряхнул с себя отроческую неуклюжесть, из угрюмого юнца, который не мог войти в дамский будуар, не сметя с туалетного столика половину украшений, превратился в вельможу, преисполненного грации и мужественной учтивости. Как он подсаживал москвитянку (так ее прозвали при дворе) в сани, как приглашал ее на танец, как подхватывал оброненный ею платочек или бросался исполнять любую из многочисленных обязанностей, коих прекрасная дама взыскует, а возлюбленный спешит исполнить, – от такого зрелища вспыхивали потускневшие взоры стариков, бились учащенно юные сердца. Увы, над влюбленными нависла туча. Старики пожимали плечами, юнцы втихомолку посмеивались: все знали, что Орландо обручен с другой. Леди Маргарет О’Брайен О’Дэйр О’Рэйли Тайрконнел (ибо таково было настоящее имя Эвфросины его сонетов) на указательном пальце левой руки носила великолепный сапфир своего жениха, посему именно ей принадлежало исключительное право на внимание Орландо. И все же, сколько она ни роняла платочков (которых у нее были дюжины) на лед, Орландо и не думал их поднимать. Она могла прождать у саней добрых двадцать минут, и в итоге ей приходилось довольствоваться помощью своего арапа. Когда она выходила на лед (на коньках бедняжка каталась весьма посредственно), никто не спешил подхватить ее под локоток, а если она падала, что случалось довольно часто, никто не помогал ей подняться и не отряхивал снег с юбок. Хотя по своей природе она была флегматична, не имела склонности обижаться по пустякам и, в отличие от большинства, не верила, что какая-то иностранка способна лишить ее привязанности Орландо, в конце концов даже леди Маргарет начала подозревать, что возникла угроза ее душевному спокойствию.
Орландо скрывал свои чувства все меньше и меньше. Под тем или иным предлогом он покидал компанию, едва дождавшись окончания обеда, или норовил улизнуть от конькобежцев, когда те выстраивались для кадрили, а в следующий миг замечали и отсутствие москвитянки. Однако больше всего раздражало и уязвляло самолюбие придворных, то есть било по их самому чувствительному месту, когда парочка проскальзывала под шелковой веревкой, отделявшей королевский двор от простой публики, и исчезала в толпе простолюдинов. Внезапно княжна топала ножкой и требовала: «Забери меня отсюда! Терпеть не могу твою английскую шваль!», имея в виду английский двор. Долго она его не выдерживала. Сплошь назойливые старухи, говорила княжна, которые пучат глаза, да нахальные юнцы, которые не дают проходу. От них смердит, их собаки вертятся под ногами. Среди них она словно в клетке! Вот в России реки шириной в десять миль, можно скакать по шесть лошадей в ряд целый день и никого не встретить! Кроме того, ей хотелось посмотреть Тауэр, стражников, отрубленные головы на воротах перед зданием Темпла, лавки городских ювелиров. Так и получилось, что Орландо повел ее в город, показал стражников и головы мятежников, купил все, что ей приглянулось в здании Королевской биржи. Но этого им было недостаточно. Обоим хотелось оставаться наедине целый день там, где нечем восхищаться и не на что глазеть. И вместо того, чтобы направиться в Лондон, они повернули в другую сторону и вскоре покинули толпу, очутившись среди замерзших берегов Темзы, куда не заглядывала ни единая живая душа, кроме чаек да старухи-селянки, колющей лед в тщетной попытке набрать ведро воды или насобирать сухих веток и палой листвы на растопку. Бедняки держались поблизости своих жилищ, те же, кто побогаче, кто мог себе это позволить, стремились за теплом и развлечениями в город.
Соответственно, Орландо с Сашей, как он называл ее для краткости и еще потому, что так звали белого песца, что был у него в детстве – лисица, мягкая, как снег, но со стальными зубами, которая укусила его столь яростно, что отец Орландо велел ее убить, – соответственно, они получили в свое распоряжение всю реку. Разгоряченные катанием на коньках и страстью, они бросались на снег в каком-нибудь укромном уголке, где желтые ивы обрамляют берег, и заворачивались в огромную меховую накидку; Орландо заключал княжну в объятия и познавал впервые в жизни, как он шептал, радости любви. Потом, когда исступленный восторг заканчивался и они лежали без чувств на льду, он рассказывал ей о своих прочих возлюбленных – по сравнению с Сашей любая из них была как бревно, как мешок, как свечной огарок. Смеясь над его пылкостью, она льнула к нему и любила его снова. И они дивились, что лед не плавится от жара, и сочувствовали бедной старухе, которая не могла растопить его подобным образом и колола лед топором из холодного железа. Завернувшись в соболя, они болтали обо всем на свете – о зрелищах и путешествиях, о маврах и язычниках, о бороде того мужчины и коже этой женщины, о крысе, что ела у Саши с руки, о домашних гобеленах, что колышутся на сквозняке, о лице, о перышке. Ни одна тема не казалась им ни слишком малой, ни слишком важной.
Внезапно Орландо впадал в тоску – то ли при виде старухи, бредущей по реке, то ли просто так – и бросался ничком на лед, всматривался в замерзшую воду и думал о смерти. Ибо прав философ, который говорит, что счастье от тоски отделяет лишь лезвие ножа, и далее высказывает мнение, что эти чувства – близнецы, и приходит к выводу, что любая крайность – суть безумие, а посему призывает нас искать спасения в лоне истинной церкви (по его мнению, анабаптистской), единственной гавани, порту, якорной стоянке для тех, кто барахтается в море страстей.
– Все кончается смертью, – мрачно заявлял Орландо. (Ибо так теперь работал его разум – в неистовых метаниях от жизни к смерти, не задерживаясь в промежутке, поэтому и биографу не следует останавливаться, а лететь со всех ног, чтобы поспевать за немыслимыми глупостями и внезапным вздором, которым, нельзя не признать, Орландо без удержу предавался в сию пору своей жизни.)
– Все кончается смертью, – говорил Орландо, усаживаясь на льду. Но Саша, у которой, в конце концов, не было ни капли английской крови, ведь она приехала из России, где закаты длиннее, рассветы менее внезапны и фразы часто остаются не законченными из-за раздумий о том, как лучше их завершить, – Саша смотрела на него с изумлением, может, даже посмеивалась, потому что он казался ей ребенком, и не отвечала. Постепенно лед начинал их холодить, что ей не нравилось, и она заставляла Орландо подняться, заговаривала с ним столь чарующе, остроумно и мудро (к сожалению, всегда на французском, который, как известно, многое теряет в переводе), что он забывал про замерзшую реку, про приближение ночи, про старуху – про все, что угодно! – и пытался рассказать ей – барахтаясь среди тысячи образов, столь же пресных, как и женщины, кои их вдохновляли, – какая она. Снег, сливки, мрамор, цветущие вишни, алебастр, золотистая сетка? Все не то! Она была, как лисица или олива, как морские волны, когда смотришь с высоты, как изумруд, как солнце на зеленом холме, еще не затянутом тучами, – во всей Англии ничего подобного он не встречал. Как Орландо ни копался в лексиконе, слов ему не хватало. Ему нужен был другой ландшафт, другой язык. Английский – слишком очевидный, слишком прямой, слишком сладкоречивый для Саши. Во всем, что она говорила, как бы откровенно и чувственно ни звучали ее речи, оставалось нечто недосказанное; во всем, что она делала, каким бы смелым оно ни выглядело, оставалось нечто потаенное. Так в изумруде таится зеленое пламя или в зеленом холме заключено солнце. Ясность, но мнимая, внутри же блуждает пламя. То приходит, то уходит – она никогда не сияла ровным светом англичанки – впрочем, тут Орландо вспомнилась леди Маргарет и ее юбки, и он обезумел от восторга, повлек Сашу по льду быстрее, еще быстрее, клянясь, что догонит пламя, нырнет за драгоценным камнем и так далее и тому подобное, и слова срывались с его губ страстными стонами поэта, истерзанного душевной мукой.
Но Саша хранила молчание. Орландо заканчивал твердить о том, что она лисица, олива или зеленая вершина холма, и рассказывал историю своего рода, и что их замок – самый старинный во всей Британии, что они происходят от римских кесарей и имеют право прогуливаться по Корсо (самая главная улица в Риме) в украшенном кисточками паланкине – привилегия, по его словам, дарованная лишь тем, в ком течет императорская кровь (ему была присуща горделивая наивность, впрочем, довольно милая), потом засыпал возлюбленную вопросами: Где ее дом? Кто ее отец? Есть ли у нее братья? Почему она здесь одна со своим дядей? И хотя Саша отвечала с готовностью, обоим становилось неловко. Сначала он подозревал, что ее положение не столь высоко, как ей бы хотелось, или она стыдится диких обычаев своего народа, ведь Орландо слышал, что женщины в Московии носят бороды, а мужчины ниже пояса сплошь покрыты шерстью, что и те, и другие мажутся салом, чтобы не мерзнуть, рвут мясо руками и ютятся в хижинах, в которых английский дворянин постыдился бы и скот держать, поэтому он старался на нее не давить. Поразмыслив, он заключил, что ее молчание вызвано другой причиной, ведь у княжны нет волос на подбородке, одевается она в бархат и жемчуга, и манеры у нее определенно светские, а не как у простолюдинки, выросшей в хлеву.
Что же она скрывала? В основе его чувств лежала громада сомнений – словно зыбучий песок под монументом, который внезапно смещается и заставляет содрогнуться всю конструкцию. Душевная мука накатывала неожиданно, и тогда Орландо впадал в такой гнев, что она не знала, как его успокоить. Возможно, Саше и не хотелось его успокаивать, возможно, подобное исступление ей льстило, и она нарочно его провоцировала – такова любопытная особенность московитского темперамента.
Но вернемся к нашей истории – в тот день они заехали дальше, чем обычно, и достигли части реки, где стояли на якорях суда, вмерзшие в лед. Среди них был и корабль посольства Московии, на главной мачте которого уныло поник стяг с черным двуглавым орлом, покрытый разноцветными сосульками длиной в несколько ярдов. Саша оставила на борту кое-что из одежды, и, предположив, что корабль пуст, они решили взобраться на палубу и поискать. Вспомнив пару эпизодов из своего прошлого, Орландо ничуть не удивился бы при виде каких-нибудь добропорядочных граждан, укрывшихся среди такелажа, что, собственно, и произошло. Не успели они подняться, как из-за канатной бухты показался матрос, занятый каким-то делом, и, очевидно, сказал по-русски, что он – член команды и готов помочь княжне найти, что ей угодно, зажег свечной огарок и исчез с ней вместе в трюме.
Время шло, и Орландо, погруженный в мечты, думал лишь о радостях жизни, о ненаглядной и несравненной княжне, о том, как сделать ее своей бесповоротно и навсегда. Следовало преодолеть определенные трудности и препятствия. Саша хотела жить в России, среди замерзших рек, диких лошадей и мужчин, что готовы перерезать друг другу глотки. Нечего и говорить, что пейзаж с заснеженными соснами и дикие обычаи мало прельщали Орландо. Кроме того, он вовсе не горел желанием отказываться от приятных сельских развлечений вроде спорта и садоводства, покидать пост при дворе, портить себе карьеру, стрелять оленей вместо кроликов, пить водку вместо мадеры и носить кинжал в рукаве – он и сам не знал, зачем. И все же ради нее он был готов пойти на многое. Что касается женитьбы на леди Маргарет, назначенной через неделю, то сама идея казалась ему настолько абсурдной, что он гнал ее прочь. Родичи невесты осудят его за то, что бросил настоящую леди, друзья станут потешаться над ним из-за того, что разрушил блестящую карьеру ради казачки и снежных равнин – по сравнению с самой Сашей это не имело ровным счетом никакого значения. В первую же темную ночь они покинут Англию и сядут на корабль до России. Так он размышлял, такие строил планы, меряя шагами палубу.
Юноша опомнился, повернув на запад, при виде солнца, висевшего на кресте собора Святого Павла, словно апельсин. Кроваво-красное светило стремительно погружалось за горизонт. Похоже, день близился к концу. Саша отсутствовала больше часа. Поддавшись зловещим предчувствиям, так часто омрачавшим даже самые твердые намерения в отношении нее, Орландо бросился в трюм тем же путем, каким прошли москвитяне; спотыкаясь во мраке об сундуки и бочонки, по слабому мерцанию в углу он понял, что они там. На секунду он увидел их – увидел Сашу на коленях у моряка, увидел, как она склонилась к нему, увидел, как они обнялись, а потом свет застила багровая пелена ярости. Он испустил такой отчаянный вопль, что эхо разнеслось по всему кораблю. Саша бросилась между ними, иначе Орландо придушил бы моряка прежде, чем тот выхватил абордажную саблю. Внезапно Орландо помертвел, и его пришлось уложить на пол и отпаивать бренди, чтобы привести в чувство. Потом он пришел в себя, его усадили на груду мешков, и Саша засуетилась, мелькая перед затуманенным взглядом Орландо робко, смущенно, словно укусившая его когда-то лисица, то убеждая, то укоряя. Он даже усомнился, не почудилось ли ему, ведь свеча гасла, неверные тени дрожали. Сундук был тяжелый, объясняла княжна, и матрос помогал его двигать. На миг Орландо поверил – да и кто бы не поверил, что в гневе ему не привиделось то, чего он страшился больше всего? – и вновь распалился из-за ее лживости. Саша побледнела, топнула ногой, заявила, что уедет сегодня же, призвала своих богов ее покарать, если она, Романович, нежилась в объятиях простого матроса. В самом деле, вместе они смотрелись настолько нелепо, что Орландо поразился порочности своего воображения, толкнувшего существо столь хрупкое в лапы лохматого морского волка. Огромного роста, шесть футов и четыре дюйма без обуви, в ушах медные кольца – вылитый тяжеловоз, на котором примостилась малиновка или крапивник. Неудивительно, что Орландо дал слабину, поверил княжне и попросил прощения. И все же, когда они спускались с корабля, вновь обретя любовь и согласие, Саша помедлила, положив руку на трап, и обрушила на смуглое, широкоскулое чудовище поток русских напутствий, шуток или даже нежностей, из которых Орландо не понял ни слова. Ее интонация (возможно, виной тому своеобразие русских согласных) напомнила Орландо эпизод, случившийся несколько ночей назад, когда он застал Сашу в углу со свечой в зубах, подобранной с пола. Правда, огарок был розовый, злаченый, с королевского стола, но все же – сальная свечка, и княжна ее грызла! Разве не чувствуется в Саше, думал он, помогая ей спуститься на лед, чего-то скверного, низменного, плебейского? И ему привиделось, что к сорока годам она расплывется, хотя сейчас стройна, как тростинка, и осоловеет, хотя сейчас весела и бодра, как птичка. Впрочем, ближе к Лондону сомнения у него в груди вновь растаяли; Орландо казалось, что огромная рыба подцепила его на крючок и тащит по воде против воли, и все же с его собственного согласия.
Вечер выдался изумительно красивым. Солнце садилось, и все купола, шпили и башни Лондона стали чернильно-черными на фоне пылающих алым закатных облаков. Вот резной крест в Чаринге, вот купол Святого Павла, вот массивный квадрат Тауэра, вот Темпл с головами мятежников на пиках, подобный роще с облетевшими деревьями и чудом уцелевшими на вершинах шишками. Окна в Вестминстерском аббатстве зажглись и горели, словно разноцветный небесный щит (в воображении Орландо), теперь весь запад казался золотистым окном с полчищами ангелов (вновь в воображении Орландо), непрерывно снующими вверх-вниз по небесным лестницам. Всю дорогу ему мерещилось, что они с Сашей скользят на коньках по бездонной воздушной глубине – таким голубым сделался лед на реке, а еще гладким, как стекло, и они мчались в город все быстрее и быстрее, над ними кружились белые чайки, разрезая воздух крылами точно так же, как люди резали лед коньками.
Саша, словно желая его успокоить, была нежнее, чем обычно, и восхитительна как никогда. О своем прошлом она говорила редко, но теперь рассказала, что зимой в России слушала вой волков в степи и трижды изобразила, как это звучит, желая позабавить Орландо. И тогда он рассказал про оленей в снегу, и как они забредали в парадный зал замка погреться, как старик-слуга кормил их кашей из ведра. И Саша принялась превозносить его любовь к животным, благородство, стройные ноги. Восхищенный похвалами и стыдясь, что вообразил ее на коленях у простого матроса, а потом оплывшей и осоловелой к сорока годам, Орландо воскликнул, что не может найти слов, дабы воздать ей должное, и тут же вспомнил, что она как весна, как зеленая травка и бурный поток, сжал ее в объятиях крепко-крепко и заложил крутой вираж, вынудив чаек и бакланов метнуться вслед за ними. Наконец Саша остановилась передохнуть и сказала, чуть задыхаясь, что он подобен рождественской елке в миллион свечей (так принято украшать в России), увешанной желтыми шарами, раскаленной добела, способной осветить целую улицу (примерно так это можно перевести), ибо с пылающими щеками, темными кудрями, в черно-алом плаще он сияет собственным пламенем, горящим внутри светочем.
Вскоре все краски, за исключением румянца на щеках Орландо, поблекли. Наступила ночь. Оранжевый свет заката сменился ослепительным сиянием факелов, костров, треножников и прочих осветительных устройств, благодаря которым река преобразилась самым причудливым образом. Сложенные из белого камня церкви и фасады дворцов знати расцветились пятнами, полосами и словно парили в воздухе. К примеру, от собора Святого Павла не осталось ничего, кроме золотого креста, аббатство выглядело как серый остов сгнившего листа. Все оскудело и претерпело метаморфозу. Приближаясь к месту празднеств, они услышали глубокий гул, похожий на звучание камертона, который нарастал, переходя в рев. Время от времени в небо взлетала шутиха, публика разражалась радостными криками. От огромной толпы медленно отделились фигурки и засновали по поверхности реки, словно мошки. Над светящимся кругом нависла кромешная тьма зимней ночи. И вдруг с промежутками, заставлявшими зевак трепетать и открывать рты, во тьму начали врываться и расцвечивать ее шутихи, полумесяцы, змеи, корона. В один миг леса и дальние холмы зеленели, как в летний день, в другой вновь наступала зима и чернота.
К тому времени Орландо с княжной приблизились к королевской площадке и обнаружили, что путь им преграждает толпа простолюдинов, напирающих на шелковый канат, насколько хватает смелости. Желая сохранить свое инкогнито и избежать любопытных взглядов, парочка задержалась среди подмастерьев, портных, торговок рыбой, лошадиных барышников, пройдох, голодных школяров, горничных в чепчиках, разносчиц апельсинов, конюхов, трезвенников, похабных кабатчиков и шайки маленьких оборванцев, как всегда снующих по краю толпы, вопя и путаясь под ногами – там собрался весь лондонский сброд, балагуря и толкаясь, перекидывался в кости, предсказывал будущее, пихался, чесался, напирал; то хохоча во все горло, то насупившись; одни с разинутыми на добрый ярд ртами, другие не более почтительны, чем галки на крыше; все одеты настолько разнообразно, насколько позволял кошелек или положение в обществе: здесь – меха и тонкое сукно, там – лохмотья и тряпичные обмотки вместо обуви. Как выяснилось, основная масса толпилась напротив помоста или скорее сцены, где разыгрывался спектакль вроде наших кукольных представлений про Панча и Джуди. Чернокожий мужчина размахивал руками и громко кричал. Женщина в белом лежала на кровати. Декорации были примитивные, актеры бегали туда-сюда, то и дело спотыкались и падали, зрители одобрительно топали ногами и свистели, а если им становилось скучно, то швырялись апельсиновыми корками, на которые кидались бродячие псы, и все же Орландо заворожила удивительная, плавная мелодика речи, звучавшая музыкой. Произносимые необычайно быстро и бойко реплики напомнили ему о моряках, поющих в уоппинговских пивных садах, и даже не вслушиваясь в смысл, он упивался ими как вином. Время от времени до него долетала отдельная фраза, словно вырванная из глубин его собственного сердца. В неистовстве мавра ему виделось собственное безумие, когда же мавр задушил женщину в постели, то в ней Орландо узнал Сашу, которую убил своими руками.
Наконец представление закончилось, и все погрузилось во тьму. По щекам Орландо текли слезы. В небесах – та же тьма. Повсюду царят хаос и смерть, – подумал он. – Жизнь человека кончается могилой. Нас сожрут черви.
- Мне кажется, грядет великое затменье
- Луны и солнца, и в страхе шар земной
- Разверзнется…[4]
Едва он произнес эти строки, как память озарила бледная звезда. Ночь темна – кромешно-темна, но именно такой ночи они и ждали, в такую ночь и хотели бежать. Орландо вспомнил все! Время пришло. Он страстно обнял Сашу и шепнул ей на ухо: «Jour de ma vie!»[5] Это был пароль. В полночь они встретятся в трактире возле моста Блэкфрайерс. Там их ждут лошади. К побегу все готово. И они расстались – каждый пошел в свой шатер. Оставался еще час.
Орландо примчался на место задолго до назначенного времени. Ночь выдалась такая темная, что прохожий подходил прежде, чем успеешь разглядеть, что только им на руку, и такая тихая, что стук копыт или детский плач разносился на добрых полмили. Сердце Орландо, мерившего шагами внутренний дворик, замирало всякий раз, стоило по булыжной мостовой проехать всаднику или зашуршать женскому платью. Но путник оказался припозднившимся купцом, женщина – местной жительницей, спешившей по делам, далеко не столь невинным. Они прошли, и на улице стало совсем тихо. Огни, горевшие на первых этажах тесных домишек городской бедноты, переместились наверх, в спальни, и померкли один за другим. Уличных фонарей в этих трущобах было всего ничего, да и те из-за небрежности ночных сторожей погасли задолго до рассвета, и темнота сделалась еще гуще. Орландо проверил фитилек своего фонаря, пощупал подпруги, зарядил пистолеты, осмотрел кобуру и проделал все это по меньшей мере дюжину раз, пока не убедился, что все в порядке. Хотя до полуночи оставалось минут двадцать, он не мог заставить себя войти в трактир, где хозяйка все еще подавала херес и дешевую мадеру морякам; те горланили песни и рассказывали истории про Дрейка, Хокинса и Гренвила, пока не попадали с лавок и не уснули прямо на посыпанном песком полу. Темнота действовала на его распаленное и неистовое сердце более благотворно. Он прислушивался к каждому шагу, строил предположения о каждом звуке. Любой пьяный крик, стон бедняги, лежащего на соломе или в канаве, ранил Орландо в самое сердце, словно не сулил для его опасной затеи ничего хорошего. И все же за Сашу он не боялся. Она отважна, подобное приключение для нее – пустяк. Княжна придет одна, одетая в плащ и штаны, обутая по-мужски. Поступь ее легка, почти неразличима даже в этой тиши.
И он ждал в темноте. Внезапно Орландо что-то ударило – мягко и все же весомо, скользнув по щеке. Он настолько застыл в напряженном ожидании, что невольно вздрогнул и схватился за клинок. На лоб и щеки посыпались удары. Сухой мороз так затянулся, что юноша не сразу сообразил: в лицо ему бьют струи дождя. Сначала капли падали медленно, не спеша, одна за другой, но вскоре шесть капель превратились в шесть дюжин, затем в шесть сотен и хлынули сплошным потоком, словно небесная твердь ринулась на землю. За каких-то пять минут Орландо вымок до нитки.
Поспешно спрятав лошадей, он укрылся в дверном проеме, откуда все еще мог наблюдать за двором. Воздух сгустился, от ливня шел такой пар и гул, что не слыхать шагов ни людей, ни животных. Дороги, изрытые колдобинами, ушли под воду и наверняка стали непроходимы. Но Орландо едва ли заботило, как это скажется на побеге. Все его чувства устремились к булыжной мостовой, сверкающей при свете фонаря – он ждал Сашу. Иногда во тьме под струями дождя ему мерещилась закутанная в плащ фигурка, потом видение исчезало. Внезапно зловещим голосом, полным ужаса и тревоги, от которого душа Орландо содрогнулась, колокол Святого Павла начал бить полночь. Раздалось еще четыре безжалостных удара. С суеверием влюбленного Орландо загадал, что Саша придет с шестым ударом, но отзвучал шестой, за ним седьмой и восьмой, и его смятенному рассудку привиделось в них сначала предостережение, а потом провозвестие смерти и краха. С двенадцатым ударом он понял: участь его решена. Рассудок Орландо тщетно искал оправдания – она могла опоздать, ей могли помешать, она могла заблудиться, однако страстное и любящее сердце знало правду. Забили, зазвенели другие часы. Казалось, весть о ее неверности и его позоре облетела весь мир. Старые, подспудные подозрения вырвались на волю. Его словно жалил клубок змей, и каждая следующая была еще более ядовита, чем предыдущая. Орландо застыл на пороге под проливным дождем. Бежали минуты, колени юноши слабели. Ливень не унимался. В самой глубине грохотали огромные пушки и раздавались звуки, похожие на треск ломающихся дубов, слышались отчаянные крики и ужасные, нечеловеческие стоны. Но Орландо стоял неподвижно, пока Святой Павел не пробил два часа, и лишь тогда, заскрежетав зубами и крикнув с убийственным сарказмом: «Jour de ma vie!», швырнул фонарь на землю, вскочил в седло и понесся куда глаза глядят.
Рассуждать здраво он был не в состоянии, и, вероятно, слепой инстинкт повлек его к морю. Забрезжил рассвет, внезапно небо стало бледно-желтым, дождь почти перестал, и Орландо обнаружил, что стоит на берегу Темзы, в районе Уоппинга. Глазам его предстало необычайное зрелище. Там, где больше трех месяцев лежал твердый лед такой толщины, что казался вечным, как камень, где раскинулся целый городок для увеселений, теперь бушевали желтые воды. Ночью река сбросила оковы, словно из вулканических глубин забил серный источник (к подобной точке зрения склонялись многие философы), обрушился на лед с яростной мощью и расколол его на огромные куски. На воду было страшно смотреть – от разгула стихии кружилась голова. Реку заполонили айсберги, иные из них широкие, как площадка для игры в кегли, и высокие, как дом, другие не больше мужской шляпы, зато закрученные весьма причудливо. То рухнет колоннада из ледяных глыб, сметая под воду все на своем пути, то, бурля и извиваясь, словно измученный змей, река забьется между обломками, швыряя их на берег, круша о причалы и опоры мостов. Но больше всего ужасал вид человеческих созданий, угодивших ночью в ловушку и теперь метавшихся по ненадежным островкам в полнейшем смятении духа. Их участь была решена – хоть прыгай в воду, хоть оставайся на льду. Иногда они шли на дно целыми ватагами – одни стояли на коленях, другие кормили младенцев грудью, какой-то старик даже читал вслух Священное писание. В иных случаях несчастный узник расхаживал по льдине в одиночку, и судьба такого бедняги, пожалуй, ужасала сильнее прочих. По мере того как несчастных уносило в море, раздавались тщетные крики о помощи, безумные зароки встать на путь истинный, признания во всех грехах, обещания воздвигнуть храмы и пожертвовать богатства, если Бог внемлет мольбам. Другие настолько оторопели от ужаса, что сидели неподвижно, глядя прямо перед собой. Бригада молодых лодочников или форейторов, судя по ливреям, хохотала и горланила непристойные кабацкие песни, словно все им нипочем, затем врезалась в дерево и пошла на дно, изрыгая богохульства. Старик-пэр – судя по отороченной мехом мантии и золотой цепи – тонул недалеко от того места, где стоял Орландо, призывая проклятия на головы ирландских мятежников, которые, как прокричал он на последнем издыхании, и устроили эту дьявольщину. Многие гибли, прижимая к груди серебряный кувшин или еще что-нибудь ценное, по меньшей мере пара десятков бедняг утонула по глупости, бросившись с берега в воду, лишь бы не упустить золотой кубок или не в силах смотреть, как тонет меховая накидка. На льдинах уносились прочь всякая мебель, ценные вещи и прочее добро. Порой попадались престранные картины: кошка, кормящая котенка, накрытый к ужину на двадцать персон стол, пара в кровати, а также целая уйма кухонной утвари.
Ошеломленный Орландо только и мог, что наблюдать за повергающим в ужас буйством стихии. Наконец он пришел в себя, пришпорил лошадь и во весь опор поскакал по берегу Темзы к морю. Обогнув излучину реки, он очутился напротив того места, где всего пару дней назад стояли вмерзшие в лед посольские корабли. Он поспешно пересчитал: французский, испанский, австрийский, турецкий. Вот они все, хотя французский сорвался с якоря, а турецкий получил большую пробоину в боку и быстро уходил под воду. Русский корабль исчез! На миг Орландо заподозрил, что тот затонул, потом привстал в стременах, прикрыл ладонью зоркие, как у ястреба, глаза и различил его очертания на горизонте. На верхушке мачты развевались черные орлы. Корабль посольства московитов направлялся в открытое море.
Спрыгнув с лошади, Орландо яростно рванулся навстречу потопу. Стоя по колено в воде, он обрушил на вероломную возлюбленную все оскорбления, которыми обычно осыпают представительниц женского пола. Называл ее неверной, непостоянной, ветреной, называл ее искусительницей, прелюбодейкой, обманщицей; и бушующие воды реки унесли его слова и выбросили юноше к ногам разбитый горшок и пригоршню соломы.
Глава 2
И тут возникает одна загвоздка, о которой биографу, пожалуй, лучше сообщить читателю открыто, нежели обойти ее молчанием. До сего момента мы рассказывали о жизни Орландо, опираясь на документы, личные и исторические, благодаря чему смогли исполнить первоочередной долг биографа – с трудом брести по неизгладимым следам истины, не глядя ни вправо, ни влево, не прельщаясь ни цветами, ни отдыхом в тени, вперед и только вперед, пока не свалимся в могилу и не напишем «конец» на надгробной плите у себя над головой. Теперь же мы приблизились к эпизоду, лежащему поперек пути, поэтому проигнорировать его не получится. Впрочем, эпизод сей весьма темный, таинственный и не подтвержден никакими документами, так что объяснений у нас нет. Попытки толкования заняли бы целые тома, можно было бы выстроить не одну религиозную систему. Перед нами стоит простая задача: по возможности перечислить известные факты, и пусть читатель делает с ними все, что заблагорассудится.
Летом после той злополучной зимы, которая ознаменовалась морозами, наводнением, гибелью тысяч людей и полным крушением надежд Орландо – из двора его изгнали, у большинства могущественных вельмож своего времени он впал в немилость, род Десмондов справедливо разгневался, а у короля и без того хватало неприятностей с ирландцами, чтобы их усугублять, – летом Орландо удалился в свой огромный загородный дом и жил в полном уединении. Однажды июньским утром – в субботу, восемнадцатого числа – он не поднялся с постели в обычный час, и вошедший камердинер обнаружил хозяина крепко спящим. Разбудить его так и не удалось. Он лежал словно в трансе, почти не дыша; и, хотя под окна приводили полаять собак, в комнате постоянно били в цимбалы и барабаны, стучали кастаньетами, под подушку сунули куст колючего дрока, к ногам приложили горчичные пластыри, Орландо не просыпался, не принимал пищу, не подавал признаков жизни целую неделю. На седьмой день он проснулся в обычное время (ровно без четверти восемь), выставил за дверь всю компанию визгливых причитальщиц и деревенских знахарок, что вполне для него естественно, и, как ни странно, понятия не имел о своем трансе: встал, оделся и велел седлать лошадь, словно лег спать накануне. Иные подозревали, что даром для рассудка Орландо это не прошло: хотя он вел себя вполне разумно и держался более серьезно и степенно, чем прежде, из его памяти совершенно изгладились некоторые воспоминания о пережитом. Он прислушивался к разговорам о Великом морозе, о катании на коньках, о празднествах, но и виду не подавал, что сам был их свидетелем, разве что иной раз отирал лоб, словно отгоняя набежавшую тучку. Когда обсуждали события последних шести месяцев, он выглядел не столько огорченным, сколько озадаченным, будто его тревожили смутные воспоминания о делах давно минувших дней или у него всплывали в памяти истории, случившиеся с другими людьми. Стоило упомянуть Россию, княжну или корабли, как он впадал в тревожное уныние, вставал и выглядывал из окна, или подзывал собаку, или брал нож и вырезал фигурку из куска кедра. В те времена доктора были едва ли мудрее нынешних и, прописав отдых и физическую нагрузку, голодание и усиленное питание, общение и одиночество, лежать в постели целыми днями и проезжать верхом сорок миль между завтраком и обедом, наряду с обычными успокаивающими и тонизирующими средствами, дополнив их разнообразнейшими снадобьями вроде слюны тритона натощак и желчи павлина перед сном, наконец оставили пациента в покое, заключив, что целую неделю он всего лишь спал.
Однако, если то был сон, возникает закономерный вопрос: какова его природа? Не являются ли подобные сны лечебными мерами – не стирают ли черным крылом беспамятства болезненные воспоминания, события, которые могут искалечить жизнь навеки, не придают ли они вещам, даже самым уродливым и низменным, свечение и блеск? Не должен ли гнев смерти время от времени обрушиваться на сумятицу жизни, чтобы та не разорвала нас на части? Не устроены ли мы так, что вынуждены принимать смерть маленькими порциями, иначе с повседневным существованием нам не справиться? Не мог ли Орландо, измученный невыносимым страданием, на неделю умереть и вновь ожить? А если так, какова же природа смерти и жизни? Прождав ответов на эти вопросы битых полчаса, но так и не дождавшись, мы лучше продолжим нашу историю.
Отныне Орландо обрек себя на полное затворничество. Отчасти причиной тому стали немилость при дворе и неутешное горе, но поскольку он даже не пытался оправдаться в глазах общества и редко приглашал гостей (хотя друзей у него было много и они приехали бы с готовностью), создается впечатление, что одинокая жизнь в огромном доме предков вполне соответствовала его натуре. Уединение он выбрал вполне осознанно. Никто толком не знал, чем он занимается. Слуги, коих Орландо держал целую свиту, хотя по большей части те лишь протирали пыль в пустых комнатах и поправляли покрывала на кроватях, на которых никто не спал, наблюдали темными вечерами, сидя за кексами с элем, как огонек блуждает по галереям, проходит через пиршественные залы, поднимается по лестницам, забредает в спальни, и знали, что хозяин бродит по дому в одиночестве. Никто не осмеливался за ним следовать, поскольку в особняке обитало множество призраков, к тому же из-за огромных размеров там было легко заплутать и либо скатиться кубарем с потайной лестницы, либо открыть дверь, которая от сквозняка захлопнется навсегда, – подобные инциденты случались, о чем свидетельствовали находки скелетов людей и животных, застывших в агонии. Потом огонек исчезал, и миссис Гримсдитч, экономка, выражала надежду мистеру Дапперу, капеллану, что с его светлостью ничего не случилось. Мистер Даппер, в свою очередь, предполагал, что его светлость, несомненно, стоит на коленях среди могил предков в часовне возле площадки для игры в бильярд, в полумиле к югу. Мистер Даппер справедливо опасался, что на совести Орландо немало грехов, на что миссис Гримсдитч весьма резко напоминала, что все мы грешны, миссис Стьюкли и старая няня Карпентер в голос принимались восхвалять его светлость, а камердинеры и лакеи страшно сокрушались, что такой славный молодой джентльмен бродит по дому, хотя мог бы охотиться на лису или преследовать оленя; и даже юные прачки и судомойки, всякие Джуди и Фэйт, разносившие по кругу пиво и кексы, подавали голос в защиту хозяина, превознося благородство и щедрость его светлости, ибо не встречали джентльмена, столь свободно расточавшего налево и направо серебряные монетки, на которые можно купить хоть ленточку, хоть бутоньерку; пока даже арапка, получившая после крещения имя Грейс Робинсон, не сообразила, о чем речь, и не согласилась, что его светлость – красивый, приятный, милый джентльмен, о чем дала понять единственным доступным ей способом – обнажив белоснежные зубы в широкой улыбке. Короче говоря, все слуги питали к Орландо глубочайшее уважение и проклинали княжну-чужестранку (наградив ее прозвищем куда более грубым), которая довела его до такого состояния.
Мистер Даппер полагал, что его светлости среди могил ничего не угрожает и пускаться на поиски не стоит. Несмотря на то, что к такому выводу его побудила трусость или же любовь к горячему элю, мистер Даппер, пожалуй, был прав. Орландо теперь испытывал странное наслаждение при мысли о смерти и разложении и, походив по галереям и пиршественным залам со свечой в руке, разглядывая картину за картиной, словно искал подобия с любимыми чертами и не находил, опускался на скамью в молельне и просиживал часами, наблюдая, как в лунном свете колышутся на сквозняке знамена, и довольствуясь компанией летучей мыши или бражника «мертвая голова». И даже этого ему казалось недостаточно – он спускался в склеп, где лежали в гробах десять поколений его предков. Входили туда нечасто, крысы обнаглели и прогрызли свинец, и Орландо то и дело цеплял полой плаща берцовую кость или наступал на череп какого-нибудь старого сэра Майлза. Склеп был жуткий, заложенный прямо в фундаменте дома, словно первый лорд рода, прибывший из Франции вместе с Вильгельмом Завоевателем, стремился торжественно заявить: пышность покоится на разложении, под плотью скрывается скелет, все мы, танцующие наверху, должны лежать внизу, алый бархат обратится в прах, перстень (тут Орландо, посветив фонарем, поднимал золотую оправу без камня, закатившегося в угол) лишится рубина, и глаз, некогда столь блестящий, померкнет навсегда. «От всех этих князей не осталось ничего, – говорил Орландо, позволяя себе несколько преувеличить их титул, – кроме порядкового номера», и брал руку скелета, сгибал пальцы один за другим. «Чья же это рука? – гадал он. – Правая или левая? Мужская или женская, старая или юная? Правила ли боевым конем или держала иголку с ниткой? Срывала ли розу или сжимала холодное железо? Была ли?..» Но тут воображение либо его подводило, либо, что более вероятно, предоставляло слишком много версий, и в результате Орландо по своему обыкновению уклонялся от первостепенного принципа построения композиции – членения, и клал руку с другими костями, вспоминая писателя по имени Томас Браун, доктора из Норвича, чьи сочинения на подобную тему чрезвычайно его увлекали.
Итак, взяв фонарь и убедившись, что кости в порядке, ибо, будучи романтиком, Орландо отличался необычайной методичностью и терпеть не мог малейшего беспорядка вроде клубка ниток на полу – что уж говорить о черепе предка! – возобновлял пытливое, угрюмое хождение по галереям, поиск знакомых черт на портретах, время от времени разражаясь горькими рыданиями при виде заснеженного пейзажа кисти неизвестного голландского живописца. Тогда ему казалось, что жизнь не стоит того, чтобы жить. Позабыв про кости предков и про то, что жизнь зиждется на могиле, он стоял, сотрясаемый рыданиями, по прихоти женщины в русских шароварах, с раскосыми глазами, надутыми губками и жемчугами на шее. Ушла. Бросила. Увидеться им больше не суждено! И Орландо разражался рыданиями. Так он и брел в свои покои, а миссис Гримсдитч, видя свет в окне, опускала кружку и возносила хвалу Господу, что его светлость добрался благополучно, ибо очень боялась, что его предательски убьют из-за угла.
Орландо придвигал к столу кресло, открывал сочинения сэра Томаса Брауна и продолжал вникать в пространные и удивительно запутанные рассуждения доктора.
Хотя распространяться на подобные темы биографу не особо выгодно, тому, кто сыграет роль читателя, должно быть вполне очевидно, что из разбросанных там и сям скудных намеков складывается облик живого человека, ведь в нашем шепоте ему слышится живой голос, читатель видит, даже если мы не говорим ни слова, как выглядит герой, без лишних указаний извне знает, о чем тот думает – а ведь именно для таких читателей мы и пишем – такому читателю ясно, что в характере Орландо причудливым образом сочетались разные черты: меланхоличность, праздность, страстность, любовь к уединению, не говоря уже про те самые выверты и особенности душевного склада, о которых мы упоминали на первой странице, где герой рьяно рубит клинком мертвую голову, рассекает веревку, великодушно подвешивает череп вне пределов своей досягаемости и усаживается у окна с книгой. Любовь к чтению проснулась в нем рано. В детстве Орландо частенько заставали в полночь, листающим страницу за страницей. Свечу забрали, и мальчик принялся разводить светляков. Светляков тоже забрали, и он едва не спалил дом, поджигая сухой трут. Пусть романист разглаживает мятый шелк и устраняет все неровности, а мы скажем прямо: он был дворянином, одержимым страстью к литературе. Многим современникам Орландо, тем более людям его положения, посчастливилось избежать сей заразы, благодаря чему они могли свободно бегать, ездить верхом или заниматься любовью в свое удовольствие. Иные же в самом начале жизни подверглись воздействию микроба, который, как говорят, завелся в пыльце асфоделей и разносится греческими и итальянскими ветрами; природа его столь опасна, что он заставляет дрожать занесенную для удара руку, туманит взор, ищущий добычу, и вынуждает тело дрожать, произнося слова любви. Пагубность заболевания в том, что реальность замещается иллюзией, и Орландо, доселе обласканному всевозможными дарами фортуны – счастливому обладателю столового серебра, изысканного белья, особняков, бесчисленных слуг, ковров, кроватей, – стоило лишь открыть книгу, как все превращалось в дым. Исчезал каменный особняк площадью в девять акров, сто пятьдесят человек прислуги пропадали без следа, восемьдесят скакунов становились невидимыми, а уж сколько сгинуло, испарившись как дымка над морем, ковров, диванов, нарядов, фарфора, столового серебра, сервировочных блюд, жаровен и прочего имущества из чеканного золота, и перечислять не стоит. В результате Орландо сидел за книгой один-одинешенек, голый и босый.
Теперь, в одиночестве, недуг сразил его в два счета. Орландо читал ночами часов по шесть кряду, а когда слуги заходили справиться о забое скота или уборке пшеницы, отодвигал фолиант с таким видом, словно не понимает, что ему говорят. Уже это было скверно и терзало сердце сокольничего Холла, камердинера Джайлза, экономки миссис Гримсдитч, капеллана мистера Даппера. Столь славному джентльмену, говорили они, книги ни к чему! Пусть отдаст их недужным или умирающим. Но худшее ждало впереди, ибо едва болезнь овладевает организмом, он становится легкой добычей для другой напасти, что обитает в чернильнице и кормится писчими перьями: несчастный принимается сочинять. И хотя это вредно даже для бедняка, чье единственное имущество – стол да стул под дырявой крышей, и терять ему почти нечего, участь богача, у которого есть дома и скот, всякие прислужницы и льняное белье, и все же он пишет книги, – особенно плачевна. Все перечисленное утрачивает для него всякий вкус: он испытывает такие муки, словно его жгут каленым железом или глодают крысы. И готов отдать последний пенни (такова пагубность недуга) лишь бы издать тоненькую книжечку и прославиться, однако и за все золото Перу не обрести ему сокровища – отточенной строки. И несчастный чахнет, хиреет, вышибает себе мозги, отвернувшись лицом к стене. Не имеет значения, в каком виде его найдут. Он прошел через ворота смерти и познал геенну огненную.
К счастью, Орландо отличался крепким телосложением, и недугу (к причинам мы еще вернемся) не удалось его сломить, в отличие от многих других жертв. Впрочем, как выяснилось впоследствии, болезнь зашла довольно далеко. Ибо, проведя за чтением сэра Томаса Брауна час или около того, по тявканью оленя и оклику ночного сторожа он догадался, что наступила глубокая ночь и все крепко спят, достал из кармана серебряный ключик и отпер дверцы огромного инкрустированного шкафа, стоявшего в углу. Внутри было с полсотни ящичков из древесины кедра, и на каждом красовался ярлычок, аккуратно подписанный рукой Орландо. Он помедлил, словно не решаясь, какой открыть. На одном значилось: «Смерть Аякса», на другом «Рождение Пирама», на третьем «Ифигения в Авлиде», на четвертом «Смерть Ипполита», на пятом «Мелагр», на шестом «Возвращение Одиссея» – на самом деле едва ли нашелся бы хоть один ящичек без имени мифологического персонажа в момент карьерного кризиса. В каждом ящичке лежал увесистый манускрипт, исписанный рукой Орландо. Правда заключалась в том, что недуг снедал Орландо много лет. Ни один мальчишка не выпрашивает так яблоки и сласти, как Орландо – бумагу и чернила. Незаметно уклоняясь от разговоров и игр, он прятался за шторами, в норах для священников[6] или в чулане за спальней матери, где была большая дыра в полу и ужасно воняло пометом скворцов, прятался с чернильницей в одной руке, пером в другой и свитком на коленях. Таким образом, к двадцати пяти годам он написал сорок семь пьес, историй, рыцарских романов, поэм – в прозе и в стихах, на французском и на итальянском, все романтичные и все длинные. Один опус он даже напечатал у Джона Болла в «Перьях и короне», что напротив Креста Святого Павла в Чипсайде, но, хотя вид книжечки привел его в неимоверный восторг, так и не решился показать ее даже матери, поскольку писать и уж тем более издаваться, как он знал, для дворянина – неискупимый позор.
Теперь же, под покровом ночи и в полном одиночестве, Орландо достал из хранилища толстую рукопись под названием «Трагедия Ксенофилы» или вроде того и тонкую, озаглавленную простенько – «Дуб» (единственное односложное название среди его творений), подошел к чернильнице, потрогал перо и проделал иные пассы, к которым прибегают подверженные сему недугу, начиная свои ритуалы. И тут он дрогнул.
Поскольку эта заминка чрезвычайно важна для нашей истории (на самом деле она значит гораздо больше, чем многие деяния, что ставят людей на колени и приводят к рекам крови), нам следует задаться вопросом, почему же Орландо дрогнул; и ответить, после должного размышления, что у него была на то причина. Природа вдоволь над нами потешилась, слепив нас столь разными – из глины и бриллиантов, из радуги и гранита, да еще распихала все по сосудам совершенно несуразным, ибо поэту дает лицо мясника, а мяснику – лицо поэта; природа упивается сумбуром и тайной, и даже сегодня (первого ноября тысяча девятьсот двадцать седьмого года) мы не знаем, зачем поднимаемся или спускаемся по лестнице, ведь по большей части наши ежедневные передвижения подобны плаванию корабля в неизвестных водах, когда матросы вопрошают, сидя на мачте и наводя бинокли на горизонт: «Есть там суша или нет?», на что мы ответим «есть», если мы пророки, и «нет», если мы честны; пожалуй, природа должна ответить за очень многое, помимо громоздкости сего длинного пассажа, ибо еще больше усложнила задачу и внесла изрядную долю путаницы, не только сделав нас хранилищем всякой невозможной всячины – пара полицейских штанов соседствует со свадебной фатой королевы Анны, – но и позаботившись о том, чтобы наживлять это пестрое ассорти на одну нитку. Память – портниха, да к тому же с большими причудами. Память водит иглой туда-сюда, вверх-вниз, взад-вперед. Кто ее знает, как там дальше и что следует из чего. В итоге самое обычное телодвижение – к примеру, сесть за стол и придвинуть к себе чернильницу – может разворошить тысячу разрозненных обрывков, то ярких, то тусклых, то грустно поникших, то весело трепещущих на ветру, словно белье семьи из четырнадцати человек, висящее на веревке. Вместо того чтобы быть простыми, четкими, без всяких прикрас и не заставлять человека их стыдиться, самые обычные наши поступки обращаются в трепет и мелькание крыл, мерцание и вспышки огней. Так и получилось, что Орландо, обмакнув перо в чернильницу, увидел насмешливое лицо сбежавшей княжны и задался миллионом вопросов, которые вонзились ему в сердце словно стрелы, пропитанные желчью. Где-то она теперь? Почему его бросила? Посол ей дядя или любовник? Они сговорились или ее принудили силой? Замужем ли она? Жива ли? И он настолько пропитался их ядом, что, желая выместить боль, яростно макнул перо в чернильницу, расплескал чернила, и вместо личика княжны на бумаге проступило лицо совсем иного рода. Кто же это? – удивился Орландо. Ему пришлось прождать с минуту, глядя на образ, который лег поверх старого, как новая картинка волшебного фонаря ложится поверх предыдущей, частично ее перекрывая, прежде чем он смог сказать себе: «Лицо это принадлежит тучному, потрепанному незнакомцу, который сидел за столом в комнате Твитчет много лет назад, перед ужином со старой королевой Бесс, тогда-то он мне и встретился, – продолжил Орландо, ухватив следующий пестрый обрывок, – я заглянул к нему по пути в пиршественный зал, и глаза у него были совершенно бесподобные, но кто же он такой, черт побери? – гадал Орландо, и тут память добавила ко лбу и глазам аляповатый, засаленный воротник, коричневый камзол и пару грубых ботинок, какие носят жители Чипсайда. – Точно не дворянин, не один из нас, – задумчиво протянул Орландо (вслух он этого не сказал бы никогда, будучи истинным джентльменом, зато мы видим, как сильно воздействует на ум благородное происхождение и как трудно дворянину стать писателем), – рискну предположить, что поэт». По всем законам память, вдоволь его растревожив, должна была стереть все без следа или извлечь из своих глубин что-нибудь настолько дурацкое и неуместное – вроде пса, погнавшегося за кошкой, или старухи, сморкающейся в красный носовой платок, – что, отчаявшись поспеть за ее капризами, Орландо схватил бы перо и в сердцах пронзил бумагу насквозь. (Ибо мы можем, если достанет решимости, выставить бесстыдницу Память из дома вместе со всем ее сбродом.) Но Орландо дрогнул. Память все еще хранила образ невзрачного незнакомца с большими, сияющими глазами. Он все еще смотрел, все еще ждал. Подобные заминки несут нам погибель. Именно тогда в нашу крепость врывается мятеж, и гарнизон поднимает восстание. Однажды он уже дрогнул, и тогда в жизнь его ворвалась любовь со своими безудержными пирушками, свирелями, цимбалами и головами с кровавыми кудрями, сорванными с плеч. От любви он вынес немыслимые пытки. И вот он вновь дрогнул, и в образовавшуюся брешь проникли Гордыня, старая карга, и Поэзия, чертовка, и Жажда славы, гулящая девка, взялись за руки и превратили его сердце в площадку для танцев. Вытянувшись по струнке в уединении своей комнаты, он поклялся стать первым поэтом в своем роду и стяжать себе неувядающую славу. Перечисляя имена предков, Орландо вспомнил, что сэр Борис сражался с язычниками, сэр Гавейн разил турок, сэр Майлз – ляхов, сэр Эндрю – франков, сэр Ричард – австрийцев, сэр Джордан – французов, сэр Герберт – испанцев. И что же осталось от всех этих убийств и походов, пирушек и интрижек, мотовства и охоты, верховой езды и попоек? Череп да фаланга пальца. В то время как другие, начал Орландо, обратив взгляд на страницу раскрытого фолианта сэра Томаса Брауна, – и вновь дрогнул. Отражаясь от углов комнаты, на крыльях ночного ветра и лунного света неслась божественная мелодия слов, которыми мы не рискнем смущать сию скромную страницу и оставим их лежать там, где они покоятся, – не мертвые, нет, скорее забальзамированные – ибо лица их свежи, дыхание глубоко – и Орландо, сравнив это достижение с деяниями своих предков, вскричал, что те – лишь пыль и прах, а этот муж и его слова – бессмертны!
Однако вскоре он понял, что сражения, которые вели сэр Майлз и остальные с вооруженными рыцарями, сражаясь за королевство, и вполовину не столь изнурительны, как битва с английским языком, в которую вступил он в надежде обрести бессмертие. Любому, хоть немного знакомому со сложностями композиции, подробности вряд ли нужны, ведь он может себе представить, как Орландо писал и ему все нравилось, потом перечитывал и все виделось ему отвратительным, как правил и рвал бумагу в клочья, вырезал, потом добавлял, как впадал то в эйфорию, то в отчаяние, как у него бывали удачные ночи и плохие дни, мысль приходила и ускользала, как ясно он видел перед собой будущую книгу, а потом та исчезала, как разыгрывал роли своих персонажей за трапезой, произносил их речи на ходу, как плакал и смеялся, как колебался, подбирая подходящий слог – то героический и помпезный, то простой и без прикрас, то бросался в долины Темпла, в поля Кента или Корнуолла, и не мог решить, то ли он величайший гений, то ли самый последний дурак на свете.
И вот, после долгих месяцев лихорадочного труда, желая рассеять сомнения, он решил нарушить многолетнее уединение и пообщаться с внешним миром. В Лондоне у него был друг, некий Джайлз Ишем Норфолкский, который, несмотря на благородное происхождение, водился с писателями и несомненно мог свести Орландо с кем-нибудь из этого благословенного, даже священного братства. Ибо теперь для Орландо престиж человека, написавшего и издавшего книгу, с лихвой затмевал славу любых военных и государственных мужей. Ему представлялось, что даже тела носителей божественного откровения претерпевают чудесные метаморфозы: вместо волос у них нимбы, дыхание благоухает фимиамом, меж губ расцветают розы – чего, конечно, нельзя сказать ни о нем самом, ни о мистере Даппере. Он не мог представить себе большего счастья, чем сидеть за кулисами и внимать. При мысли о беседах столь блистательных и разнообразных, Орландо чрезвычайно устыдился низменных тем, которые обсуждал с друзьями-придворными – собаки, лошади, женщины, карты. Он с гордостью вспомнил свое прозвище «грамотей» и насмешки из-за любви к уединению и книгам. Плетение изящных словес ему не давалось, в обществе женщин он стоял столбом, заливался краской и вышагивал по гостиной, как гренадер. По рассеянности дважды падал с лошади, сломал веер леди Уинчилси, сочиняя стишок. Жадно вспоминая эти и другие свидетельства того, что для светской жизни он не создан, Орландо лелеял тайную надежду, что бурная юность, неуклюжесть, стыдливый румянец, долгие прогулки и любовь к сельской местности доказывают: он принадлежит скорее к племени избранных, чем вельмож – он прирожденный писатель, а не аристократ! Впервые с ночи Великого наводнения он был счастлив.
И вот он поручил мистеру Ишему Норфолкскому передать мистеру Николасу Грину, проживавшему в Клиффордс-Инн, послание, в котором Орландо выразил восхищение его произведениями (в те времена Ник Грин считался очень известным сочинителем) и желание познакомиться, на чем не осмеливался настаивать, поскольку ничего не мог предложить взамен, но если мистер Николас Грин соблаговолит приехать, то к его услугам карета с четверкой лошадей, готовая ждать на углу Феттер-Лейн в любой назначенный мистером Грином час, чтобы доставить его в целости и сохранности в поместье Орландо. Дальнейшие фразы читатель может представить и сам, а также вообразить восторг Орландо: мистер Грин приглашение благородного лорда незамедлительно принял, сел в карету и благополучно прибыл, войдя в зал южной части особняка ровно в семь часов в понедельник, двадцать первого апреля.
В этом пиршественном зале принимали многих королей, королев и послов, здесь выступали судьи в горностаевых мантиях. Со всей Англии сюда съезжались самые прекрасные дамы и самые суровые воины. Зал украшали стяги, побывавшие в битвах при Флоддене и Азенкуре, и раскрашенные гербы со львами, леопардами и коронами. На длинных столах сверкала золотая и серебряная посуда, а в огромных каминах итальянского мрамора некогда сжигали за вечер по целому дубу с миллионом листьев, прямо с гнездами грачей и крапивников. Теперь там стоял поэт Николас Грин, одетый весьма просто – в черный камзол и широкополую шляпу, с небольшой сумкой в руке.
Поспешив ему навстречу, Орландо неизбежно испытал легкое разочарование. Ростом поэт был не выше среднего, фигуру имел невзрачную, худощавую и сутулую, вдобавок споткнулся о мастиффа, и тот его укусил. Более того, Орландо, при всем знании человеческой природы, понятия не имел, к какому типу его отнести: обликом Николас Грин не походил ни на слугу, ни на помещика, ни на вельможу. Голова с округлым лбом и хищным носом впечатляла, но подбородок подкачал. Глаза сверкали, но губы висели безвольно и слюнявились. В общем, настораживали не столько черты лица, сколько его выражение. Не было в нем ни того величавого самообладания, благодаря которому так приятно смотреть на лица аристократов, ни преисполненного достоинства подобострастия, как у вышколенной прислуги – лицо, изборожденное морщинами, дряблое, усохшее. Хотя и поэт, он скорее привык осыпать бранью, чем похвалами, пререкаться, чем утешать, ковылять на своих двоих, чем ездить верхом, бороться с трудностями, чем отдыхать, ненавидеть, чем любить. Это проглядывало в его суетливости, в неистовом и недоверчивом взгляде. Орландо даже немного растерялся, и тут подали обед.
И тогда Орландо, привыкший воспринимать свое богатство как должное, впервые ощутил необъяснимый стыд за толпу слуг, прислуживавших за столом, и великолепие убранства. Что еще более странно, он вспомнил с гордостью – сама мысль об этом обычно его угнетала – про свою прапрабабку Молл, которая доила коров. Он уже собрался упомянуть сию скромную женщину с ее подойниками, как поэт его опередил, посетовав, насколько распространена фамилия Грин, ведь его предки высадились вместе с Вильгельмом Завоевателем и принадлежали к высшей французской знати. Увы, положение в обществе они утратили и единственное, чем прославились – нарекли своим именем округ Гринвич. Разговоры подобного толка – об утраченных стадах, гербах, кузенах-баронетах на севере, смешанных браках со знатными семействами на западе и как некоторые Грины пишут свое имя с буквой «е» на конце, а другие без, продолжались до тех пор, пока не подали оленину. И тогда Орландо удалось вставить пару слов про бабушку Молл с ее коровами и немного облегчить душу перед тем, как принесли лесную дичь. Но лишь когда дошло до мальвазии, Орландо осмелился обратиться к теме гораздо более важной, чем Грины или коровы – к священной теме поэзии. В глазах поэта вспыхнул огонь, он мигом растерял манеры джентльмена, стукнул бокалом по столу и разразился самой длинной, путаной, страстной и горькой историей из всех, что доводилось слышать Орландо, кроме как из уст брошенной женщины, – поэт вещал о своей пьесе, о другом поэте и критике. О сущности поэзии Орландо понял лишь, что продавать ее труднее, чем прозу, и, хотя строк меньше, писать их гораздо сложнее. Разговор продолжался бы до бесконечности, не рискни Орландо упомянуть, что и сам осмелился кое-что написать – и тут поэт вскочил со стула. За панелью пискнула мышь, заявил он. По правде сказать, объяснил Грин, нервы так напряжены, что писк мыши выбивает его из равновесия недели на две. Дом наверняка кишит грызунами, просто Орландо их не слышит. Затем поэт подробно рассказал Орландо о своем самочувствии за последние десять лет. Здоровье оказалось таким плохим, что просто странно, как тот дожил до сего дня. Он перенес парез, подагру, лихорадку, водянку и три вида горячки одну за другой, вдобавок ко всему у него увеличены сердце, селезенка и больная печень. Хуже всего, заверил поэт, боли в спине, которые просто не поддаются описанию. Позвонок в верхней трети горит огнем, второй снизу – холоден как лед. Порой он просыпается, и голова налита свинцом, в иной раз в мозгу пылает тысяча восковых свечей и словно шутихи запускают. По его словам, он может почуять лепесток розы под матрасом и ориентироваться в Лондоне с завязанными глазами, узнавая дорогу по булыжникам под ногами. В то же время его организм – аппарат настолько тонкий и совершенный (тут он как бы непроизвольно поднял руку и действительно – та была идеальной формы), что просто уму непостижимо, почему его поэма разошлась всего в пятистах экземплярах, но виной тому, конечно, происки врагов. Все, что он может сказать, заключил Ник Грин, стукнув кулаком по столу, в Англии поэзия мертва!