Зеркальная галерея. Великая депрессия, Великая рецессия, усвоенные и неусвоенные уроки истории бесплатное чтение
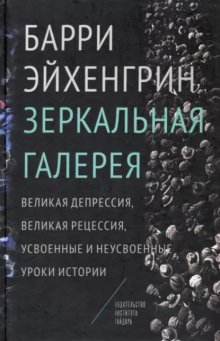
Barry Eichengreen
Hall of Mirrors. The Great Depression, the Great Recession, and the Uses – and Misuses – of History
© 2015, Barry Eichengreen
© Издательство Института Гайдара, 2016
Предисловие к русскому изданию
Россия относится к числу стран, сильнее всего пострадавших от глобального финансового кризиса 2008–2009 годов. В 2003–2007 годах российская экономика росла на 7 % в год, в 2008 году темпы ее роста снизились до 5 %, а в 2009 году, когда иностранные инвестиции иссякли, а экономики стран с развивающимися рынками начали давать сбои, и вовсе составили минус 8 %.
Поразительно, но России удалось избежать худшего. Спад производства остановился, а ВВП начал восстанавливаться уже в 2010 году. В отличие от Соединенных Штатов и других западных стран во время Великой депрессии 1930-х, в России не было четырех и даже более лет последовательного падения ВВП. Не произошло в ней и падения реальных доходов на 25 % и более, как в США в 1929–1933 годах. Показатели безработицы в ней не выросли до 25 % и более, как в США во время Великой депрессии и некоторых неблагополучных европейских странах вроде Греции в последние годы.
Разница между 1929–1933 и 2008–2009 годами объясняется более конструктивной экономической политикой, причем не столько в самой России, сколько в странах, которые служили для нее источником иностранных инвестиций и были потребителями ее энергоресурсов. Правительства на Западе, например в Америке, развернули массированные программы стимулирования экономики. Центральные банки, подобно ФРС, снизили процентные ставки до нуля и направили дополнительную ликвидность в свои финансовые системы. На Востоке китайское правительство запустило свою собственную программу стимулирования экономики, а Народный банк Китая впрыснул огромный объем ликвидности в финансовую систему своей страны.
Во всех этих случаях – даже в случае Китая – реакция правительства определялась опытом Великой депрессии в том виде, в каком его описывали историки. Принято считать, что Великая депрессия стала «великой» в результате вопиющих политических ошибок. Правительства урезали государственные расходы в самое неподходящее время, когда произошло резкое сокращение расходов в частном секторе. Центральные банки отказались выступать в качестве кредиторов последней инстанции. Основываясь на уроках истории, политики на этот раз поклялись показать себя лучше. В каком-то смысле им удалось сдержать обещание. Темпы роста мировой экономики после падения на 2 % в 2009 году вновь стали положительными уже в 2010 году. Конечно, не все было гладко, но властям по крайней мере удалось избежать новой Великой депрессии.
И Россия со своей стороны выиграла от этой стабилизации и восстановления в остальном мире. После стабилизации потоков капитала и рынков энергоресурсов российская экономика выросла больше чем на 5 % в 2010 году, больше чем на 4 % в 2011 году и больше чем на 3 % в 2012 году.
Положительные темпы роста – это хорошо (во всяком случае лучше, чем отрицательные), но в сравнении со славными 2003–2007 годами они все же вызывали разочарование. Затем в 2013 году, еще до конфликта на Украине, международных санкций и нового падения цен на нефть, рост российской экономики еще больше замедлился, снизившись до всего 1,3 %. В 2014 году темпы роста снова упали, а к 2015 году Россия опять погрузилась в рецессию.
Это не было уверенным восстановлением, обещанным нам теми, кто «извлек уроки истории». И объясняется это ровно тем же, чем и разочаровывающие темпы восстановления от Великой рецессии и глобального финансового кризиса в Европе и Соединенных Штатах. Неспособность Соединенных Штатов и Европы более уверенно восстановиться от глобального кризиса связана, в первую очередь, с преждевременным решением политиков отказаться от стимулирования экономики, все еще нуждавшейся в значительной поддержке, а также с их неспособностью провести более масштабные послекризисные реформы, особенно в финансовой сфере. И наиболее важную роль в этом преждевременном решении отказаться от политики, остро необходимой для стимулирования экономики, сыграл тот простой факт, что политики предотвратили худшее. Они избежали новой Великой депрессии. Они могли заявить, что самое страшное уже позади. Поэтому они могли задуматься о возвращении к привычной политике. Само это успешное предотвращение экономического краха в духе 1930-х обусловило их неспособность обеспечить более уверенное восстановление. Как я показываю в этой книге, успех становился залогом провала.
И то, что было справедливо для макроэкономической политики, также было справедливо и для финансовой реформы. Великая депрессия привела к полному краху банковской и финансовой системы в Соединенных Штатах. Этот крах дискредитировал существующий режим и привел к масштабной финансовой реформе. На этот раз, напротив, полного краха удалось избежать. Это укрепило убежденность в том, что изъяны существующей системы были не такими серьезными. Призывы к радикальным мерам звучали уже не столь убедительно. Это связало реформаторам руки. Это позволило банкам перегруппироваться. И это позволило несущественным разногласиям между политиками ослабить импульс к реформе. В результате ничего даже отдаленно напоминающего масштабную реформу в сфере регулирования 1930-х годов не произошло. Конечно, нельзя забывать о законе Додда – Франка о защите прав потребителей в области финансовых продуктов и сервисов 2010 года и последующих инициативах в сфере регулирования, среди прочего, Федеральной резервной системы и Комиссии по ценным бумагам и биржам. Но по меркам 1930-х годов все это выглядит очень скромно. И вновь успех стал залогом провала.
То же самое можно сказать и о России. Тот факт, что страна избежала полноценного экономического и финансового кризиса в 2008–2009 годах, позволил политикам минимизировать потребность в более фундаментальных экономических реформах. Еще в 2003 году экономический рост в России стало сдерживать все более серьезное вмешательство государственной бюрократии и правящей элиты в экономику. Чтобы расти, рыночная экономика нуждается в верховенстве права, прозрачном и предсказуемом механизме обеспечения исполнения контрактов и ясно определенных правах собственности. В этом смысле с 2003 года Россия становилась все менее рыночной экономикой.
Кризис 2008–2009 годов мог стать катализатором радикальных реформ и переломить тенденцию, которая только усиливалась с начала 2000-х. Вместо этого кризис удалось успешно купировать. Это позволило, как это часто бывает в России, оставить все как есть. Я не хочу сказать, что было бы лучше, если бы политики отошли в сторону и позволили кризису развернуться в полную силу. Я хочу сказать, что успех действий политиков по стабилизации экономики имел непреднамеренные последствия как в России, так и на Западе.
Барри Эйхенгрин
Беркли, Калифорния
Ноябрь 2015 г.
Введение
Эта книга о финансовых кризисах. О событиях, которые к ним приводят. О том, почему правительства и рынки реагируют так, как они реагируют. И о последствиях.
Эта книга повествует о Великой рецессии 2008–2009 годов и Великой депрессии 1929–1933 годов – двух самых масштабных финансовых кризисах нашего времени. О том, что между этими двумя эпизодами можно провести параллели, хорошо известно, и не в самую последнюю очередь – лицам, задающим направление политики. Многие комментаторы отметили, что сложившиеся представления о Великой депрессии – то, что принято называть «уроками Великой депрессии», – сформировали реакцию на события 2008–2009 годов. Поскольку эти события так подозрительно напоминали события 1930-х, их стали рассматривать именно через призму Великой депрессии. Тенденция рассматривать кризис с точки зрения 1930-х была тем сильнее, если учитывать, что ключевые лица, определяющие политический курс, – от председателя Совета управляющих ФРС Бена Бернанке до главы Группы экономических советников Барака Обамы Кристины Роумер – изучали события 1930-х в свои ранние академические годы.
Усвоенные уроки истории помогли властям предотвратить худшее. После того как крах Lehman Brothers привел мировую финансовую систему к краю пропасти, они пообещали, что больше не позволят обанкротиться ни одной системообразующей финансовой организации, и выполнили это обещание. Они воздержались от политики под названием «разори своего соседа», которая стала причиной краха международных транзакций в 1930-х. Правительства нарастили государственные расходы и снизили налоги. Центральные банки «наводнили» финансовые рынки ликвидностью и предоставляли кредиты друг другу, проявив беспрецедентную солидарность.
В своих решениях они в значительной степени руководствовались выводами об ошибках своих предшественников. В 1930-х правительства не устояли против искушения протекционистской политики. Руководствуясь устаревшими экономическими догмами, они сократили государственные расходы в самый неподходящий момент и упрямо пытались сбалансировать бюджеты как раз тогда, когда экономика отчаянно нуждалась в бюджетном стимулировании. И неважно, на каком языке говорили чиновники – на английском, как Герберт Гувер, или на немецком, как Генрих Брюнинг. Мало того что принимаемые ими меры только усугубили спад, им даже не удалось восстановить доверие к государственным финансам.
Руководители центральных банков, со своей стороны, находились в плену доктрины «реальных векселей» и считали, что они должны предоставлять ровно столько кредитов, сколько необходимо для реальных потребностей бизнеса. Они выдавали больше кредитов, когда бизнес рос, и меньше, когда наблюдался спад, тем самым обостряя бумы и падения. Пренебрегая своей ответственностью за финансовую стабильность, они не выполняли функции кредиторов последней инстанции. В результате такой политики банки банкротились один за другим, оставляя бизнес без кредитных ресурсов. Цены бесконтрольно падали, долги стали неподъемными. В своем монументальном труде «Монетарная история Соединенных Штатов» Милтон Фридман и Анна Шварц возложили ответственность за этот крах непосредственно на центральные банки. Согласно их заключениям к экономической катастрофе 1930-х преимущественно привела некомпетентная политика центральных банков.
В 2008 году, вняв урокам Великой депрессии, власти пообещали действовать более разумно. Раз их предшественники, не снизив процентные ставки и не предоставив финансовым рынкам достаточно ликвидности, приговорили мир к дефляции и депрессии, в этот раз нужно было проводить стимулирующую монетарную и финансовую политику. Раз неспособность их предшественников остановить банковскую панику привела к финансовому краху, они будут действовать с банками решительно. Если в то время попытки сбалансировать бюджеты только усугубили спад, они применят бюджетное стимулирование. Если крах международного сотрудничества обострил мировые проблемы, они будут использовать личные контакты и международные организации, чтобы в этот раз обеспечить достаточно скоординированную политику.
В результате настолько отличающейся политики в 2010 году безработица в США достигла пикового уровня в 10 %. И хотя этот показатель по-прежнему был тревожно высоким, он оказался намного ниже катастрофического значения в 25 %, которое было зарегистрировано во время Великой депрессии. Количество обанкротившихся банков измерялось сотнями, но не тысячами. Финансовые дисбалансы были повсеместными, но полного и бесповоротного коллапса финансовых рынков, как в 1930-х, удалось успешно избежать.
В других странах ситуация была примерно такой же, что и в Соединенных Штатах. Каждая несчастная страна несчастна по-своему, а начиная с 2008 года наблюдались различные степени экономического «несчастья». Однако, несмотря на несколько рожденных под несчастливой звездой европейских стран, это «несчастье» не дошло до уровня 1930-х. Поскольку политика была более эффективной, снижение производства и уровня занятости, социальные неурядицы, тяготы и испытания носили гораздо менее выраженный характер.
По крайней мере, власти надеются, что именно так будут описывать их действия будущие историки. Великая депрессия стала результатом некомпетентной политики, но обществу, усвоившему этот опыт, удалось избежать еще одной Великой депрессии.
Или так говорят.
К сожалению, такая счастливая история слишком проста. Сложно смириться с невозможностью предусмотреть все риски. Королева Елизавета II во время своего визита в Лондонскую школу экономики в 2008 году задала собравшимся экспертам знаменитый вопрос, почему никто не смог рассмотреть надвигающийся кризис. Шесть месяцев спустя группа выдающихся экономистов отправила королеве письмо, в котором они просили прощения за «отсутствие коллективного воображения».
Параллелей можно привести достаточно. В 1920-х на рынке недвижимости Флориды и на рынке коммерческой недвижимости на северо-востоке и в центральных регионах США наблюдался бум. Стремительный рост на рынке недвижимости США, Ирландии и Испании в начале XXI века имел сильное сходство с этим бумом. Резко вверх шли биржевые котировки, отражая головокружительные ожидания будущей прибыли от входящих в моду компаний в сфере информационных технологий: Radio Company of America (RCA) – в 1920-х, Apple и Google – 80 лет спустя. В сфере кредитования тоже был зафиксирован взрывной рост, который способствовал буму на рынке недвижимости и на рынках активов. Расширялся спектр, мягко говоря, сомнительных практик в банковской и финансовой системах. Золотой стандарт после 1925 года и система евро после 1999 года сыграли свою роль в усугублении и трансляции экономических дисбалансов.
Кроме того, имело место наивное представление о том, что экономическая политика приручила экономический цикл. В 1920-х говорилось, что мир вступил в «новую эру» экономической стабильности благодаря учреждению Федеральной резервной системы в США и независимых центральных банков в других странах. Период, предшествующий Великой рецессии, также принято было считать эпохой «великого успокоения», когда нестабильность делового цикла была усмирена достижениями в политике центральных банков. Вдохновленные верой в то, что резких колебаний в экономической активности больше не будет, коммерческие банки увеличили использование заемных средств. Инвесторы более охотно шли на риск.
Можно было подумать, что любой, кто имел некоторое представление о Великой депрессии, смог бы увидеть параллели и их возможные последствия. Некоторые тревожные сигналы, несомненно, присутствовали, но их было немного, и они были не совсем отчетливыми. Роберт Шиллер (Йельский университет), который изучал рынки недвижимости в 1920-х, предупредил о развитии симптомов, по всей видимости говоривших о полномасштабном пузыре на рынке недвижимости. Но даже Шиллер не мог предвидеть катастрофических последствий его обвала. Нуриэль Рубини, прослушавший как минимум один курс по истории Великой депрессии в свои студенческие годы в Гарварде, указывал на риски, которые представлял собой растущий дефицит счета текущих операций США и увеличение американского долларового долга за рубежом. Но вместо краха доллара, о котором предупреждал Рубини, пришел совсем другой кризис.
Специалисты по истории и экономике Великой депрессии, надо признать, тоже преуспели не больше него. Экономическое сообщество в целом озвучивало только невнятные предостережения о том, что впереди катастрофа. Оно повелось на проповеди о «великом успокоении». Чиновники, убаюканные самодовольством и позитивным настроем рынков, не сделали ничего, чтобы подготовиться к надвигающейся беде.
Возможно, требовать от аналитиков предсказывать финансовые кризисы – это слишком много? Кризисы случаются не просто из-за кредитных бумов, пузырей на рынках активов и ошибочной веры в то, что участники финансовых рынков научились безопасно управлять рисками. Есть еще сила обстоятельств, которые никто не может прогнозировать, будь то неудачная попытка консорциума немецких банков спасти Danatbank, ключевую финансовую организацию Германии, в 1931 году или отказ Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании банку Barclays купить некоторые активы Lehman Brothers в тот роковой выходной в 2008 году. Кризисы, как и Первая мировая война, могут быть непредвиденным результатом специфических решений, принятых без осознания их широких последствий. Они могут возникнуть не только из-за системных факторов, но и из-за человеческого фактора – из-за безудержного честолюбия и сомнительных моральных принципов таких людей, как Роджерс Колдуэлл, которого в 1920-х часто называли южным Дж. П. Морганом, или как Адам Эпплгарт – спортивного, слишком уверенного в себе молодого банкира, который пустил Northern Rock, бывший малоизвестный строительный кооператив в Британии, по пути неустойчивого роста. Их действия не только привели к краху возглавляемых ими компаний, но и подорвали основы финансовой системы. Похожим же образом, если бы Бенджамин Стронг, суперкомпетентный президент Федерального резервного банка Нью-Йорка, не ушел из жизни в 1928 году или Жан-Клод Трише не стал президентом Европейского центрального банка в результате франко-германской договоренности в 1999 году, монетарная политика могла бы развиваться по другому сценарию. И этот сценарий мог бы быть более удачным.
Также, в свете «счастливой истории», беспокоит и тот факт, что эта политика была не более эффективной и в плане сдерживания финансового краха, ограничения роста безработицы и поддержки мощного восстановления. Рынок субстандартного ипотечного кредитования рухнул в середине 2007 года, а рецессия в США началась в декабре того же года. Однако очень немногие эксперты (если таковые вообще были) могли предвидеть, насколько серьезно пострадает финансовая система. Они не понимали, насколько сильно будут затронуты производство и занятость. Великая депрессия была, прежде всего, банковским и финансовым кризисом, однако память об этом опыте не дала чиновникам достаточно информации и сил, чтобы предотвратить очередной банковский и финансовый кризис.
Возможно, само убеждение в том, что именно банковские крахи трансформировали обыкновенную рецессию в Великую депрессию, заставило власти ошибочно сфокусироваться на коммерческих банках, вместо того чтобы заниматься так называемой теневой банковской системой – хедж-фондами, фондами денежного рынка и эмитентами коммерческих бумаг. Базельское соглашение, устанавливающее стандарты для капитала международных финансовых организаций, делало упор на коммерческих банках[1]. Другие нормы также в основном касались коммерческих банков.
Более того, сфера действия страхования вкладов была ограничена коммерческими банками. Поскольку массовое изъятие вкладов физическими лицами, которое дестабилизировало банки в 1930-х, привело к созданию федеральной системы страхования вкладов, существовала убежденность, что массового оттока вкладов можно было уже не опасаться. Все видели фильм «Эта прекрасная жизнь» и предполагали, что современный банкир никогда не окажется в положении Джорджа Бейли. Однако страховая компенсация в 100 000 долл. была слабым утешением для компаний, балансы которых во много раз ее превышали. Она никак не способствовала стабилизации положения банков, которые существовали не за счет депозитов, а за счет заимствования огромных сумм у других банков.
Также страхование вкладов не создало доверия к хедж-фондам, фондам денежного рынка и специализированным инвестиционным компаниям. Оно никак не помогло предотвратить такую же панику, как и в 1930-х, в этих новых и инновационных сферах финансовой системы. Поскольку история Великой депрессии была призмой, через которую власти рассматривали события, они упустили из вида, насколько глубоко изменилась финансовая система. Пока они фокусировались на реальных и непосредственных угрозах, они просмотрели другие угрозы.
В частности, они не учли, к каким последствиям приведет крах Lehman Brothers, который они допустили. Lehman не был коммерческим банком. Он не принимал депозиты. Поэтому было невозможно представить, что его крах может ускорить массовое изъятие вкладов из других банков, подобно тому как банкротство банков Guardian Group Генри Форда в 1933 году привело к массовому изъятию вкладов.
Но это было неправильным пониманием характера теневой банковской системы. Инвестиционные фонды денежного рынка были держателями краткосрочных обязательств Lehman Brothers. Когда Lehman Brothers обанкротились, испуганные акционеры стали выводить деньги из этих денежных фондов. Это, в свою очередь, ускорило вывод крупными инвесторами средств из материнских банков этих денежных фондов. А затем привело к краху уже и так шатающихся рынков секьюритизации.
Позже секретарь Казначейства США Генри Полсон станет утверждать, что у них не было достаточно полномочий для кредитования неплатежеспособной организации типа Lehman Brothers, а также механизмов, чтобы безболезненно закрыть ее. Неконтролируемое банкротство было единственным выходом. Однако вряд ли проблемы Lehman стали неожиданностью. Регуляторы наблюдали за ним с самого момента спасения Bear Stearns – еще одного важного члена инвестиционно-банковского братства – шестью месяцами ранее. То, что Министерству финансов и ФРС не предоставили полномочий для решения проблем с неплатежеспособностью небанковской финансовой организации, стало единственным серьезным провалом кризисной политики. В 1932 году «Финансовой корпорации реконструкции», созданной для решения проблем банков страны, тоже не хватило полномочий для вливания капитала в неплатежеспособную финансовую организацию. Это ограничение было ослаблено только тогда, когда грянул кризис 1933 года, и Конгресс принял Чрезвычайный закон о банках. Председатель ФРС Бернанке и другие, скорее всего, знали об этой истории, однако это не изменило хода событий.
Частично этот провал объяснялся убеждением (также неверно сформированным из уроков истории), что последствия краха Lehman Brothers могли быть не очень серьезными. Однако он также отражал и озабоченность властей моральными рисками, поскольку спасение банков могло стимулировать принятие ими более серьезных рисков[2]. Из-за спасения Bear Stearns власти уже подверглись серьезной критике за создание моральных рисков. Позволить Lehman Brothers обанкротиться было способом признания этой критики. Ликвидационизм – идея, которая, по словам Эндрю Меллона, секретаря Казначейства при президенте Гувере, заключалась в том, что банкротства были необходимы для очистки прогнившей системы, возможно, и впала в немилость из-за катастрофических последствий в 1930-х, однако в более слабой форме она еще частично присутствовала.
И наконец, власти понимали, что любая попытка предоставить Министерству финансов и ФРС дополнительные полномочия встретит сопротивление Конгресса, который уже порядком подустал от «спасательных операций». Также ей будут противиться и республиканцы, которые отрицательно относятся к государственному вмешательству в любых формах. К сожалению, чтобы заставить политиков действовать, нужен был полномасштабный банковский и финансовый кризис, как в 1933 году.
И только после банкротства Lehman Brothers власти осознали, что они находились на грани очередной Депрессии. Лидеры промышленно развитых стран выпустили совместное заявление, что не допустят банкротства ни одной системообразующей финансовой организации. Конгресс США неохотно принял Программу выкупа проблемных активов для спасения банковской и финансовой системы. Одно за другим правительства предпринимали шаги по предоставлению капитала и ликвидности находящимся в сложном положении финансовым организациям. Были анонсированы масштабные программы по налогово-бюджетному стимулированию. Центральные банки «наводнили» финансовые рынки ликвидностью.
И все же результаты этих инициатив решительно нельзя было назвать триумфальными. Восстановление после кризиса в США было апатичным и разочаровывало во всех отношениях. В Европе дела обстояли еще хуже – ее накрыла вторая волна рецессии, а в 2010 году вновь начался кризис. Это было совсем не похоже на успешное и стремительное восстановление, обещанное теми, кто выучил уроки истории.
Некоторые утверждали, что восстановления после спадов, обусловленных финансовыми кризисами, неизбежно требуют больше времени, нежели восстановления после рядовых рецессий[3]. Рост происходит медленно из-за ущерба, нанесенного финансовой системе. Банки, озабоченные восстановлением своих балансов, неохотно выдают кредиты. Домохозяйства и компании, аккумулировавшие неподъемно высокую задолженность, ограничивают свои расходы, поскольку пытаются снизить долговую нагрузку до приемлемых уровней.
Однако правительство может предпринять шаги и в другом направлении. Оно может выдавать кредиты, когда их не выдают банки. Оно может оплачивать некоторые расходы населения и компаний. Оно может предоставлять ликвидность без риска роста инфляции, учитывая спад в экономике. Оно может позволить себе дефицит бюджетов, не создавая долговые проблемы, поскольку при неблагоприятных экономических условиях преобладают низкие процентные ставки.
И оно может это делать до тех пор, пока население, банки и фирмы не будут готовы существовать в обычном режиме. В период между 1933 и 1937 годами годовые темпы роста реального ВВП в США составляли 8 %, хотя правительство справлялось со своими задачами довольно посредственно. Для сравнения: в период между 2010 и 2013 годами рост ВВП составлял в среднем всего 2 %. Но это не значит, что рост после 2009 года мог быть в четыре раза выше. Насколько быстрым может быть рост, зависит также и от глубины падения в предшествующий период. Однако и американская экономика, и другие мировые экономики могли бы продемонстрировать более оптимистичные результаты.
Тем не менее не секрет, почему этого не случилось. Начиная с 2010 года США и Европа взяли курс на жесткую экономию. Расходы по Плану американского восстановления и реинвестирования (программа стимулирования экономики Барака Обамы) достигли максимального уровня в 2010 финансовом году, а затем неуклонно падали. Летом 2011 года администрация Обамы и Конгресс договорились о снижении расходов на 1,2 трлн долл. в течение десяти лет. В 2013 году закончился срок действия программы Буша по снижению налогов для состоятельных американцев, программы по снижению взносов сотрудников в Фонд социального обеспечения, а на страну обрушился Секвестр – снижение правительственных расходов на 8,5 %. Все это «откусило» большой кусок от совокупного спроса и экономического роста.
В Европе уклон в сторону жесткой экономии был более резким. Греции, где расходы были бесконтрольными, несомненно, требовались масштабные меры по экономии. Однако стабилизационная программа, которую страна начала в 2010 году под пристальным наблюдением Еврокомиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда, была беспрецедентной по своему масштабу и жесткости. Она потребовала от греческого правительства сократить расходы и повысить налоги на целых 11 % ВВП за три года – то есть, по сути, сократить десятую часть расходов всей греческой экономики. Еврозона в целом умеренно сократила бюджетные дефициты в 2011 году, а затем резко – в 2012 году, несмотря на тот факт, что она снова была в рецессии и другие формы расходов почти отсутствовали. Даже Великобритания, которая обладала гибкостью благодаря использованию национальной валюты и наличию национального центрального банка, начала амбициозную программу бюджетной консолидации, сократив государственные расходы и повысив налоги в совокупности на 5 % ВВП.
Центральные банки, предприняв множество исключительных шагов во время кризиса, также стремились вернуться к обычному режиму работы. ФРС провела несколько раундов количественного смягчения – многомесячных закупок казначейских облигаций США и ипотечных ценных бумаг – однако не решилась расширить объем этих закупок, хотя уровень инфляции и не достиг целевого показателя в 2 %, а рост продолжал разочаровывать. Разговоры о сокращении этих закупок осенью и летом 2013 года привели к резкому росту процентных ставок. Такое «лекарство» явно не способствовало бы выздоровлению экономики, которая все еще не могла выйти на темпы роста в 2 %.
И если ФРС не хотела идти дальше, ЕЦБ не терпелось отступить. В 2010 году он пришел к преждевременному заключению, что восстановление не за горами, и начал постепенно сокращать антикризисные меры. Весной и летом 2011 года он дважды повысил процентные ставки. Этого достаточно, чтобы понять, почему европейская экономика, вместо того чтобы восстановиться, испытала очередной спад.
Какие уроки, исторические и иные, объясняют такой необычный ход событий? С точки зрения центральных банков это, как всегда, был прочно укоренившийся страх инфляции. Наиболее глубоким этот страх был в Германии, которая не забыла о гиперинфляции в 1923 году. Страх Германии транслировался на европейскую политику, учитывая, что структура ЕЦБ напоминала структуру Бундесбанка, а его французский президент Жан-Клод Трише старался продемонстрировать, что он является таким же ярым сторонником борьбы с инфляцией, как и любой немец.
США не прошли через гиперинфляцию ни в 1920-х, ни в какое-либо другое время, если уж на то пошло, однако взвинченные комментаторы не переставали предупреждать о том, что Веймар не за горами. Уроки 1930-х, заключавшиеся в том, что, когда экономика находится на грани депрессии, процентные ставки нулевые, а мощности простаивают, центральные банки могут увеличивать свои балансы без риска раздуть инфляцию, были упущены из вида. Опытные руководители центральных банков, такие как председатель ФРС Бен Бернанке и по крайней мере несколько его коллег в Комитете по операциям на открытом рынке ФРС, понимали в этом больше. Однако, несомненно, они находились под влиянием критики. Чем более истеричными были комментарии, тем громче в Конгрессе звучали обвинения в обесценивании валюты в адрес ФРС. Тем больше президенты ФРС боялись за свою независимость. Они торопились начать сокращать баланс ФРС до более стандартных уровней, в то время как экономика еще не пришла в более или менее нормальное состояние.
Эта критика стала более интенсивной, когда нетрадиционная политика «довела» центральные банки до рынков, где им было не место, таких как рынок ипотечных ценных бумаг. Чем дольше ФРС покупала ипотечные ценные бумаги – а она продолжала это делать и в 2014 году, – тем больше критики жаловались, что эта политика способствует раздуванию очередного пузыря на рынке недвижимости и в конечном итоге приведет к очередному краху. Этот страх стал символом опасений, что низкие процентные ставки стимулируют избыточное принятие рисков. Конечно же эти опасения носили тот же характер моральных рисков, что и те, которые привели к губительному решению не спасать Lehman Brothers. В случае с ЕЦБ опасения в отношении моральных рисков сконцентрировались не вокруг рынков, а вокруг политиков. Действия центральных банков по поддержке роста просто сняли бы давление с правительств, сохраняя перегрев на рынках, откладывая реформы и накапливая риски. ЕЦБ позволил загнать себя в угол, где ему пришлось стать воплотителем бюджетной консолидации и структурных реформ. А такая роль противоречила задачам экономического роста.
Что касается бюджетной политики, стимулирование было не таким масштабным, поскольку далеко не все, что было обещано, выполнялось – то ли потому, что политики были склонны давать слишком щедрые обещания, то ли потому, что экономика испытала гораздо более серьезный шок, чем считалось. Было невозможно сказать, настолько ли плохи были условия по сравнению с теми, какими они могли бы быть без такой политики. Было невозможно сказать, стоит ли проводить среднесрочную консолидацию или поддерживать спрос в краткосрочной перспективе. Было невозможно сказать, в каких случаях стоило проводить бюджетную консолидацию в странах с огромным дефицитом и долгами, как Греция, а в каких еще оставался простор для маневров, как, например, в Германии и США. Таким образом, тут действовала целая комбинация факторов. Но одна черта была общей для всех – отсутствие желаемого результата.
Можно было бы многому научиться в плане бюджетного стимулирования от Джона Мейнарда Кейнса и других ученых, чьи работы были вдохновлены Великой депрессией, но тоже были забыты. Тогда как Кейнс в основном полагался на повествовательные методы, его последователи для обоснования своих интуитивных знаний использовали математику. В конечном итоге эта математика зажила своей жизнью. Современные ученые использовали модели репрезентативных агентов, рациональных агентов и дальновидных агентов, частично из-за удобства манипулирования ими, частично из-за их простоты. В моделях рациональных агентов, которые эффективно максимизируют все, мало что может пойти не так, если только правительство не будет этому способствовать. Этот тип моделирования предполагал, что правительственное вмешательство является как причиной кризиса, так и причиной медленного восстановления. Вмешательство спонсируемых государством организаций типа Freddie Mac и Fannie Mae рассматривалось как причина ускорившего кризис перегрева на ипотечном рынке, а неопределенность в отношении государственной политики – как причина медленного восстановления.
Следуя той же логике, видимо, стоит считать, что и бюджетное стимулирование, также являясь формой государственного вмешательства, ничего хорошего принести не могло. Экономисты, развивающие эти идеи, инициировали модели, согласно которым население, зная, что дополнительные бюджетные расходы сейчас означают повышение налогов в будущем, сокращало свои расходы[4]. Такая логика предполагала, что временное бюджетное стимулирование может оказаться менее эффективным, чем обещали сторонники учения Кейнса. Но даже эти модели не предполагали, что временные стимулирующие меры не окажут никакого позитивного влияния[5]. Тем не менее «пресноводные» экономисты, называемые так из-за того, что они в основном концентрировались в штатах, примыкающих к Великим озерам, поспешили сделать такой вывод. Афоризм Джорджа Бернарда Шоу о том, что, если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут далеки от решения вопроса, здесь как нельзя более уместен. Неспособность ученых договориться даже в отношении самых базовых принципов экономической политики ослабила интеллектуальную составляющую, необходимую для эффективных действий.
В Европе, тем не менее, кейнсианская теория почти не прижилась. Вышедшие из-под контроля бюджеты и инфляция времен Веймара заставили немецких экономистов очень скептически относиться к финансированию дефицитов. Они утверждали, что правительство вместо этого должно сконцентрироваться на укреплении контроля над исполнением контрактов и стимулировании активной конкуренции[6]. Это была более продуманная позиция, нежели просто «правительство – это плохо, а частный сектор – хорошо», которой придерживались экономисты, проживающие вокруг Великих озер. Но эта позиция также не очень одобряла бюджетное стимулирование и поддерживала ранний переход к режиму жесткой экономии.
Если теория сомнительной обоснованности и сыграла свою роль в этом изменении политики, то и эмпирический анализ сомнительной универсальности тоже. Два американских экономиста представили доказательства, что рост начинает замедляться, когда государственный долг достигает 90 % ВВП[7]. Хотя никто и не оспаривал, что высокая задолженность оказывает давление на экономический рост, идея о том, что при 90 % рост резко замедляется, была сразу же поставлена под сомнение. Однако, поскольку государственный долг в США и Великобритании стремительно приближался к этой красной отметке, а в еврозоне соотношение «долг/ВВП» ее превысило, сторонникам быстрого перехода к режиму жесткой экономии очень удобно было приводить эту теорию в качестве аргумента. То, что было ошибочно охарактеризовано как «правило 90 %», неоднократно использовалось европейским комиссаром по экономике и монетарной политике Олли Реном для оправдания политики Европейского союза.
Два итальянских экономиста тем временем представили доказательства, что режим жесткой экономии, особенно если он основывается на снижении государственных расходов, а не на повышении налогов, может иметь противоречащий кейнсианской теории стимулирующий эффект[8]. Такие результаты были вполне правдоподобными для экономики типа Италии в 1980-х и 1990-х, характеризовавшейся огромными долгами, высокими процентными ставками и большими налогами. В этих обстоятельствах снижение государственных расходов могло способствовать укреплению уверенности, что, в свою очередь, могло подстегнуть инвестиции и стимулировать экспорт. Но как бы правдоподобны эти прогнозы ни были для Италии, для стран с низкими долгами они были не такими убедительными. Они не были убедительными, когда процентные ставки приближались к нулю. Они не были убедительными для страны, которая, являясь членом еврозоны, не имела своей национальной валюты, которую можно было бы девальвировать, и не могла оперативно заменить внутренний спрос экспортом. И они не были убедительными, когда почти все развитые экономики находились в плачевном состоянии, так что экспортировать было и некому.
Однако это не помешало конгрессмену Полу Райану (самопровозглашенному эксперту по дефициту в Нижней палате Конгресса США) стать сторонником доктрины стимулирующей бюджетной консолидации во всей ее кажущейся универсальности. Это не помешало министрам финансов ЕС ссылаться на нее в своих пресс-конференциях и коммюнике после саммита. Идея о том, что бюджетная консолидация может производить стимулирующий эффект, позволила политикам утверждать, что режим жесткой экономии будет иметь только положительные последствия. То, что реальность доказала совсем обратное, стало неприятным сюрпризом для всех, кроме тех, для кого целью была жесткая экономия сама по себе, независимо от ее последствий.
Однако самым главным итогом этого поворота к режиму жесткой экономии стало то, что властям удалось предотвратить самое худшее. Им удалось избежать очередной Великой депрессии. Они могли заявить, что критическая отметка позади. Теперь они могли обратить внимание на призыв вернуться к обычной политике. Тем ироничнее, что их успех в предотвращении экономического коллапса по типу 1930-х привел их к провалу в плане поддержки более стремительного восстановления.
И то, что можно было сказать о макроэкономической политике, можно было сказать и о финансовой реформе. В США Великая депрессия привела к Закону Гласса – Стиголла, разделившим понятия инвестиционного и коммерческого банка. Она привела к созданию Комиссии по ценным бумагам и биржам, которая должна была сдерживать перегрев на финансовых рынках. Теперь звучали призывы к новому Закону Гласса – Стиголла, поскольку предыдущий закон перестал действовать в 1999 году, однако ничего, даже отдаленно напоминающего такую радикальную реформу регулирования, не предвиделось. Закон Додда – Франка о защите прав потребителей в области финансовых продуктов и сервисов от 2010 года содержал некоторые более или менее успешные меры – от ограничений на спекулятивные операции для финансовых институтов до создания Бюро по финансовой защите потребителей. Однако большие банки не были расформированы. Вопреки всем заявлениям, почти ничего не было сделано для решения проблемы «слишком большой, чтобы обанкротиться». Не происходило ничего похожего на фундаментальную перестройку финансового ландшафта, которая произошла в результате принятия Закона Гласса – Стиголла, когда в один момент услуги коммерческих банков, андеррайтинга и страхования были разделены.
Фундаментальным объяснением этой разницы вновь может служить успех властей в предотвращении самого худшего. В 1930-х глубина Депрессии и коллапс банков и финансовых рынков полностью дискредитировали действующий режим. Теперь же, напротив, депрессии и финансового краха удалось избежать, хоть и почти чудом. Это создало впечатление, что недостатков у действующего режима было меньше. Поэтому аргументов в пользу радикальных действий было тоже меньше. Паруса реформаторов поникли, и небольшие разногласия, которые были у политиков, замедлили проведение реформ. Таким образом, успех стал источником провала.
Но с какими бы трудностями Америка ни столкнулась, пока две ее политические партии никак не могли договориться по поводу реформы регулирования, они не шли ни в какое сравнение с трудностями, которые испытывала Европа. В то время как для реформы в США требовалось лишь согласие двух партий, в ЕС требовалось согласие 27 правительств. И, разумеется, хотя все правительства были равны, некоторые, как, например, в Германии, были чуть равнее, чем остальные. Но даже в этой оруэлловской Европе небольшие страны могли доставить неприятности, если они отказывались сотрудничать, как, например, Финляндия, когда встал вопрос о помощи Испании через Европейский стабилизационный механизм (фонд финансовой поддержки). Реформа может требовать согласия стран как внутри еврозоны, так и за ее пределами, как, например, в случае с мерами по ограничению бонусов для банковских работников, которые были заблокированы, когда Великобритания обратилась в Европейский суд, оспаривая планируемые ЕС изменения в выплате и регулировании бонусов.
Ничто не олицетворяет эти трудности так хорошо, как борьба за банковский союз. После введения евро европейские банки стали еще более тесно связанными друг с другом. Но эти банки и их национальные регуляторы не приняли во внимание влияние своих действий на соседние банки и страны. Кризис доказал, что единая валюта и единый финансовый рынок при наличии 27 отдельных национальных банковских регуляторов – провальная идея. Единственным решением мог стать единый надзорный орган, единая схема страхования депозитов и единый механизм санации проблемных банков. Создание банковского союза во всей его полноте считалось необходимым условием для восстановления доверия к институтам ЕС.
Летом 2012 года, на самом пике кризиса, европейские лидеры договорились об учреждении банковского союза. Они договорились создать единый орган надзора, уполномоченный контролировать банки. Однако этот процесс забуксовал. Страны, имеющие сильные банковские системы, не решались передавать надзорные полномочия централизованному органу. Другие страны жаловались, что их банки и вкладчики будут делать взносы в общий фонд страхования, чтобы спасти вкладчиков из стран со слабыми финансовыми институтами. Нашлись и те, которые возражали против того, чтобы их налогоплательщики фондировали работу общего надзорного органа. Единственное, что было общего у этих трех групп, это… Германия, канцлер которой, Ангела Меркель, потребовала пересмотра всех соглашений ЕС для уточнения того, как эти механизмы будут работать и, в частности, как они будут финансироваться. Но на пересмотр соглашений не решались другие правительства, поскольку это требовало одобрения парламентов и в некоторых случаях общественных референдумов, в ходе которых самые базовые договоренности ЕС могли быть подвергнуты сомнению.
Европейские лидеры, таким образом, согласились, что лучше мало, чем ничего. Было решено создать единый надзорный орган, но ограничить его полномочия 130 крупнейшими европейскими банками, а создание единой схемы страхования депозитов и механизма санации банков оставить на потом[9].
Это показало, как трудно договориться сразу 27 странам ЕС. Но также это показало, что ЕС сделал достаточно, чтобы сохранить единый монетарный союз. Через экстренные займы и создание механизмов ЕЦБ для выкупа облигаций проблемных правительств он сделал ровно столько, сколько нужно было для предотвращения распада системы евро. Этот успех, в свою очередь, снял необходимость в экстренном создании банковского союза. Таким образом, этот успех тоже стал источником провала.
То, что Европе во время кризиса удалось сохранить монетарный союз и не дать евро повторить судьбу золотого стандарта в 1930-х, стало для многих большой неожиданностью. В конце 1920-х золотой стандарт рассматривался как гарантия экономической и финансовой стабильности, поскольку то десятилетие, когда он был временно отменен (с 1914 по 1924 год), было отмечено всем чем угодно, кроме экономической и финансовой стабильности. Однако время показало, что золотой стандарт, к которому попытались вернуться после Первой мировой войны, нельзя было назвать ни долговечным, ни стабильным. Вместо того чтобы предотвратить финансовый кризис 1931 года, он активно способствовал его развитию, сначала создавая ложное впечатление стабильности, которое позволило огромному количеству кредитных ресурсов уйти в страны, мало приспособленные для их «переваривания», а затем, ограничивая возможности правительства, принимать какие-то меры. Результатом этого стали массовые снятия вкладов и кризисы платежных балансов, поскольку инвесторы стали сомневаться в способности властей защищать национальные банки и валюты. Уход от золотого стандарта позволил странам вновь обрести контроль над судьбами своих экономик. Также страны смогли печатать деньги, когда это было необходимо. Они смогли поддерживать свои банковские системы. Они смогли предпринимать другие меры по борьбе с Депрессией.
Архитекторам системы евро была известна эта история. Сходство было тем более сильным, учитывая, что подобная история повторилась не так давно – в 1992–1993 годах, когда рухнул механизм регулирования валютных курсов, посредством которого европейские валюты были связаны, как цепочки альпинистов. Поэтому было решено создать более крепкую валютную систему. Она будет основана на единой валюте, а не на искусственно поддерживаемых курсах отдельных национальных валют. Девальвация национальных валют будет невозможной, поскольку национальных валют больше не будет. Эта система евро будет регулироваться не национальными центральными банками, а наднациональным органом – ЕЦБ.
Важно отметить, что в соглашении об учреждении монетарного союза не содержалось бы положения о выходе из него. В 1930-х страна могла отказаться от золотого стандарта через односторонний акт, подписанный национальным законодательным органом или парламентом. Для сравнения: отказ от евро представлял бы собой отказ от договорных обязательств и поставил бы под угрозу репутацию страны среди ее партнеров по ЕС.
Но избежав некоторых проблем золотого стандарта, архитекторы евро создали другие. Создав мираж стабильности, система евро отпустила масштабные потоки капитала по направлению к странам Южной Европы, которые не способны были справиться с ними, так же как и страны в 1920-х. Когда эти потоки поменяли направление, неспособность центральных банков печатать деньги, а национальных правительств – занимать их приговорила экономики к глубоким рецессиям, совсем как в 1930-х. Назрела необходимость что-то делать. Правительства, которые бездействовали, начали терять поддержку. Все чаще и чаще звучали предостережения, что евро повторит судьбу золотого стандарта – правительства проблемных стран откажутся от евро. А если они не решатся этого сделать, их заменят другие правительства и лидеры, готовые действовать. В худшем случае под угрозой может оказаться сама демократия.
Оказалось, что это было неправильным прочтением уроков истории. В 1930-х, когда правительство отказалось от золотого стандарта, международная торговля и кредитование уже рухнули. На этот раз европейским странам удалось избежать такой судьбы. Следовательно, евро нужно было отстаивать, чтобы сохранить единый рынок и внутриевропейскую торговлю. В 1930-х политическая солидарность была еще одной ранней жертвой Депрессии. Невзирая на трудности кризиса, на этот раз правительства продолжали консультироваться и сотрудничать. Страны ЕС, занимающие прочное экономическое и финансовое положение, предоставляли кредиты своим слабым европейским партнерам. Эти кредиты могли бы быть и больше, однако по сравнению со стандартами 1930-х они все равно были большими.
Наконец, кризис демократии, предсказываемый теми, кто ждал краха евро, не материализовался. Были манифестации, в том числе и с применением силы. Правительства уходили в отставку. Однако демократия выжила, в отличие от 1930-х. «Кассандры» коллапса не учли развитую социальную систему и социальные гарантии, созданные в ответ на Депрессию. Даже когда уровень безработицы превысил 25 %, как в наиболее затронутых кризисом странах Европы, наблюдаемые убытки оказались меньше. Это уберегло от неблагоприятных политических последствий. Это ослабило давление на действующую систему.
То, что опыт Великой депрессии сформировал восприятие и реакцию на Великую рецессию, общеизвестно. Но чтобы понять, как этот опыт был использован – и не использован, надо пристально взглянуть не только на Депрессию, но и на события, предшествовавшие ей. А значит, надо начать с начала, а именно с 1920 года.
Часть I. Лучшие времена
Глава 1. Экономика новой эры
Рост пять футов четыре дюйма, круглое лицо… Чарльз Понци вряд ли представлял собой впечатляющую фигуру. Он приехал в США из города Пармы (Италия) в 21 год, и его английский совсем не напоминал язык американского финансиста-аристократа. Однако, несмотря на маленький рост, Понци займет заметное место в литературе по финансовым кризисам. Со временем выражение «схема Понци» станет неотъемлемым атрибутом лексикона финансовой нестабильности, так же как и «пут-опцион Гринспена» и «этап Lehman Brothers».
Как бы то ни было, Понци сделал себе имя при помощи арбитражных сделок на рынке международных ответных купонов. Эти инструменты были созданы в 1906 году по соглашению, принятому на конгрессе Всемирного почтового союза, который проводился, по любопытному стечению обстоятельств, в Италии. Они были задуманы как способ пересылки родственникам или другим партнерам по переписке за рубежом средств, на которые получатель мог купить марки и отправить ответ.
Конгресс 1906 года проводился в эпоху золотого стандарта, когда обменные курсы были фиксированными. В связи с этим можно было не опасаться, что колебания валютных курсов создадут какие-то сложности для отправителей таких ответных купонов. Но с началом Первой мировой войны правительства наложили эмбарго на экспорт золота. Раньше стабильность обменных курсов поддерживалась за счет покупки золота там, где оно было дешевым, и продажи – там, где оно было дорогим. После введения эмбарго, которое, по сути, приостановило сделки на рынке золота, обменные курсы начали колебаться друг относительно друга.
Непредвиденные последствия этих событий сказались и на ответных купонах. США фактически оказались единственной страной, которая продолжала использовать золотой стандарт во время и после войны. Европейские валюты дешевели по отношению к доллару, поскольку правительства печатали деньги, чтобы финансировать военные расходы, и этот тренд только частично был преодолен после прекращения военных действий. Одно из непредвиденных последствий заключалось в том, что ответные купоны, приобретенные за рубежом с использованием европейских валют, могли быть обменяны на большую стоимость, чем стоимость марок, которые на них можно было купить в США. В 1919 году, почувствовав возможность заработать, Понци занял деньги у вдохновленных идеей деловых партнеров и отправил их своим итальянским контактам с инструкцией покупать ответные купоны и отправлять их ему в Бостон.
Почему только Понци мог предусмотреть эту возможность, мягко говоря, непонятно. Неудивительно, что появление существенной прибыли было иллюзией. Контакты Понци смогли собрать лишь ограниченное число купонов. И даже тогда завершение сделки потребовало времени, в течение которого средства, предназначенные для проекта, были заморожены.
А вот как раз времени у Понци было не так уж много, поскольку он обещал удвоить суммы, вложенные инвесторами, за 90 дней. Чтобы выплачивать эти «дивиденды», он был вынужден использовать капитал, полученный от новых инвесторов, из-за чего средств на арбитраж по почтовым купонам, который лежал в основе схемы, не оставалось. Это, в свою очередь, вынуждало его привлекать новых инвесторов, что Понци сделал, учредив компанию с впечатляющим названием Securities Exchange Company (Компания по обмену ценных бумаг) и наняв целый взвод торговых представителей. Она рухнула в августе 1920 года после публикации в Boston Post разоблачительной статьи, написанной Уильямом МакМастерсом, журналистом, которого Понци нанял, чтобы делать рекламу его бизнесу[10].
То, что обещание Понци удвоить деньги инвесторов за 90 дней не вызвало подозрений, во многом говорит о готовности инвесторов заглушить свою недоверчивость в бурной финансовой атмосфере 1920-х. Тут сложно не провести параллель с неспособностью инвесторов в такие же бурные 2000-е заподозрить неладное в способности Бернарда Мейдоффа генерировать суперприбыль практически без какой-либо волатильности фонда год за годом.
Понци был обвинен в мошенничестве с использованием почты и приговорен к 3,5 годам в федеральной тюрьме. Однако инвесторов в Новой Англии было не так легко успокоить. Еще находясь в тюрьме, Понци был осужден судом штата Массачусетс по 22 обвинениям в незаконном присвоении имущества. Не имея средств для судебной защиты, ответчик выступал в роли собственного адвоката, и сначала более чем успешно. Однако когда суды начали следовать один за другим, он устал. Первый суд его оправдал, второй – не пришел к единому мнению, а третий – признал ответчика виновным. После освобождения под залог Понци бежал в захолустный городок Джексонвилл в штате Флорида, где начал делать бизнес под вымышленным именем.
В 1925 году, когда он приехал, заниматься бизнесом во Флориде означало проводить сделки с недвижимостью. Понци начал заниматься разделом земельных участков недалеко от Джексонвилла. «Недалеко» в данном случае означало 65 миль к западу от города, где Понци начал разрабатывать, в самом широком значении этого слова, большую территорию земли, заросшую карликовыми пальмами, сорняками и редкими дубами. Под разделом понималось вбивание колышков в землю, чтобы помочь будущим домовладельцам установить границы своих покупок. Когда участки были размечены, по 23 участка на акр, каждый участок предлагался за 10 долл.
Капитал, необходимый для покупки, межевания и разметки участков, предоставлялся инвесторами созданной Понци Charpon (Charles-Ponzi) Land Corporation. Инвесторам было обещано, что они получат 30 долл. на каждые 10 долл. инвестиций – это еще более впечатляющая прибыль, чем по используемой ранее схеме с ответными купонами. Конечно же эта новая затея была ничем иным, как очередной пирамидой, в которой деньги первым инвесторам уплачивались за счет средств, полученных от продажи долей новым инвесторам. Мошенничество вскоре было обнаружено, а личность преступника раскрыта. Понци был обвинен в нарушении законодательства Флориды в области трастов, привлечен к суду и признан виновным присяжными равного с ним статуса[11].
То, что Понци, приехав во Флориду, нашел себя в сфере недвижимости, не было совпадением, поскольку именно эта сфера во Флориде в то время переживала бум, подобного которому США еще не видели.
В стране уже и раньше были подъемы и спады на рынке недвижимости, но тогда в центре внимания были сельскохозяйственные земли. В этот раз впервые огромный спрос наблюдался на городские, а точнее – на пригородные земли, из-за распространения автомобилей. Поскольку все больше американцев приобретало дешевые и надежные автомобили, типичным представителем которых был Ford T Генри Форда, стало возможно жить в пригородах. И поскольку Флорида стала «ближе» к гостям с севера, имевшим автомобили, ее умеренный климат и дешевая земля стали невероятно заманчивыми. Жителей северных штатов, которые впервые приехали зимой 1920–1921 года, называли «консервными туристами» за их, мягко говоря, неэлегантный транспорт, который иногда также служил и временным пристанищем[12].
Агенты по недвижимости, многие из которых тоже были автомобилистами, быстро сообразили, что к чему. Карл Фишер, который вместе со своими братьями учредил Prest-O-Light Corporation, а затем Fisher Body, чтобы поставлять ацетиленовые фары и кузова для зарождающейся автомобильной промышленности, оказался как раз таким шустрым дельцом. Фишер впервые обнаружил полуостров, который впоследствии станет известным как Майами-Бич, в 1910 году во время медового месяца на яхте со своей 15-летней невестой. На последних этапах переговоров о продаже Presto-O-Light компании Union Carbide он вполне мог позволить себе купить роскошный загородный дом в заливе Бискайн, отделяющем город Майами от Майами-Бич.
Однако уходить на покой Фишеру, которому еще не исполнилось и 40 лет, не хотелось. К 1913 году он занялся недвижимостью. К 1915 году он стал ведущим девелопером в регионе. И когда недвижимости не хватало, Фишер создавал дополнительную. Он перевез землечерпальное оборудование в залив Бискайн и добывал песок для удлинения пляжа. Уилл Роджерс, как обычно, выразился лучше всех. «Карл обнаружил, что песок мог поддержать недвижимость, и это все, что ему было нужно. Карл отвозил клиентов на лодке в океан и давал им выбрать кусок океана с красивой и гладкой водой, где бы они хотели построить дом, а затем насыпал в воде остров, и вот они уже были Робинзонами Крузо»[13].
Чтобы укрепить связь между автомобилями и недвижимостью Флориды, Фишер продвигал проект строительства скоростной магистрали Dixie, соединявшей штат с севером Среднего Запада США. Он основал Dixie Highway Association. Он засыпал газеты статьями, чествовавшими проект. Он уладил конфликты между соперничающими городами, которые хотели, чтобы через них пролегал маршрут, разделив магистраль на восточную и западную ветки. Ни одна жертва не была слишком большой, чтобы обеспечить желаемые транспортные потоки.
Несомненно, и другие факторы тоже способствовали стремительному росту рынка недвижимости Флориды, в том числе и мощное восстановление американской экономики от послевоенной рецессии и вера в то, что рост теперь будет постоянно ускоряться. Также в 1920-х произошла революция в устройстве предприятий – теперь на пользу производства работала электроэнергия. Предприятия традиционно использовали паровую энергию, распространяемую через систему верхних приводных валов и кронштейнов. Электрификация позволила отказаться от паровых устройств, и для передвижения компоновочных узлов можно было установить мостовые краны. Электричество также позволило работникам использовать переносные электроинструменты и свободно передвигаться вдоль конвейера. Это увеличило их производительность по сравнению с их предшественниками, которые, почти так же как и паровое оборудование, на котором они работали, были, образно выражаясь, вмонтированы в пол. В этом плане электрификация упростила переход к методам научной организации труда, разработанным для оптимизации эффективности трудозатрат, в частности, через хронометрирование трудовых движений – пионером в этих исследованиях был консультант по управленческим вопросам Фредерик Уинслоу Тейлор.
Теперь можно было полностью реализовать потенциал сборочной линии, что и ознаменовало собой начало строительства Генри Фордом в 1917 году огромной автомобильной фабрики River Rouge Complex. Это, в свою очередь, обещало такие темпы роста производительности, какие не наблюдались раньше. Тот факт, что реальный ВВП в период с 1922 по 1929 год рос почти на 5 % в год – быстрее, чем когда-либо в США за сравнимый период времени, – казалось бы, подтверждал эту оптимистичную точку зрения.
Более быстрый рост производительности означал не просто более высокие доходы, но и более высокие цены на финансовые активы, по крайней мере, так заверяли инвесторов. В других сферах инвестиций наблюдалась такая же ситуация, как и в недвижимости. Ведущие корпорации, вошедшие в 1920-х в промышленный индекс Доу-Джонса, такие как American Telephone and Telegraph, Western Union, International Harvester и Allied Chemical, служили образцовыми примерами технологической революции. Здесь прослеживается очевидная параллель с событиями, предшествовавшими кризису 2008–2009, когда бытовало мнение, что рост производительности ускорится, поскольку компании научились извлекать коммерческую выгоду из новых информационных технологий. Хотя универсальной революционной технологией в 1920-х было электричество, а не компьютер, влияние на ожидания инвесторов было таким же.
Монетарная политика тогда подлила масла в огонь. Создание Федеральной резервной системы в 1913 году вселило веру в то, что нестабильность делового цикла, от которой традиционно страдала страна, была укрощена. ФРС было поручено предотвращать колебания процентных ставок, которые нарушали спокойствие финансовых рынков и экономической активности в предыдущие годы (через предоставление «эластичных денег» согласно формулировке закона о Федеральной резервной системе). Поскольку эта тактика имела шансы на успех, инвестиции могли бы стать более безопасными, что стимулировало бы спекулятивную активность. 1920-е годы были известны под названием «новая эра». Это отражало не только то, что страна вступила в новую эру более стремительного роста производительности, но и в эру большей экономической и финансовой стабильности. Примерно так впоследствии выглядело «великое успокоение», предполагаемое сокращение колебаний цикла деловой активности накануне кризиса 2008–2009 годов.
Хотя ФРС быстро освоила новые инструменты экономической политики, она применяла их не так, как ожидалось. Основоположники этой новой политики ожидали, что новый центральный банк будет адаптировать условия кредитования к потребностям отечественного бизнеса. Однако вместо этого регулятор, несколько неожиданно, адаптировал их с учетом зарубежной конъюнктуры. В середине 1924 года банки Федеральной резервной системы снизили процентные ставки, по которым они предоставляли кредиты коммерческим банкам («учетные ставки»), с 4,5 до 3 % с намерением помочь Великобритании вернуться к золотому стандарту[14]. (Основным способом предоставления кредитов экономике в то время был учет (дисконтирование) векселей, держателями которых являлись банки и компании – то есть покупка их со скидкой к их номинальной стоимости в обмен на денежные средства. Отсюда термин «учетная ставка»). Инфляция в Британии во время Первой мировой войны была более высокой, чем в США, что неблагоприятно сказалось на ее конкурентоспособности. Соответственно, страна не могла зафиксировать цену золота в фунтах стерлингов или восстановить традиционный обменный курс между фунтом стерлингов и долларом, когда были сняты защитные военные меры. Таким образом, Великобритания отказалась от конвертируемости в марте 1919 года, в результате чего курс фунта стерлингов колебался по отношению к доллару, что создавало возможности для дельцов подобных Понци.
Очень Серьезные Люди в Британии и Америке считали восстановление довоенного золотого стандарта приоритетной задачей. Ярко выраженным их представителем был Бенджамин Стронг, влиятельный президент Федерального резервного банка Нью-Йорка. Стронг придерживался твердого убеждения, что нестабильность обменного курса и неопределенность, к которой она приводила, оказывали неблагоприятное влияние на торговлю[15]. А состояние торговли, внешней и внутренней, играло очень важную роль для Америки, которая переняла у Британии лидерство в мировом экспорте. «Сбалансированное процветание» требовало, чтобы иностранные рынки абсорбировали «избыточное производство» США, как было сказано в годовом отчете Совета управляющих ФРС за 1925 год. Значительное влияние на содержание этого документа оказал Стронг[16]. А способность к увеличению абсорбции, в свою очередь, зависела от нормализации финансовой конъюнктуры, которую мог обеспечить только золотой стандарт. Будучи секретарем, вице-президентом, а затем президентом Bankers Trust Company и поверенным Джона Пирпонта Моргана, чья фирма J. P. Morgan & Co. имела родственную организацию в Лондоне, Стронг ценил важность этих международных связей. Как организатор и руководитель государственного учреждения, которое считало своей задачей превращение Нью-Йорка в ведущий международный финансовый центр, Стронг рассматривал восстановление стабильной международной монетарной системы как центральный пункт в решении этой задачи.
При довоенном золотом стандарте фунт стерлингов был солнцем, вокруг которого вращались другие валюты. Большая часть расчетов в мировой торговле производилась в фунтах стерлингов, а Лондон был ведущим международным финансовым центром. Хотя в военные годы и в 1920-х произошло значительное расширение международного финансового бизнеса в Нью-Йорке и доллар приобрел международную роль, восстановление Британией конвертируемости в золото, позволяющей фунту стерлингов вновь конвертироваться в золото по фиксированной цене в национальной валюте, по-прежнему считалось необходимым условием возврата к золотому стандарту других стран. Таким образом, обменный курс, на котором стабилизируется фунт стерлингов, в свою очередь, должен был определять курс и сроки восстановления конвертируемости в золото другими странами.
США стали торопить Британию сделать этот важный шаг. Стронг, в особенности, подчеркивал важность не только восстановления Британией конвертируемости в золото, но и возврата к довоенному курсу обмена 4,86 долл. за фунт. Довоенный обменный курс был важным для престижа фунта и, по мнению Стронга, репутации Банка Англии. Он предупреждал, что, если международная система не будет восстановлена, сложно даже представить какие неблагоприятные последствия это повлечет за собой[17].
Монтегю Норман, управляющий Банка Англии с 1920 года, разделял точку зрения своего американского друга. В своих письмах Стронгу он подчеркивал желательность возврата к золотому стандарту в той форме, в какой он существовал до Первой мировой войны. Но в отличие от современных управляющих центральных банков Норман почти не пытался обосновать свое мнение. Его публичные высказывания были невразумительными и придавали налет таинственности, если не сказать неопределенности, его решениям в области монетарной политики. В произведении «Облик грядущего», написанном в жанре футуристической фантастики и опубликованном в 1933 году, в самый разгар Депрессии, Герберт Уэллс не мог не упомянуть о Нормане. «Вместо четкого понимания экономического давления и механизмов, которое у нас есть сегодня, – писал Уэллс, оглядываясь назад из воображаемого будущего, – странные Таинственные люди, были лишь смутно видны через туман оговорок и ложных заявлений, манипулируя ценами и обменными курсами. Заметной фигурой среди этих Таинственных людей был некий г-н Монтегю Норман, управляющий Банка Англии с 1920 по 1935 год. Он представляет собой одну из вызывающих наименьшее доверие фигур во всей истории, и вокруг него сложилось множество легенд. Но, по правде говоря, единственной загадкой в нем была его загадочность».
Уэллс предугадал многие вещи, в том числе и ту важность, которую современные руководители центральных банков придают прозрачности и коммуникации[18]. Единственное, чего не угадал Уэллс, была отставка Нормана. На самом деле «странный Таинственный человек» ушел с поста управляющего Банка Англии только в 1944 году.
Была ли его непоследовательность умышленной или нет, Норман стал отцом конструктивной неопределенности – искусства руководителей центральных банков оставлять решения в подвешенном состоянии. Но по одному решению он высказывался однозначно – желательность восстановления конвертируемости в золото по довоенному курсу по отношению к доллару. Необходимым условием для достижения этой цели было приобретение Банком Англии достаточных запасов золота или активов, конвертируемых в золото. И если приобретение достаточных запасов требовало помощи Федеральной резервной системы, Стронг был готов оказать такую помощь.
Таким образом, политика низких процентных ставок, сторонником которой был Стронг, начиная с 1924 года была призвана помочь Банку Англии приобрести резервы, необходимые для возвращения к золоту. Низкие процентные ставки в Нью-Йорке стимулировали движение средств по направлению к Лондону, где ставки были выше. Значительная часть этих средств осела в крупных лондонских банках. Некоторые средства оказались в банке банков, то есть в казне Банка Англии.
И если рыночные факторы не могли обеспечить достаточные потоки золота в Лондон, их можно было дополнить. Именно с этим намерением Федеральный резервный банк Нью-Йорка покупал казначейские облигации США, из-за чего доходность американских обязательств пошла вниз, и дополнительные финансы потекли через Атлантику[19].
Но этих финансовых операций самих по себе могло быть недостаточно, чтобы Британия могла твердо вернуться к золоту. Кроме того, это привело бы к ребалансировке конкурентных позиций. Хотя цены в Британии с начала Первой мировой войны выросли сильнее, чем цены в США, аналогичного роста производительности труда в стране не произошло. Если бы фунт стерлингов стабилизировался на прежнем уровне по отношению к доллару, экспортная конкурентоспособность Британии пострадала бы. Появился бы хронический торговый дефицит, и золото Банка Англии, которое так тщательно приобреталось, просто потекло бы обратно. Чтобы предотвратить это, надо было снизить цены в Великобритании или повысить их в США. По оценке Стронга, с довоенного периода производственные затраты в Британии выросли по сравнению с производственными затратами в США на 10 %. Другие эксперты пришли к схожим выводам. Джон Мейнард Кейнс, который считался экспертом в таких оценках, предположил, что этот показатель составляет 9 %[20].
Стронг надеялся, что удерживание низких процентных ставок будет стимулировать расходы, что будет способствовать росту цен в США и поможет скорректировать разрыв в конкурентоспособности[21]. На деле манипулирование ценовыми уровнями оказалось более сложной задачей, чем предполагалось. Американские цены выросли с середины 1924 до середины 1925 года, однако этого оказалось недостаточно, чтобы устранить разницу в затратах. Когда Британия в апреле 1925 года вернулась к золотому стандарту, проблема недостаточной конкурентоспособности сохранилась. Норману пришлось бороться с ней почти шесть лет.
Однако политика низких процентных ставок Стронга привела скорее не к изменению баланса в мировой экономике, а к созданию дисбаланса в экономике США. Этот дисбаланс проявился в надувании пузыря на рынке недвижимости Флориды, а вскоре и в Чикаго, Детройте и Нью-Йорке. Стремительный рост в американском финансовом секторе, который наблюдался в последние годы десятилетия, тоже не стоит рассматривать сам по себе.
Стронг подвергся резкой критике со стороны Адольфа Миллера за то, что он пожертвовал внутренней финансовой стабильностью во имя международных задач. Один из первых управляющих ФРС, Миллер окончил Калифорнийский университет в Беркли в 1887 году, а затем учился в Кембридже, Париже и Мюнхене. Затем он преподавал в Корнелльском и Чикагском университетах (о них будет упоминаться далее), после чего вернулся в Беркли и учредил College of Commerce (Коммерческий колледж) и наконец уехал в Вашингтон, где сначала работал помощником министра внутренних дел США, а затем вошел в состав Совета управляющих ФРС, куда был назначен своим однокурсником Вудро Вильсоном в 1914 году.
Миллер был известен своей дидактической манерой изложения и богатым профессорским словарным запасом. По словам управляющего Федерального резервного банка Филадельфии Джорджа Норриса, Миллер получал огромное удовольствие от своих речевых навыков и демонстрировал их во всей красе на заседаниях Совета управляющих ФРС и Комитета по инвестициям на открытом рынке[22]. В частности, Миллер использовал свои вербальные навыки, чтобы вынести на обсуждение так называемую доктрину реальных векселей, которая утверждала, что центральные банки должны предоставлять ровно столько кредитных ресурсов, сколько требуется для реальных потребностей бизнеса, и не более[23]. Эта доктрина, предложенная в начале XVIII века, в том числе и шотландским теоретиком в области монетарной политики Джоном Ло, должна была послужить руководством к созданию кредитных ресурсов для Банка Англии – центрального банка страны, учрежденного в 1694 году. Неудовлетворенный своей ролью в формировании Банка Англии, Ло основал квазицентральный банк Франции Banque Générale, сыграл свою роль в раздувании и крахе пузыря Миссисипи, а затем с позором удалился на покой, но это неважно. Его доктрина «реальных векселей» продолжала определять политику центрального банка в течение более чем двух веков.
В частности, эта доктрина стимулировала принятие Закона о Федеральной резервной системе 1914 года, в котором говорилось о необходимости системы «эластичных денег», в которой предложение денег и кредитов увеличивалось и сокращалось в соответствии с реальными потребностями бизнеса. Неспособность регуляторов предлагать столько долларов и кредитов, сколько было необходимо бизнесу, приводило к резкому росту ставок и хронической финансовой нестабильности в США. Эту проблему призвано было решить создание в 1914 году Федеральной резервной системы.
Являясь последователем доктрины «реальных векселей», Миллер быстро сделал вывод, что подстраивать политику Федеральной резервной системы под проблемы британской экономики, как это делал Стронг, вместо того чтобы ориентироваться на реальные потребности бизнеса, было верхом безответственности. Профессор резко критиковал управляющего Федерального резервного банка Нью-Йорка. Еще больше его, несомненно, удручал тот факт, что другие члены Совета управляющих ФРС и главы федеральных резервных банков, которые в большинстве своем были бизнесменами, несведущими в сложном деле монетарного анализа, не обращались за советом к экспертам вроде него, получившего должное образование в области монетарной теории и поэтому более компетентного в технических вопросах.
Голос Миллера был самым громким, однако он был не одинок в своей критике. С ним был согласен, в том числе, и Чарльз Хэмлин, бывший помощник министра финансов и неудавшийся кандидат на пост губернатора Массачусетса, который в то время был председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы, и Герберт Гувер, прошлый союзник Стронга, министр торговли при президенте Калвине Кулидже и сосед Миллера по Джорджтауну. Гувер, как и Стронг, был интернационалистом, однако даже для него инициативы Стронга 1924–1925 года казались переходящими границы. В них слишком мало внимания уделялось тому, какое влияние такая политика будет иметь на внутреннюю экономику. По мнению Гувера, Стронг был очарован идеями своего друга Нормана. Глава Федерального банка Нью-Йорка теперь был просто «интеллектуальным приложением к Европе»[24]. Политика Стронга угрожала раздуванием инфляции и перегревами на финансовых рынках. Если нужно было помочь Британии вернуться к золотому стандарту, это необходимо было делать по-другому, заключил Гувер, не снижая процентные ставки в США, поскольку это могло иметь нежелательные побочные эффекты.
То, как Миллер и Гувер воспринимали доктрину «реальных векселей», было проявлением силы исторического опыта в формировании взглядов и действий регуляторов. Выраженной характеристикой монетарного и финансового ландшафта США со времен независимости страны был резкий рост процентных ставок, приводящий к спадам в деловой сфере, а в худших случаях – и к финансовым кризисам. Таким образом, доктрина, которая призывала адаптировать предложение денег и кредитов к реальным нуждам бизнеса и следить за уровнем процентных ставок, чтобы удостовериться, что эти потребности удовлетворены, формировала взгляды многих первых управляющих Федеральной резервной системы. Поскольку эта доктрина предупреждала об опасности искусственного снижения ставок для помощи другим странам, как это делал Стронг, более строгое соблюдение ее положений могло предотвратить опасные дисбалансы на рынках недвижимости и активов в США. Но та же самая доктрина также предполагала, что у ФРС не было необходимости действовать, когда процентные ставки упали с максимальных значений после 1929 года – снижение процентных ставок означало, что у бизнеса в США есть все необходимые ему кредитные ресурсы, а у экономики – вся необходимая монетарная поддержка.
Очевидно, что нет универсальной монетарной доктрины на все времена. Усвоение этого урока дорого стоило руководителям ФРС и стране в целом.
А пока критика не производила никакого эффекта. Стронг имел доминирующее влияние в ФРС. Поскольку он был правой рукой Дж. П. Моргана и поработал на «передовых» финансового кризиса 1907 года, его высказывания по вопросам монетарной политики были авторитетными, вне зависимости от того, была у него соответствующая формальная теоретическая подготовка или нет. Он говорил голосом опыта. Если Стронг считал, что события в Лондоне были важнее, чем в Майами, значит, так тому и быть.
И хотя политика ФРС способствовала перегреву на финансовых рынках в тот период, она была не единственным фактором. Кроме того играло свою роль и очень слабое регулирование финансовой системы. Были попытки правительства стимулировать активность в недвижимости и строительстве. Сказывался и тот факт, что во время войны строительство новых домов велось вяло, что привело к накопившемуся спросу, который теперь стремился вырваться на волю.
Амбициозные агенты по недвижимости во Флориде, которым этот накопившийся спрос был на руку, всячески стремились его освободить. Никто не был более амбициозным, чем Джордж Меррик, потомок конгрегационалистского священика и владельца грейпфрутовой плантации. Меррик увлекался поэзией. В 1920 году, прославляя предместья Флориды, он опубликовал том стихов под названием Song of the Wind on a Southern Shore («Песня ветра на Южном берегу»).
- «There’s a Shore I know – that draws me
- And that warms me all the more! —
- Where the gumbo-limbo grows: —
- And the little lizards doze —
- Where the trade-wind blows
- Through the palm-tufted curvings
- Of the Biscayne shore»
- (Есть берег, который влечет меня
- И который все больше согревает меня! —
- Там, где растет мексиканская лаванда —
- И дремлют маленькие ящерицы,
- Там, где дует пассат
- На усыпанных пальмами изгибах
- Залива Бискайн).[25]
Однако основное применение своим талантам Меррик нашел в сфере недвижимости. В 1915 году он был избран в администрацию округа Дейд, и его главным достижением стало строительство сети дорог, соединяющих Майами с его будущими пригородами и, не в последнюю очередь, с запланированной им общиной Корал Гейблс (Coral Gables) с центром в бывшей семейной плантации. В порыве поэтического вдохновения Меррик описывал Корал Гейблс как испанский город, где «ваши „испанские замки“ становились реальностью». Карьер, в котором добывался известняк и коралловая порода для строительства домов, был превращен в венецианскую лагуну с мостами, гротами и открытыми галереями. Меррик рекламировал городок в национальных журналах и газетах других штатов, при этом писал значительную часть материала сам. Он заманивал клиентов в еще почти неразвитый пригород бесплатными представлениями Mabel Cody’s Flying Circus – популярным авиашоу. Клиенты, которые покупали участки, получали возможность подняться в воздух и осмотреть свои владения с высоты[26]. Он открыл шикарные офисы продаж в Нью-Йорке и Чикаго. Купив автобусы для транспортировки потенциальных покупателей, он организовывал экскурсии из Нью-Йорка, Филадельфии и Вашингтона.
Кроме того, он нанял Уильяма Дженнингса Брайана, бывшего кандидата в президенты, госсекретаря и прославленного оратора, для рекламы города. Брайан переехал во Флориду из-за своей жены, которая страдала артритом, и сразу же стал самым популярным жителем Майами. В 1896 году он баллотировался на пост президента в роли защитника простых людей и противника золотого стандарта, а теперь Меррик платил ему, чтобы тот совсем на другом берегу говорил не о золотом стандарте, а о Золотом береге (Флорида). За год работы он получил 100 000 долл. – половину деньгами, половину – землей.
Проект Корал Гейблс был успешным с самого начала. Свыше 5000 клиентов посетили вступительный аукцион по продаже участков в 1921 году. Не прошло и года, как Меррик покупал дополнительные земли для расширения своего замысла и проекта. В период с ноября 1924 года по март 1925 года, в самый разгар туристического сезона, Меррик зафиксировал феноменальный объем продаж земли – на сумму 4 млн долл. в месяц.
Власти штата с энтузиазмом восприняли такой стремительный рост. Это было неудивительно, поскольку многие застройщики, такие как Меррик, не говоря уже об их банкирах, любезно согласились поработать на пользу государства. Они использовали быстро растущие налоги на недвижимость, чтобы финансировать строительство местных дорог и развивать государственные услуги, что создавало видимость еще большего процветания. В 1923 году, в период самого стремительного подъема, флоридские законодатели предложили внести поправку в конституцию штата, отменяющую налоги на доходы и наследство, чтобы стимулировать миграцию с севера[27]. Благодарные голосующие подавляющим большинством голосов одобрили эту меру. Они избрали губернатором бывшего мэра Джексонвилла Джона Уэллборна Мартина – его избирательная кампания строилась вокруг обещания завершить амбициозный проект строительства дорог в штате. Это было одним из тех событий, на которые, вероятно, рассчитывал Понци, когда рекламировал свой фиктивный проект строительства в окрестностях родного города Мартина.
На рынке недвижимости Флориды все более очевидными становились все признаки ничем не оправданного роста на последних этапах. Владельцы участков нанимали «авансовых» мальчиков, чтобы те, стоя на жарком солнце, привлекали потенциальных покупателей. Эти молодые люди в белых костюмах (многие из них для вида играли в теннис или гольф) стимулировали потенциальных покупателей внести 10 %-ный невозмещаемый взнос – «аванс»[28]. На пике бума эти авансовые квитанции использовались в качестве денег для расчетов. Отели, ночные клубы и бордели принимали их в оплату за свои услуги.
«Авансовые» мальчики получали фиксированный платеж, когда деньги претендующих на приобретение участка покупателей доходили до банка застройщика. Как и ипотечных брокеров накануне краха на рынке недвижимости в 2006–2007 годах, их мало интересовало, понимал ли покупатель условия контракта, под которыми подписывался, или, если уж на то пошло, имел ли он возможность довести сделку до конца. Типовые финансовые организации предоставляли ипотечный кредит, только если покупатель вносил авансовый платеж в размере 50 %[29].
10 %-ный аванс, таким образом, предполагал обязательство внести еще 40 %, что для многих претендующих на покупку недвижимости было легче сказать, чем сделать.
Внесение дополнительных денег было, разумеется, необязательным, если авансовая квитанция, которая давала право преимущественной покупки на участок земли, сначала перепродавалась другому инвестору. Чем быстрее росли цены, тем больше распространялась эта практика перепродажи авансовых квитанций. Успешные «авансовые» мальчики начали заниматься спекуляциями на рынке недвижимости, перепродавая квитанции друг другу. Они отдавали 10 %, чтобы купить, по сути, опцион на незастроенный участок с намерением тут же перепродать его по более высокой цене. Летом 1925 года, на пике роста, авансовые квитанции, по имеющейся информации, продавались и покупались по восемь раз за день[30]. Ясно, что флоридцам в 1920-м учиться было не на чем, и они сами могли научить парочке трюков спекулянтов на рынке недвижимости в преддверии кризиса субстандартного кредитования 2007–2008 годов.
Однако такая бурная деятельность конечно же не была бы возможной без активного участия банков. «Все финансовые ресурсы действующих банковских и финансовых организаций были в полной мере задействованы для финансирования этих спекуляций», – отмечает эксперт того времени по росту на рынке недвижимости Флориды Герберт Симпсон в своей статье с говорящим названием «Недвижимость в Депрессии» (“Real Estate in the Depression”), опубликованной в журнале American Economic Review в 1933 году[31]. «Страховые компании покупали лучшие (как считалось) ипотечные закладные; консервативные банки свободно выдавали кредиты под залог недвижимости, а менее консервативные банки и финансовые компании давали кредиты практически под любой залог, – писал Симпсон. – Кредитование в сфере недвижимости было основным направлением деятельности любого банка, и тысячи новых банков создавались с конкретной целью предоставления кредитных ресурсов для продвижения конкретной недвижимости». Большей частью это были банки штатов и трастовые компании. Многие из них находились на окраинах больших городов или в пригородах, еще не полностью занятых более давними и хорошо известными банковскими организациями. Поскольку их депозиты и ресурсы предназначались для продвижения проектов недвижимости, которые реализовывались их контролирующими или связанными с ними компаниями, эти банки не останавливались практически ни перед чем, за исключением криминала – а иногда не гнушались и этим».
Среди самых злостных нарушителей были строительно-сберегательные кассы. В принципе эти организации, как и взаимосберегательные банки, занимались кредитованием членов самих организаций[32]. Как тут не вспомнить о роли в кризисе 2008–2009 годов компании Northern Rock, которая изначально также появилась как строительное сообщество – британский эквивалент строительно-сберегательных касс. Однако не будем забегать вперед.
Нормы регулирования деятельности строительно-сберегательных касс постоянно менялись и зачастую слабо соблюдались[33]. Отсутствие более строгих норм частично отражало уверенность в надежности фондирования таких организаций. Членам организаций скорее принадлежали доли, нежели депозиты, и они не могли ликвидировать их по своему желанию. Это уберегло строительно-сберегательные кассы от проблемы массового снятия вкладов. Кредиты были обеспечены, как считалось, надежной недвижимостью. Строительно-сберегательные кассы использовали минимальный объем заемных средств; они не эмитировали долговые обязательства для увеличения акционерного капитала. К сожалению, эти обнадеживающие соображения не принимали во внимание тот факт, что те, кого эти организации кредитовали, сами были по уши в долгах. Они не принимали во внимание тот факт, что не все инвестиции в недвижимость были абсолютно надежными[34].
Модель строительно-сберегательных касс хорошо работала в XIX веке. А теперь эта модель была взята на вооружение застройщиками для удовлетворения собственных амбиций и достижения собственных целей. Строительно-сберегательные кассы было легче учредить, чем кредитную организацию, и застройщики учреждали их для финансирования проектов строительства жилой недвижимости[35]. Совет директоров в такой организации мог и присутствовать, однако контроль был слабым. Совершенно не соблюдался принцип выдачи ипотечных кредитов только надежным заемщикам, чтобы выплачивать прибыль своим членам. Строительно-сберегательные кассы стали лидерами в выдаче кредитов с низким первоначальным взносом. Они выдавали второй ипотечный кредит на 30 % стоимости недвижимости, как только заемщик получал стандартный первый кредит (обычно на 50 %) через банк или страховую компанию, в результате чего эффективный первоначальный взнос снижался до 20 %[36].
Также все большую популярность в качестве источника финансирования строительства приобретала секьюритизация (конвертация долговых обязательств в ценные бумаги). В 1920-х годах застройщики выпустили обеспеченные недвижимостью облигации на сумму приблизительно 10 млрд долл. Третья часть этих облигаций была обеспечена процентными платежами по ипотечным жилищным кредитам, а оставшаяся часть – будущим доходом от сдачи в аренду коммерческой недвижимости. Большая часть этих облигаций была представлена облигациями, обеспеченными одним объектом недвижимости, выпущенными для финансирования индивидуальных многоэтажных офисных зданий, многоквартирных домов и театров, хотя были и более сложные инструменты, известные как гарантированные сертификаты участия в ипотечном пуле – сейчас они бы назывались «сквозными» ипотечными ценными бумагами. Более сложные облигации, выпущенные компаниями, проверяющими полноценность прав собственности на недвижимость и предоставляющими ипотечные гарантии, и обеспеченные коммерческой недвижимостью облигации были не такими свободно обращающимися. Чтобы склонить инвесторов к их покупке, эмитент гарантировал держателю купон (ставка процента по облигации) в размере 5 %.
Это конечно же означало, что компании, проверяющие полноценность прав собственности на недвижимость, или страховая компания попадали «на крючок», если прибыль по инвестициям, в отношении которых были выпущены облигации, оказывалась меньше, чем ожидалось[37].
На практике страховые компании не только гарантировали облигации, но и включали их в свои собственные портфели. Учитывая, что по казначейским облигациям процентные ставки были очень низкими (поскольку политика Стронга опиралась на международные интересы), обеспеченные недвижимостью облигации были привлекательной альтернативой. В период с 1920 по 1930 год доля активов компаний по страхованию жизни, обеспеченных ипотечными закладными, выросла с 35 до 45 %. Такие ценные бумаги также предлагались населению инвестиционными банками, которые их выпускали и распространяли. Инвесторы полагались на «доброе имя» (каким бы оно ни было) эмитента. Мало оснований считать, что они как-то различали эти облигации, требуя высокую доходность за рискованность ипотечного пула[38]. Таким способом огромные суммы денег от индивидуальных инвесторов направлялись в сферу строительства коммерческой и жилой недвижимости. Однако, как оказалось, такие облигации, особенно выпущенные в самый разгар бума на рынке недвижимости, не имели особого успеха в 1930-х.
Этот рынок облигаций, обеспеченных одним объектом недвижимости, напоминает, что наряду со стремительным ростом строительства жилой недвижимости во Флориде наблюдался также и бум на рынке строительства коммерческой недвижимости в Чикаго, Нью-Йорке и Детройте[39]. 1920-е годы стали десятилетием небоскребов. Для строительства высотных зданий было расчищено больше земли, чем в любое другое десятилетие XX века. Бум строительства небоскребов отражал достижения в строительстве, в том числе и появление более износоустойчивых стальных рамных конструкций, более эффективных двигателей лифтов и применение принципов Тейлора (анализ трудовых движений) в отношении труда строителей. Но также этот бум отражал и новую финансовую модель, когда здания строились не просто как офисы для компаний, а в качестве финансовых инвестиций, в надежде, что площади можно будет сдать арендаторам, которые будут платить за них деньги. Знаменитый небоскреб корпорации Chrysler в Нью-Йорке, строительство которого началось в 1928 году, был штаб-квартирой Chrysler Corporation, но также сдавался в аренду многим компаниям – от Pan American Airways до Adams Hats.
Рост на рынке коммерческой недвижимости достиг полного расцвета позднее, чем на рынке жилой недвижимости. Но пузырь на этом рынке тоже был необоснованно раздутым. И когда он лопнул, это тоже привело к крупным дисбалансам.
И все же ничто не могло сравниться с тем, что происходило на рынке недвижимости Флориды. Самые безумные спекуляции были в Майами. В Орландо рост был более сдержанным, а Джексонвилла он достиг уже поздно – возможно, это способствовало неудаче Понци. Население округа Дейд в период с 1920 по 1925 год выросло в три раза. Оценочная стоимость недвижимости в Майами выросла еще быстрее – с 63 млн долл. в 1922 году до 421 млн долл. в 1926 году. На тот момент каждый третий житель к тому времени уже города с населением 80 000 человек занимался недвижимостью в той или иной форме. На самом пике роста «риэлторы медленно пробирались сквозь толпы на Флеглер-стрит… выкрикивая свои предложения под аккомпанемент музыки оркестров, которые нанимались крупными застройщиками… Временами из-за большого количества риэлторов по тротуарам нельзя было пройти»[40]. Агенты предлагали проспекты уже на вокзалах, едва сойдя с поезда. Газеты кишели объявлениями о недвижимости. К концу 1925 года ежедневные выпуски Miami Herald, которые до этого состояли не более чем из 20 страниц, «потолстели» до 88 страниц.
Появился дефицит рабочей силы, несмотря на приток строителей, многие из которых жили в палатках. Джордж Меррик, продемонстрировав свой талант к продвижению проектов, построил палаточный лагерь на 375 палаток на окраинах своего участка и назвал его Cool Canvas Cottages at Coral Gables (великолепные парусиновые коттеджи в Корал Гейблс). Дефицит рабочей силы сопровождался дефицитом строительных материалов, который усугублялся решением железнодорожной компании Florida East Coast Railway наложить мораторий на новые поставки. Кроме того что сортировочная железнодорожная станция Майами была забита 2200 грузовыми вагонами, движению поездов мешали отчаянные попытки перегруженной железной дороги проложить вторую колею. Поскольку железнодорожные поставки «встали», к доставке строительного материала были привлечены пароходы и парусные суда. Вскоре доки Майами и Майами-Бич были настолько загромождены, что разгружать грузы стало невозможным. В сентябре пароходные компании последовали примеру железной дороги и наложили эмбарго на поставки мебели, строительной техники и строительных материалов.
Все это говорило о том, что пузырь скоро лопнет. Что стало причиной того, что он лопнул, точно сказать нельзя, как и всегда в случаях с пузырями. Возможно, одной из причин стала коррекция на фондовом рынке: индекс S&P Composite упал на 11 % в период с февраля по май 1926 года. Нетипично холодная зима, за которой последовало жаркое лето, не убедило покупателей жилья во Флориде в умеренности климата. В декабре 1925 года тропический циклон разрушил первозданные северо-восточные пляжи штата, чем нанес рынку в буквальном смысле слова очередной удар. Затем последовал ураган 4-й категории, который американское Метеорологическое управление назвало «возможно, самым разрушительным ураганом за всю историю США», – он ударил по Майами 18 сентября 1926 года. Во время наводнения погибли три жителя Майами-Бич, еще сотня – в самом Майами[41]. С загородного дома Карла Фишера сорвало крышу. Конгрегационалистская церковь в Коралл Гейблс стала центром оказания помощи, хотя Джордж Меррик предназначал ее несколько для других целей.
Тем временем обеспокоенность ситуацией во Флориде перекинулась и на другие штаты. Двадцать тысяч жителей Саванны (Джорджия) двинулись во Флориду, привлекаемые ростом на рынке недвижимости, чем обеспокоили членов городского совета. Инвесторы, жаждущие вложиться в недвижимость Флориды, сняли со сберегательных вкладов в Массачусетсе около 20 млн долл. Банкиры северо-восточных штатов и на Среднем Западе стали опасаться потерять депозиты и доходные активы.
Обеспокоенные оттоком населения и депозитов, а также благополучием жителей, власти критиковали такие «перегревы». Банкиры в Огайо разместили в газетах объявления, предупреждающие об опасности вести бизнес с флоридскими застройщиками. Начальник управления торговли штата Сайрус Лохер и шериф Норман Бек самоотверженно поехали во Флориду, чтобы из первых рук узнать, что происходит на рынке. В целях защиты интересов мелких инвесторов они порекомендовали запретить компаниям, продающим ценные бумаги, обеспеченные недвижимостью Флориды, вести бизнес в их штате. Законодательное собрание штата послушно приняло закон, запрещающий подобную практику[42]. Антифлоридская пропаганда утверждала даже, что в штате невозможно найти хорошее мясо и что опасные рептилии угрожали безопасности крупных населенных пунктов[43]. Ассоциация частных предприятий Better Business Bureau в США, расследующая ситуацию на рынках Флориды, обнаружила признаки распространенного мошенничества и была готова опубликовать свои выводы. Арест и судебное преследование Понци тоже сделали плохую рекламу штату.
Как это обычно бывает на рынках недвижимости, сначала упали объемы сделок, а через некоторое время и цены. Доходы местных правительств резко снизились, амбициозные муниципальные проекты в сфере строительства были заброшены. Финансовые последствия не заставили себя ждать. Объемы безналичных расчетов между банками в Майами сократились на две трети[44]. Сто пятьдесят банков во Флориде и соседней Джорджии обанкротились – большинство из них были членами сети Манли-Энтони, названной так из-за того, что все эти банки принадлежали или находились под контролем двух банкиров – Джеймса Р. Энтони и Уэсли Д. Манли, бизнес которых был сильно завязан на спекуляциях в сфере недвижимости, и не в последнюю очередь в форме инвестиций в проект Корла Гейблс Дэвида Меррика[45]. Убытки вкладчиков составили около 30 млн долл. Сам Манли был арестован за участие в мошеннических сделках в попытке спасти оставшиеся активы от конкурсного производства. Во время его защиты адвокаты ссылались на психическое расстройство клиента.
Финансовые последствия не распространились дальше Флориды и Джорджии. Тем не менее эти события поумерили пыл банкиров и покупателей жилья. Число строящихся жилых домов по стране упало с 850 000 в 1926 году до 810 000 в 1927 году, 750 000 в 1928 году и 500 000 в 1929 году, несмотря на то что в экономике не наблюдалось сопоставимого спада.
Задним числом многие утверждали, что ФРС должна была сделать больше для предотвращения бума на рынке недвижимости. Это ограничило бы перегрев в финансовой системе и предотвратило разрушительные банкротства банков на юге. Это умерило бы давление на экономическую активность, которое начало чувствоваться в самый неблагоприятный момент, ближе к концу 1920-х.
Однако меры в адрес одного сектора – жилищного строительства – привели бы к возникновению тех же дилемм, что и таргетирование обменного курса фунта стерлингов – доллара. Внимание ФРС тогда было бы отвлечено от фундаментальной задачи обеспечения «эластичных денег», что имело бы неблагоприятные последствия для экономической стабильности. Использование монетарной политики для подавления финансовых дисбалансов могло привести к разгрому экономики.
Через несколько лет, когда был бум на Уолл-стрит, эта же дилемма появилась вновь. Тогда стоял вопрос, должна ли ФРС повысить процентные ставки в ответ на рост на фондовом рынке, чтобы предотвратить развитие более серьезных финансовых дисбалансов и рисков. В качестве альтернативного варианта регулятор мог продолжать подстраивать монетарную политику под нужды реальной экономики и бороться с финансовыми дисбалансами другими способами. Он мог придерживаться политики, которая сегодня называется макропруденциальной, а тогда называлась «прямым давлением», то есть попытаться ограничить выдачу банками кредитов непосредственно финансовым рынкам[46].
В конечном итоге ФРС выбрала первый вариант, то есть повышение ставок. Последствия были далеко идущими.
Глава 2. Золотой глобус
Перегрев на финансовом рынке быстро перебросился с Флеглер-стрит на Уолл-стрит. Те же низкие процентные ставки и ожидания быстрого роста, которые «подогревали» спекуляции в сфере недвижимости, стимулировали и инвестиции в акции и облигации. Энтузиазм по отношению к акциям, кроме того, поддерживался излишне оптимистичными ожиданиями прибыли от нового поколения IT-компаний, если можно употребить такой анахронизм. Так же как в 1990-х интернет был площадкой для продвижения инвестиций в интернет-компании, в 1920-х радио использовалось для стимулирования инвестиций в радио. Акции Radio Corporation of America (американская радиовещательная корпорация) с самого момента выхода их на биржу в 1924 году входили в список наиболее активно продаваемых и покупаемых акций на Уолл-стрит.
Такой популярности акций RCA и других спекулятивных акций способствовал и пример таких «инсайдеров» с Уолл-стрит, как Уолтер Крайслер и братья Фишер, которые учредили Fisher Auto Body. Будучи по большей части ветеранами автомобильной отрасли, эти люди объединились под руководством эксцентричного основателя General Motors Билли Дюранта, который увлекся игрой на бирже. Под руководством Дюранта они сформировали синдикаты для покупки акций RCA. На первых страницах изданий они трубили о растущих акциях RCA, привлекая мелких инвесторов и тем самым еще больше раздувая цены. В этот момент синдикат распродавал акции, фиксируя прибыль, и весь рост, достигнутый к тому времени, таким образом, аннулировался[47].
Но даже эти манипуляции не мешали расти «любимчику» рынка. В период с 1925 по 1929 год цена акций RCA увеличилась более чем в десять раз с поправкой на дробление акций. Акции RCA были первыми настоящими акциями роста, коэффициент «цена/доход» в конечном итоге превысил 70. Однако компания не выплачивала дивиденды до 1937 года.
Акции RCA отражали общий тренд. С начала 1926 до середины 1929 года индекс Доу-Джонса рос без существенных перебоев. Можно ли это считать пузырем и в какой момент он начал надуваться – спорные вопросы. Наводит на размышления тот факт, что индекс Доу-Джонса и корпоративные дивиденды в 1927 году росли синхронно, как будто рост акций отражал рост доходов компаний. Однако в 1928 году взаимосвязь между ценой акций и дивидендами прервалась. С этого самого момента начался бум – а по мнению некоторых, начал надуваться пузырь – на Уолл-стрит[48].
Сколько было экспертов, столько было и мнений относительно роста котировок. Эксперты указывали на ожидания ускоренного роста дивидендов за счет установки электродвигателей и появления конвейерных линий сборки. Компания General Motors была одной из первых, кто распознал потенциал этих инноваций под руководством выпускника Массачусетского технологического института Альфреда П. Слоуна, который заменил Дюранта, когда того в 1920 году вынудили уйти из-за больших долгов компании[49]. В 1928 году GM отчиталась об исключительно высокой прибыли, что заставило инвесторов поверить, что у других передовых в технологическом плане компаний дела пойдут так же успешно. Однако инвесторы не учли, что высокая прибыль GM, возможно, объяснялась тем, что Генри Форд закрыл завод Highland Park в мае 1927 года с целью переоборудовать его с выпуска Модели T на Модель A, из-за чего покупатели перешли к его конкуренту. Однако искушенные инвесторы этого не поняли, поскольку руководство GM в лице Слоуна (который был пионером не только в научных методах управления, но и во взаимоотношениях с инвесторами) сделало все, чтобы убедить инвесторов, что рост прибыли был заслугой GM[50].
Еще одним очевидным подозреваемым, как всегда, была ФРС. В 1927 году федеральные резервные банки вновь снизили учетные ставки, чтобы ослабить давление на Банк Англии. Британия все еще пыталась снизить высокие затраты на оплату труда, которые увеличились в результате возврата к золоту в 1925 году. В 1926 году в стране прошла забастовка шахтеров, которые протестовали против требований работодателей согласиться со снижением зарплат на 25 %. Кроме того, План Дауэса от 1924 года, который установил новый порядок репарационных выплат Германии после Первой мировой войны, позволил стране делать выплаты путем экспорта угля[51]. Возврат Германии на международный угольный рынок привел к снижению цен, в результате чего британской промышленности все больше приходилось думать о снижении затрат любыми средствами.
Забастовка шахтеров длилась шесть недель, во время которых добыча и экспорт были приостановлены. В результате британский платежный баланс ухудшился, а Банк Англии потерял часть золотых запасов. Однако шахтеры были не единственной проблемой Нормана. Не очень приятные действия последовали со стороны центральных банков Германии и Франции. Сначала Рейхсбанк, а затем и Банк Франции начали выводить золото из Лондона. Центральные банки Германии и Франции волновали трудовые конфликты в британской промышленности. И они не без оснований считали золото более надежной валютой, чем фунт стерлингов.
Потеря золотых запасов заставила Нормана сохранять высокие процентные ставки, из-за чего финансовая конъюнктура стала еще более жесткой. Британской экономике еще труднее стало встать на ноги.
Чтобы понять, что стало причиной этих трений, нам надо оглянуться назад и проанализировать проблему, стоявшую перед монетарными экспертами, которые пытались восстановить торговый и платежный баланс Европы после Первой мировой войны. Как и Бенджамин Стронг, они были убеждены, что золотой стандарт является единственным прочным фундаментом. Однако их беспокоило, что им могло не хватить золота, чтобы достаточно глубоко «забить сваи». Зарплаты и цены резко выросли во время Первой мировой войны, однако о запасах золота нельзя было сказать того же, учитывая проблемы в добывающей промышленности. Единственным способом решения этой проблемы было снижение зарплат и цен. Однако в политическом плане в послевоенное время это было не очень правильным решением. Круг избирателей расширился – людям, которые так самоотверженно сражались на передовой, больше невозможно было отказать в праве голоса. Рабочее движение стало более воинственным, что подтвердила забастовка британских шахтеров.
По этим причинам политику снижения зарплат и цен стало теперь не так просто применить. Дополнительные запасы золота для обеспечения увеличившейся денежной массы, соразмерной с выросшими ценами, также не могли по мановению волшебной палочки появиться из воздуха или из-под земли. Оставалось одно решение – найти замену золоту, которую смогли бы использовать центральные банки в дополнение к золотым запасам, чтобы обеспечить выпуск денег и кредитов. Очевидной заменой были облигации, выпускаемые министерствами финансов США и Великобритании, которые, по сути, были так же надежны, как и золото, – их можно было бы легко обменять на желтый металл, как только золотой стандарт будет восстановлен.
Идея о том, что центральные банки должны заменить свои золотые запасы на правительственные обязательства (например, Британии) была с энтузиазмом представлена британской делегацией на международной конференции, проводившейся в Генуе в 1922 году с целью наконец решить эти вопросы. Эта идея была встречена, мягко говоря, со смешанными чувствами другими европейскими странами, которые предполагали, что их ценные бумаги не будут обладать таким же привилегированным статусом.
Более того, все, что хоть отдаленно напоминало ослабление принципов золотого стандарта, с опаской воспринималось странами, которые в первой половине 1920-х испытали галопирующую инфляцию; Германия, разумеется, была классическим примером такой страны. Гиперинфляция, которая достигла своего высшего пункта в Германии в 1923 году, казалось, была навечно высечена в коллективном сознании нации. Она имела место, когда от золотого стандарта временно отказались. Конечно, сложно представить, что такая высокая инфляция могла быть зафиксирована, если бы денежная масса была привязана к запасам золота. Во Франции инфляция никогда не достигала таких экстремально высоких значений, однако она имела такие же разрушительные социальные последствия. Во Францию инфляция также пришла, когда золотой стандарт временно не использовался. А стабилизация инфляции также совпала с возвратом к золотому стандарту. Французские и немецкие власти старались любым способом не допустить инфляции, поэтому приняли особенно жесткую форму золотого стандарта. Политика, которая стала результатом такой доктрины, в конечном итоге создала трудноразрешимые задачи не только для Германии и Франции, но впоследствии и для Великобритании, и для США, и для всего мира в целом.
Инфляция почти всегда и везде является монетарным явлением, однако в Германии и во Франции она была по большому счету скорее политическим явлением. В основании ее лежал конфликт Германии и Франции в отношении репараций и расхождение во мнениях относительно того, кто будет нести расходы по этим выплатам, а также по базовым социальным услугам – бизнес или простые работники. После подписания Версальского мирного договора в знаменитой Зеркальной галерее союзническая комиссия по репарациям установила размер репараций, которые должны быть выплачены Германией, на уровне 269 млрд золотых марок, что соответствовало почти 200 % ВВП[52]. Эта огромная сумма была нереалистичной и недостижимой, как утверждал Джон Мейнард Кейнс, ведущий представитель Министерства финансов на Парижской мирной конференции, в книге The Economic Consequences of the Peace («Экономические последствия мира»), напечатанной в декабре 1919 года (благодаря этой книге он стал публичной фигурой). С экономической точки зрения заставить страну экспортировать больше, чем она импортировала, чтобы переводить большие суммы денег за рубеж, грозило обратить соотношение импортных и экспортных цен в Германии против нее, что еще больше осложнило бы осуществление выплат до такой степени, что даже могло сделать их невозможными[53]. С политической точки зрения репарации, мягко говоря, подогревали международную напряженность.
Кроме того что требования союзников по репарациям были непомерно высокими, выплаты должны были продолжаться в течение 42 лет. Навязывание этого тяжелого бремени будущим поколениям заставляло постоянно задавать вопрос о том, кто был виноват в развязывании войны и в поражении. Это, в свою очередь, способствовало возникновению споров в отношении того, кто теперь должен нести расходы по возмещению убытков. Социалисты настаивали, что бизнес должен заплатить путем разового налога на активы компании – так называемой конфискацией реальной стоимости. Весной 1921 года министр экономики, член социально-демократической партии Германии Роберт Шмидт внес предложение, чтобы обеспеченные граждане передали 20 % своих акций и облигаций и заплатили налог в 5 % от стоимости земельных владений. Бизнес и владельцы недвижимости, как и следовало ожидать, пришли в ужас от таких перспектив. В качестве альтернативы они внесли конструктивное предложение – повысить налоги с продаж и акцизы, тогда все расходы можно было бы удобно переложить на плечи работников.
Опять же, как и можно было ожидать, тот факт, что значительная часть налоговых доходов уйдет на финансирование выплат за рубеж, укрепил оппозицию в отношении любого повышения ставок налогов с обеих сторон. В итоге было принято решение повысить налог с продаж и акцизы, однако этого не хватало, чтобы заткнуть дыру в бюджете.
Несмотря на эти ограничения, правительство Германии изначально придерживалось политики соблюдения договоренностей. Соблюдение означало в данном контексте попытки выполнять условия репарационного договора в надежде, что хорошее поведение будет вознаграждено. Однако вознаграждение не слишком занимало мысли французских властей, у которых были свои проблемы, в которых они винили Германию. В частности, французские правые считали экономические и финансовые уступки признаком слабости, который будет только стимулировать националистические тенденции в Германии. А учитывая влиятельность правоцентристской коалиции Bloc National, которая была у власти с 1919 года, компромисс был маловероятен.
В январе 1923 года французы дали однозначный ответ на просьбы Германии об уступках. По указанию председателя Совета министров и министра иностранных дел Раймона Пуанкаре французская армия вновь вошла в Рурский регион, западную индустриальную конгломерацию Германии, с целью насильственного обеспечения исполнения Германией своих репарационных обязательств. Работники железных дорог и шахт начали забастовки, а Рейхсбанк по указанию правительства печатал бумажные марки, которыми предприятия платили зарплаты своим работникам.
Роль Пуанкаре в этих событиях, а также в последующей инфляции и стабилизации во Франции была неоднозначной. Французский лидер родился в 1860 году в городе Бар-ле-Дюк, недалеко от восточной границы Франции. Ребенком он был рассудительным и благоразумным; рассказывали, что он всегда носил с собой в лицей зонтик, независимо от погоды. За неделю до его одиннадцатого дня рождения в 1871 году, после поражения французской императорской армии, прусские войска оккупировали его родную Лотарингию. Комната юного Раймона была занята прусским офицером, и семье пришлось почти три года довольствоваться верхним этажом дома.
Можно представить, что все эти события сформировали непреклонное отношение зрелого Пуанкаре к Германии, его отказ идти на уступки по вопросам репараций и его готовность использовать военную силу для обеспечения репарационных выплат. По словам британского премьер-министра Дэвида Ллойда Джорджа, «Пуанкаре был лотарингцем, родившемся в провинции, неоднократно страдавшей от разгрома и опустошения тевтонцами… он сам дважды был свидетелем оккупации его родной земли немецкими войсками [во второй раз – во время Первой мировой войны]… Пуанкаре холоден, сдержан, непреклонен, приверженец непреложного и точного соблюдения буквы закона. Он не способен ни на уступки, ни на хорошее отношение»[54].
Эта оценка является жесткой и снисходительной, как нередко и другие оценки своих политических соперников Ллойдом Джорджем[55]. Однако она делает более понятными мотивы, которые определяли настрой французских лидеров в отношении вопроса репараций.
Одним из последствий оккупации Рурской области стала неустойчивость финансового положения Веймарской республики. Тогда как стоимость товаров и услуг, покупаемых правительством, росла синхронно с уровнем цен, налоги уплачивались по доходам, полученным ранее, и, таким образом, отставали. Фиксированный налог в 10 % на зарплаты, взимаемый у источника, оставался в руках работодателей в течение двух недель, а затем выплачивался правительству. В период, когда цены в течение двух недель увеличивались в два раза, последствия такой практики для государственных финансов были ужасающими.
23 марта Берлин установил дополнительный штраф для каждого, кто опаздывал с выплатой налогов. Однако нельзя было сказать, что эта новая мера способствовала решению проблемы. Ситуация с государственными финансами продолжала ухудшаться, вынуждая правительство все чаще обращаться к печатному станку. Компании, банки и население посвящали все больше и больше времени минимизации влияния инфляции на их персональные и корпоративные финансы и все меньше и меньше – производственной деятельности.
Кому-то нужно было уступить. Этим кем-то в конечном итоге стало французское общественное мнение и немецкий бизнес. Для немецких угольных и стальных магнатов типа Гуго Стиннеса, которые вложили деньги в Рурскую область, пассивное сопротивление было катастрофой. Во многом, как и американец шотландского происхождения Эндрю Карнеги, Стиннес начинал почти с нуля, приобретя несколько компаний, занимающихся углем, сталью и кораблестроением, и повысил их эффективность за счет единого управления. Масштабы его империи означали, что Стиннес понесет громадные убытки, если добыча угля будет остановлена на продолжительное время.
Таким образом, в конце сентября Стиннес и другие ведущие промышленники согласились выплатить налоги и поставлять уголь непосредственно французам. Берлин согласился снять пассивное сопротивление. Париж сигнализировал о своем согласии пересмотреть сумму репараций. За этим пересмотром последовало формирование в конце ноября Комиссии Дауэса.
Рудольф Гавенштейн, адвокат и гражданский служащий, который был президентом Рейхсбанка с 1908 года, долго отрицал существование связи между политикой предоставления денежных средств в обмен на правительственные и частные бумаги с одной стороны, и инфляцией, с другой стороны, предпочитая винить в инфляции иностранных спекулянтов. Все карты были в руках Гавенштейна в том отношении, что его назначение было пожизненным. Но против его позиции к тому времени накопилось слишком много аргументов. Теперь, когда пассивное сопротивление было сломлено, совет директоров выступил против него. Он объявил, что Рейхсбанк больше не будет предоставлять денежные средства и кредиты в обмен на «чрезвычайные» бумаги, эмитированные немецким бизнесом[56]. А чтобы гарантировать, что центральный банк сохранит вновь обретенную твердость, правительство учредило должность комиссара по валютным делам и уполномочило его при необходимости выпускать параллельную и, как хотелось надеяться, стабильную валюту – рентную марку. На эту должность назначили хорошо известного банкира с политическими связями Ялмара Шахта. Шахт вступил в должность 13 ноября.
Это ознаменовало конец гиперинфляции и, как оказалось, самого Гавенштейна, который умер от сердечного приступа 20 ноября, в тот самый день, когда немецкая валюта стабилизировалась относительно доллара. Правительство решило назначить Шахта также и президентом Рейхсбанка. Шахт, который никогда не упускал шанса сделать саморекламу, заявил, что стабилизация была его заслугой. Однако, по сути, ему просто повезло занять должность руководителя центрального банка как раз тогда, когда проблема была решена.
Поскольку печатные станки были приостановлены, правительственные счета сами по себе укрепились. Гиперинфляция ушла в историю. Но эта история была не из тех, что быстро забываются. Все эти события объясняют, как Рейхсбанк пришел к неприкрашенной версии золотого стандарта. Они объясняют, почему его преемник, немецкий Бундесбанк, продолжал смотреть на мир сквозь призму 1920-х годов не только после Второй мировой войны, но и в XXI веке, даже после того как он вошел в Европейскую систему центральных банков.
Франция тоже страдала от хронических бюджетных дефицитов. Коалиционное правительство, сформированное блоком консервативных партий Bloc National, который стоял у власти с 1919 по 1924 год, периодически успешно балансировало «обычный» бюджет текущих расходов, однако не могло прийти к договоренности относительно финансирования «компенсационного» бюджета послевоенных восстановительных расходов, называемого так из-за ожиданий или, по крайней мере, надежды, что эти расходы будут компенсированы Германией. В какой-то степени бюджетные дефициты не были совсем нежелательными, поскольку они демонстрировали, что Франция сама не была способна справиться с финансированием восстановления. Как сказал эксперт казначейства Великобритании Ральф Хоутри, балансирование компенсационного бюджета для французского правительства было бы непатриотичным актом, который бы говорил о сомнениях в том, что возможна полная выплата репараций…[57]
Оставляя в стороне репарации, очевидным решением бюджетной проблемы было бы согласие левых на повышение налогов с потребителей и согласие правых на умеренные налоги на доходы и роскошь. Немного взаимных уступок, и проблема могла быть решена. Но при сложившихся обстоятельствах никто не собирался идти на уступки. Ситуация была почти такой же, как и в Германии, за исключением того, что репарации должна была платить другая сторона.
А между тем французское казначейство должно было платить по счетам. Долгосрочные заимствования были не вариантом. К 1923 году государственный долг превысил 170 % ВВП, учитывая обязательства, принятые во время войны и дефицит компенсационного бюджета, который каждый год прибавлял к долгу 7 % ВВП. Инвесторы были готовы покупать только краткосрочные бумаги, срок погашения по которым наступал раньше потенциального дефолта или инфляции. В связи с этим казначейство выпускало краткосрочные облигации, известные как облигации национальной обороны (bons de la défense nationale), чтобы акцентировать их связь с Первой мировой войной. И если инвесторы демонстрировали нежелание покупать их, казначейство просило Банк Франции выступить покупателем последней инстанции.
Краткосрочный долг представляет риск для финансовой стабильности, как, к своему огорчению, усвоили многие развивающиеся рынки XX–XXI веков. Поскольку сроки погашения по краткосрочным облигациям наступают один за другим, правительство должно постоянно продлевать эти краткосрочные обязательства и выпускать новые обязательства для их замещения. Если инвесторы теряют уверенность из-за того, что они ожидают ускорения инфляции, и в связи с этим колеблются покупать новые облигации, выпущенные для замещения тех, срок погашения по которым наступил, правительство столкнется с кризисом фондирования. Оно будет вынуждено обратиться за денежными средствами к центральному банку. Денежные средства, которые предоставит центральный банк в обмен на выпущенные правительством новые облигации, увеличат денежную массу и раздуют инфляцию, оправдывая опасения инвесторов. Таким образом, как и паническое изъятие средств вкладчиками, так и отказ инвесторов от покупки государственных краткосрочных облигаций может оказаться замкнутым кругом.
Результатом такой зависимости от краткосрочных заимствований и «авансов» со стороны Банка Франции, как и можно было предполагать, стали повторяющиеся вспышки инфляции, и каждая последующая была более серьезной, чем предыдущая. Но опять же, некоторая инфляция может быть не совсем нежелательной с точки зрения дипломатов, поскольку она говорит о неспособности страны финансировать восстановительные расходы. Однако население не разделяло такого мнения, поскольку инфляция била по кошельку. К первому кварталу 1924 года, в самый разгар оккупации Рурской области, инфляция розничных цен выросла до тревожного значения в 36 %[58]. Котировки акций отреагировали негативно: индекс акций 300 французских компаний резко упал в марте. Спустя более года с начала оккупации Рурской области стало ясно, что Франции больше не удастся «выжимать кровь» из немецких камней.
Вынужденный выбирать между компромиссом и гиперинфляцией, французский парламент, в котором по-прежнему доминировал возглавляемый Пуанкаре Bloc National, выбрал компромисс, хоть и с большим трудом. После ожесточенных споров, продолжавшихся два месяца, законодатели согласились повысить все налоги на 20 % – эта мера стала известной как double decime. Поскольку эффект дополнительных налоговых доходов должен был проявиться не сразу, Дж. П. Морган – банкир французского правительства – согласился предоставить кредит на сумму 100 млн долл. при условии, что парламент сначала утвердит повышение налогов. Еще 4 млн фунтов (приблизительно 19 млн долл. по действующему обменному курсу) было предоставлено инвестиционным банком Lazard Frères.
Этого было достаточно, чтобы стабилизировать франк на тот момент[59]. Но этого было недостаточно, чтобы не допустить возобновления инфляции, поскольку основной конфликт не был разрешен. Было неясно, будет ли достаточно повышения налогов на 20 %, чтобы сбалансировать бюджет, включая восстановительные расходы; ответ, кроме всего прочего, зависел и от степени уступчивости налогоплательщиков. Также не было ясно, будет ли готов средний класс, на который падала вся тяжесть новых налогов, принять их. Спор о том, кто будет нести бремя, вновь разгорелся, как только после провала оккупации Рурской области стало ясно, что это будет не Германия.
По итогам выборов в мае 1924 года Bloc National утратил большинство в Палате депутатов, поскольку на выборы пришло много избирателей из среднего класса, которые несли основное бремя налогов Пуанкаре. Радикалы (по сути, буржуазно-либеральные реформаторы) при поддержке социалистов затем сформировали левоцентристское правительство, Cartel des Gauches (картель левых), возглавляемое ветераном-радикалом Эдуардом Эррио, и были намерены вновь поднять бюджетный вопрос. Учитывая, что на чаше весов был компромисс 1924 года, вновь было неясно, будет ли бюджет сбалансированным. После посещения Советского Союза в 1922 году Эррио поддерживал опыт большевиков. Хотя он и не был коммунистом, его выбор на должность премьер-министра обеспокоил правых[60]. Опасаясь, что правительство может попытаться закрыть дефицит налогом на роскошь, инвесторы бросились продавать государственные облигации. Франк на валютном рынке резко упал, поскольку эти держатели облигаций пытались вывести свои деньги из страны. Инфляция вновь ускорилась, и рост налоговых доходов не успевал за ростом государственных расходов, как в Германии в 1923 году. Поскольку правительство теперь не могло продать на рынке даже краткосрочные облигации и не хотело поднимать ставку по ним, опасаясь оправдать ожидания инфляции и усугубить бюджетные проблемы, Банк Франции остался единственным покупателем облигаций.
Перед банком встала дилемма. Парламент в 1920 году установил лимит на объем денежных знаков, которые может выпускать центральный банк, чтобы ограничить применение правительством финансирования, раздувающего инфляцию. Покупка значительного объема правительственных облигаций могла привести к нарушению Банком Франции этих лимитов. Из-за непредвиденного стечения обстоятельств Банк Франции решил сфальсифицировать свои публикуемые отчеты, скрывая тот факт, что он нарушил допустимые законодательством лимиты по выпуску денежных знаков. Обман был очень оригинальным в своей простоте: излишек был классифицирован под статьей «другое» (divers) в обеих сторонах баланса Банка Франции.
На самом деле это нарушение началось уже в марте предыдущего года, еще при правоцентристском правительстве Пуанкаре. Генеральный секретарь Альбер Опети, правая рука президента Банка Франции Жоржа Робино, взял на себя инициативу в попытке избежать срыва правительственной стабилизационной программы Пуанкаре[61]. Если бы временные дефициты правительства не финансировались, это ускорило бы кризис фондирования, резко сведя на нет усилия Пуанкаре по стабилизации. Для Опети, который считал стабилизацию Пуанкаре последней надеждой страны и хотел дать ей время, чтобы проявить себя, нарушение закона было меньшим из зол.
Благодаря временному успеху стабилизации Пуанкаре объемы циркуляции долговых обязательств безболезненно упали ниже установленного законом максимума. Однако Опети продолжал фальсифицировать еженедельные отчеты Банка Франции, занижая объемы выпуска долговых обязательств в попытке убедить спекулянтов, что стабилизация имела несомненный успех. В октябре, когда стабилизация начала пробуксовывать после смены правительства, объемы выпуска долговых обязательств вновь превысили установленный законом лимит – центральный банк под руководством Опети снова скрыл этот факт.
На этом этапе чиновники Банка Франции предупредили премьер-министра Эррио и министра финансов Этьена Клементеля о том, что дела обстояли не совсем благополучно. Они, правда, «забыли» упомянуть, что проблема впервые возникла еще при правительстве Bloc National, чтобы создать у лидеров Cartel впечатление, что это их бюджетная политика привела к таким плачевным последствиям. Это, возможно, объясняет тот факт, почему Эррио, уже зная об обмане, не решился выступить с публичным заявлением.
Но чем дольше сохранялся статус-кво, тем сильнее становился разрыв между официальным балансом центрального банка и действительным объемом денежной массы в обращении. А чем больше становилось расхождение, тем сложнее его становилось скрывать. К началу 1925 года о нем знали все члены финансовых комитетов Палаты депутатов и Сената[62]. Эта ситуация привела к значительным трениям в Банке Франции, до такой степени, что Франсуа де Вендель, ведущий член правления центрального банка, грозился уйти в отставку.
Угрозы де Венделя было достаточно, чтобы сместить баланс в пользу тех, кто считал, что надо рассказать правду. Когда 9 апреля наконец было рассказано о том, что баланс Банка Франции был сфальсифицирован, Эррио возложил вину на Банк. Он упирал на то, что действия его правительства ничем не отличались от действий его предшественников. Однако после вынесения вотума недоверия в Сенате он был вынужден уйти в отставку.
Экономисты называют такое положение вещей «фискальным доминированием»[63]. Когда бюджетные власти решают допустить бюджетный дефицит и центральный банк ничего не может сделать с этим, у центрального банка не остается другого выбора, кроме как покупать государственные облигации и смириться с более высоким, чем ему бы хотелось, уровнем инфляции, если эти дефициты невозможно профинансировать другим способом, и в противном случае приходится ждать дефолта или финансового хаоса. В случае с Францией центральный банк зашел так далеко, что решил не обращать внимания на закон. Здесь прослеживается параллель с положением в регламенте Европейского центрального банка, запрещающим ему покупать новые выпуски государственных облигаций. Это положение призвано защитить ЕЦ от фискального доминирования, а европейское население – от инфляции. Также прослеживается параллель с тем, как ЕЦБ пришлось по-своему интерпретировать, если не сказать – совсем проигнорировать это положение в 2012 году, когда перед лицом кризиса на рынке облигаций он объявил программу покупки суверенных облигаций стран еврозоны на вторичном рынке (Outright Monetary Transactions)[64]. Иногда даже центральным банкам приходится признавать, что есть вещи и похуже небольшой инфляции.
Проблема Франции заключалась в том, что инфляция была не такой уж небольшой. Она продолжалась почти два года, поскольку один премьер-министр за другим – а с июня 1924 по июль 1926 года их было 7 – пытались преодолеть нежелание левых и правых пойти на компромисс в отношении бюджета. Левые предлагали специальный налог на капитал, и состоятельные граждане переводили свои сбережения за рубеж. Правые предлагали новые потребительские налоги, и работники выходили на улицы.
Разгонявшаяся инфляция была губительной для мелких вкладчиков, рантье и военных пенсионеров, то есть наименее защищенных слоев населения. В июле 1926 года свыше 20 000 бывших военнослужащих и их сторонников вышли на акцию протеста перед Палатой депутатов. Обвиняя иностранцев в манипулировании франком и раздувании инфляции, толпа атаковала автобусы Paris-by-night (ночной Париж) – популярное средство передвижения американских туристов. Состоятельные французы, опасаясь народных волнений, теперь отправляли за рубеж не только свои сбережения, но и семьи.
На этом этапе инфляция стала уже совсем нешуточной; в некоторых кругах ее рассматривали даже как угрозу для французской демократии. Палата депутатов, в которой преобладали левые, 22 июля в отчаянии согласилась позволить Пуанкаре вновь возглавить правительство национального единства. Несмотря на его жесткую политику по отношению к Германии, Пуанкаре имел репутацию рассудительного и осторожного руководителя. Он был «надежным человеком» и сделал себя имя, помогая организовывать национальные финансы во время Первой мировой войны. Временная стабилизация 1924 года была его заслугой. Повысив налоги перед парламентскими выборами, он поставил интересы национальных финансов выше своей политической выгоды, и ему пришлось за это заплатить.
Пуанкаре также был надежным человеком в том плане, что он не принадлежал ни к правым, ни к левым. В Палате депутатов его всегда ассоциировали с центристами. Bloc National был правоцентристским, но у Пуанкаре также были друзья и союзники среди социалистов, и не последним из них был Леон Блюм, будущий премьер-министр. Будучи выходцем из среднего класса, он относил себя к мелким вкладчикам – наименее защищенным от разрушительного влияния инфляции слоям населения. Обстоятельства требовали умеренности. В противоположность отношениям с Германией, когда дело касалось внутренней политики, именно это и предлагал Пуанкаре.
Таким образом, Пуанкаре было предложено сформировать единое правительство на основе правоцентристов с некоторым добавлением левых. Теперь все были согласны, что политизация бюджетной политики зашла слишком далеко. Назначение Пуанкаре и формирование им правительства национального единства служило признанием этого факта. Политикам, очевидно, тяжело дался урок, что бюджетные решения должны приниматься сообща, а не навязываться правым левыми или наоборот.
Содействовать принятию таких совместных решений теперь и было задачей Пуанкаре. Процедуры контроля над доходами и сбора налогов были изменены с тем, чтобы повысить бюджетные доходы. Произошла некоторая оптимизация государственной администрации – были закрыты районные суды и другие административные учреждения. Средства государственной табачной монополии пошли на обслуживание и выкуп государственного долга. Это подтверждало, что правительство не планировало отчуждения имущества состоятельных граждан, хотя формирование правительства национального единства и так уже это предполагало. Наконец Пуанкаре предложил конвертировать краткосрочные облигации национальной обороны, которые были непосредственным источником финансовой уязвимости, в более стабильные долгосрочные облигации.
Желание переложить бремя стабилизации – с капиталистов на рабочих, со среднего класса на зажиточных граждан или с Франции на Германию – наконец само сгорело в костре инфляции. В результате ограниченных мер Пуанкаре хватило, чтобы «зацементировать» стабилизацию 1926 года, которая пришла в августе. Цены перестали расти; франк, который до этого падал, начал резко укрепляться к неудовольствию французских экспортеров, которым нравилось это обретенное конкурентное преимущество. Это заставило Банк Франции покупать иностранную валюту за франки, чтобы замедлить укрепление национальной валюты. В конце 1926 года курс франка был привязан к фунту стерлингов и к доллару, а в 1928 году наконец была восстановлена конвертируемость в золото.
Французские нормы золотого стандарта, как и немецкие, были особенно жесткими. Они запрещали центральному банку покупать государственные ценные бумаги на рынке (то есть прибегать к «операциям на открытом рынке») и иным способом предоставлять прямое финансирование правительству. Как и в Германии, инфляция и социальное разделение, которое она обнажила, оставили свои длинные тени.
Торможение инфляции сначала в Германии, а потом во Франции стимулировало возвращение беглого капитала. Поскольку инфляция замедлилась, было больше шансов на то, что инвестиции сохранят свою стоимость. Чтобы исполнить намерение вернуться к золотому стандарту, правительствам надо было сохранять бюджетный баланс. У инвесторов, таким образом, появились основания надеяться, что череда бюджетных дефицитов и конфликтов по поводу налогового вопроса позади. Со временем идея о том, что стабилизация валюты неким образом гарантировала ответственное бюджетное поведение и освобождала инвесторов от риска суверенного дефолта, будет развенчана. Такую же ошибку совершили и наивные инвесторы, купившие южноевропейские облигации после наступления эпохи евро в 1999 году. И это имело такие же губительные последствия.
Приток иностранных денег оказался для экономик Франции и Германии палкой о двух концах, поскольку он способствовал росту обменных курсов. Чтобы предотвратить взрывной рост, который имел бы очень неблагоприятные последствия для экспортеров, Рейхсбанк и Банк Франции скупали этот иностранный капитал за марки и франки. Однако иностранные ценные бумаги (особенно номинированные в фунтах стерлингов), приобретенные таким способом, очевидно, были не так хороши, как золото, на которое их можно было бы обменять.
Так возникла проблема Нормана. Во второй половине 1926 года Рейхсбанк начал реализовывать свои запасы фунтов стерлингов, взамен получая от Банка Англии золото. За шесть месяцев, завершающихся в феврале 1927 года, британский экспорт золота в Германию приблизился к существенной сумме в 60 млн долл. Шахт, который к этому времени прочно закрепился на посту главы центрального банка Германии, сознавал, какую конструктивную роль сыграл Норман в переговорах по плану Дауэса, по которому были снижены репарации и получен стабилизационный кредит. Однако, несмотря на благодарность, Шахта в первую очередь заботило свое собственное положение. Эмоции не мешали его вере в важность соблюдения норм золотого стандарта. Поэтому Шахт предъявил Банку Англии фунты стерлингов, приобретенные через операции стерилизации, для конвертации в золото.
Норман был не так полезен Банку Франции, когда он безуспешно боролся с долговым и валютным кризисами в 1923, 1925 и 1926 годах. Он считал, что Франция чинила особенные помехи в переговорах о репарациях. Также не следует забывать тот факт, что Банк Англии и Банк Франции боролись за влияние в Центральной и Восточной Европе, чей финансовый бизнес они стремились привлечь в Лондон и Париж соответственно. Хотя Эмиль Моро – преемник Робино на посту президента Банка Франции с 1926 по 1930 год – отзывался о своем английском коллеге как о «приятном и очаровательном», Норман отклонял попытки Франции получить реальную помощь для финансовой стабилизации[65].
Теперь, когда капиталы потекли из Британии во Францию, обстоятельства переменились. Иностранные активы, приобретенные Банком Франции, были номинированы в фунтах стерлингов и выпущены в Лондоне. Опасаясь той же неопределенности, что и Рейхсбанк, Моро воспользовался первой же возможностью, чтобы их реализовать. Он знал, что его запрос, из-за изъятия золота из Банка Англии, вынудит Нормана поднять учетную ставку – ставку, по которой Банк Англии учитывал векселя банков. Но он не считал это неблагоприятным побочным эффектом. Если бы это привело к более жестким условиям в Лондоне, который был источником значительного потока краткосрочного капитала во Францию, тогда эта политика с французской точки зрения имела бы дополнительные преимущества. Если бы это создало трудности для Банка Англии, значит, так тому и быть.
Одним из источников капитала Британии был долг Франции со времен Первой мировой войны. Поэтому Норман предложил Уинстону Черчиллю, канцлеру казначейства, попросить ускорить выплату этого долга. Эта угроза, плохо завуалированная, заставила Моро договориться о компромиссе в июне 1927 года, согласно которому Банк Франции ограничил дальнейшую конвертацию фунтов стерлингов в золото суммой 30 млн фунтов. Агрессивная дипломатия Нормана решила, или, по крайней мере, отсрочила проблему. Но она не обещала перспектив дружеских монетарных отношений в будущем.
Стронг наблюдал за ходом этих франко-британских переговоров со своего «шестка» в Нью-Йорке. За исключением небольшого перерыва в конце 1926 года, проведенного в Билтморе (Северная Каролина), он, восстанавливаясь после пневмонии, поддерживал практически непрерывный контакт со своим другом Норманом через телеграммы и письма. Зная, что мнение руководителя американского центрального банка имело вес, Моро направил Стронгу свой собственный отчет о переговорах Банка Франции и Банка Англии, чтобы Стронг смог сформировать сбалансированную точку зрения.
Однако конечной целью было навязать Стронгу мнение о хрупкости британской позиции. Сохраняющаяся стабильность фунта стерлингов всецело зависела от кооперации Рейхсбанка и Банка Франции, но это не стоило воспринимать как должное. В то же самое время эти благоразумные «мужи» понимали, что они находятся в одной лодке. Стронг провел доброжелательные двусторонние переговоры с Норманом, Шахтом и различными чиновниками Банка Франции. В случае с Норманом и Стронгом это были более чем просто доброжелательные двусторонние переговоры. Эти двое уже встречались во время Первой мировой войны по случаю визита Стронга в Европу после вступления в должность главы Федерального банка Нью-Йорка, и между ними завязались дружеские отношения. Они стали друзьями по переписке и отдыхали вместе дважды в году на протяжении большей части 1920-х, если позволяло здоровье. Если Норману удалось завязать такие плодотворные отношения со Стронгом, почему другие руководители центральных банков не могли достигнуть такой же гармонии и понимания при личных встречах?
Норман предложил, чтобы он и Стронг вместе встретились с Шахтом и Моро. Стронг составил приглашение – он все еще восстанавливался после пневмонии и захотел, чтобы встреча прошла в Соединенных Штатах. Моро, который не владел английским, даже универсальным языком центральных банков, передал приглашение Шарлю Ристу, своей «правой руке».
Стронг, Норман, Шахт и Рист встретились в первую неделю июля в Вудберри, Лонг-Айленд, в доме помощника министра финансов США Огдена Миллса. Этот монументальный особняк, спроектированный Джоном Расселом Поупом, был одним из самых шикарных на Лонг-Айленде, с видами во всех направлениях. Его центральная часть, возвышавшаяся на два этажа, с карнизами и балюстрадой в итальянском стиле… окаймлялась и надежно поддерживалась двумя пропорциональными крыльями, чьи плоские, украшенные лепниной карнизы создавали одну линию первого этажа вокруг всего здания[66]. Эта роскошная архитектура более чем подходила для встречи руководителей ведущих мировых центральных банков. Соответствовала ли этой задаче международная финансовая архитектура – другой вопрос. Главы центральных банков совещались в течение пяти дней. Это было похоже на дрессировку котов – Стронгу не удалось добиться даже, чтобы трое его коллег одновременно собрались в одной комнате. Возможно, это и неудивительно, учитывая их различия. Норман упирал на деликатность своей позиции и ограниченные запасы золота. Шахт и Рист настаивали на важности строжайшего соблюдения норм золотого стандарта.
Методом исключения инициативу на себя пришлось взять одному центральному банку. Результатом стала еще одна попытка Стронга уговорить банки ФРС на снижение процентных ставок, чтобы поддержать фунт стерлингов. В таком исходе есть своя ирония. Стронг согласился созвать собрание в попытке стимулировать европейских банкиров скорректировать свою политику, однако в конечном итоге корректировать политику пришлось ему самому.