За что любят Родину бесплатное чтение
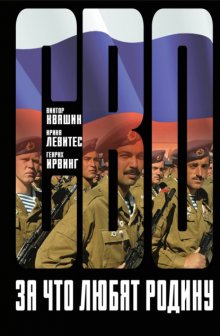
© Квашин В., 2024
© Левитес И., 2024,
© Ирвинг Г., 2024
© ООО «Издательство Родина», 2024
Солдатки
Юлия Кожева
– А ли подвезти? – чуть впереди остановилась телега.
– Да и подвези, – весело заторопилась Мария. – Ты, что ли, Федор Иванович?
– Я, али не признала? – отозвался старик. – Куда в такую рань правишь?
– Знамо, на базар, в Бежецк. Может, чего поторгую.
Молодая, ладно сложенная крестьянка, с небольшими серыми глазами, красивыми пухлыми губами и темно-русыми волосами, убранными под светлую косынку, удобно устроилась на подстилке из сена.
– Так и я туда. От Василия есть известия?
– Давно письма не было. А то под Ровно стояли против германцев.
Низкорослая рыжая лошадка тихонько бежала по пыльной сухой дороге мимо золотисто-белых полей ржи, бедных придорожных деревенек, редких перелесков из нежных прозрачных берез и темных кудрявых осин.
Еще с вечера Мария разложила по бумажным кулечкам свежие летние ягоды, приготовила корзину яиц да отрез нарядного сатина. Хорошо бы распродать нехитрый товар или сменять на мыло или соль.
До города от деревни было почти двадцать пять верст, но молодая женщина привыкла ходить пешком. Вставала пораньше, чтобы успеть на воскресную службу в светлый воздушный пятиглавый Воскресенский собор.
Ей нравилась и длинная дорога, когда можно побыть одной, обдумать житье-бытье, и торжественная служба, и возможность поговорить на базаре с разными людьми – узнать последние новости.
В церкви она всегда стояла справа от главного входа, не близко к алтарю, у иконы Николая Чудотворца. Его, заступника, да Божью Матерь просила уберечь мужа, Василия Федоровича от вражеской пули, болезней и бед.
Мария молилась и изредка, в задумчивости, оглядывала храм. Иногда замечала знакомые лица – она хорошо запоминала людей и была приметлива на наряды. Вот бабы из близкой к Бежецку деревни Лютницы. Они часто бывают на службе. А эти старики живут далековато, в Чижово, что в семи верстах от ее родного Миновского, знать, приехали, как она, по делам и не стали пропускать обедню.
Молоденькая барыня в простом темном наряде с красивыми бусами темно-зеленого цвета и скромной черной шляпке привлекла внимание Марии. Ее она впервые в журнале видела и раньше. Обычно летом – наверное, та приезжала погостить. Тонкая фигурка, нос с горбинкой и всегда задумчивый взгляд выделял ее среди простых привычных лиц. Иногда барынька приходила с маленьким мальчиком, но сегодня стояла одна – сосредоточенная, прямая, устремив глаза на царские врата. Оттуда как раз вышел с Чашей священник, призывая благословение на Святые Дары.
После службы Мария сразу пошла на рынок – выбрала место, разложила товар и принялась выкрикивать – зазывать покупателей:
– А вот ягоды сладкие, только вчера солнышку кланялись! На полянке про житье-бытье с ветром шептались, птицам лесным тайны свои сказывали!
У нее находились присказки на все случаи жизни. Так что родня и знакомые только диву давались – как она все это выдумывает.
– Как интересно вы, милая, сказываете, – Мария и не заметила, что к ней подошла давешняя барыня из церкви. – Дайте-ка мне этих синих ягодок.
– Голубички-то? Вот, возьмите. А хотите, может, купить отрез на платье? С самого Петербурга привезла.
– Из Петербурга? Вот как, а что, бывали вы там? – заинтересовалась покупательница.
– Как же, с Василием моим жили – не тужили, пока немец, проклятый, войну не начал.
Мария была рада поговорить с новым человеком. Да еще с таким непростым – видно, из высокого общества.
– Это муж ваш? Василий?
– Муж, верно.
– Воюет?
– Уж второй год как забрали.
– И мой воюет, Николай, – барыня заметно погрустнела.
«Вишь, – подумала Мария, – барин, значит, военный у нее».
– А что, есть у вас детки? – помолчав, спросила интересная собеседница.
– Как же, Танюшка, дочка. Уж второй год ей.
– А моему Левушке четвертый.
Оказалось, они очень похожи – простая крестьянка и столичная гостья, волею судьбы попавшая в старинный провинциальный городок, тихо дремлющий вдалеке от оживленных торговых дорог.
– Значит, обе мы солдатки с вами, – печально улыбнулась барыня, принимая кулечек с ягодами.
– Выходит, что так.
Мария быстро расторговалась и собиралась в обратный путь. Она сидела на ступенях большого каменного магазина – поджидала своего утреннего попутчика, который обещал довезти до села Поречье. А там до деревни рукой подать.
– Милая, не знаю, как вас зовут, – вдруг окликнул ее знакомый голос. – Возьмите-ка гостинчик для доченьки.
– Марией, – она машинально протянула руку и приняла кулечек конфет.
– А меня Анной.
– Будем знакомы, – улыбнулась Мария, – очень вам благодарные.
Белые с серой каймой облака окрасились розовым цветом, когда довольная удачным днем Мария вернулась домой.
Маленькая Танечка сразу запросилась на руки, хотя скучать ей особо не пришлось. В деревне было много ребятни ее возраста, которая целыми летними днями пропадала на улице под присмотром девчат постарше.
– А вот погляди, какой гостинец тебе лисичка прислала, – Мария уселась к столу и высыпала горсть конфет в ярких обертках. – Угости бабушку и дедушку, а эти отложим до поры.
Женщина присмотрелась к бумаге – это была не привычная газета, в которую заворачивают покупки. Белая, плотная, с каким-то текстом. Мария, которая умела и любила читать, с любопытством стала разбирать чернильную вязь.
- Небо мелкий дождик сеет
- На зацветшую сирень.
- За окном крылами веет
- Белый, белый Духов день.
- Нынче другу возвратиться
- Из-за моря – крайний срок.
- Все мне дальний берег снится,
- Камни, башни и песок.
«Как вроде песня, только непривычная, не наша», – решила она и вложила аккуратно сложенный листок в старинную книгу.
Вторую неделю в Благодати стояли немцы
Алёна Кубарева
Вторую неделю в Благодати[1] стояли немцы. И вторую неделю Дарья сидела в насквозь промерзшем погребе[2]. Пряталась.
Ей было чего опасаться. Четверо сыновей служили на фронте. Четверо богатырей. Трое коммунистов, один – комсомол…
Колька, Володька, Ляксей… И младший, Борис. Красавец. Первый гармонист. Как затянет колхозную кадрель –
- Три-та-ти – дри-та,
- Три-та-ти – дри-та!
– все девки в пляс. Пойдет играть ямочками на щеках – ни одна не устоит…
Дарья – из городских, из тульских. Родители умерли. Воспитали чужие. Пятнадцать минуло – отправили в деревню. Замуж. В городе бесприданницу никто не брал.
Дарья сначала никак не могла привыкнуть. Все из рук валилось – ничего не умела. Но главное – не рожала долго. Ей и кличку дали – Дашка-неродеха. А потом, после двадцати – пошло, пошло!.. Одного за другим – Маньку, Кольку, Володьку, Ольгу, Ляксея, Бориса, Клавдю… Все выжили. Андрей – муж – бранился:
– Куда ж ты мне – прорву?!!! Как кормить?!!
А то еще ревновал. Выпьет:
– Энти – мои, на меня похожи. А энтот (кивает в сторону Бориса) – не знаю чей! Чернявый черт… Армяшка… Говори, от кого прижила! Не то!..
– Как это – Борис не твой?!! – Закусывала губу от обиды. Молодая была, глупая – оправдывалась. А оправдываться – хуже нет.
– Ага-а! – Заносил Андрей руку… Забывал, что цыган по отцу.
Но Дарья скоро стала отвечать. Тяжел кулачок оказался… Даром сама – два вершка.
…До войны Андрей не дожил. На фронт провожала одна. Всех четверых – в один день. Старшие попрыгали сразу в вагон. А Борис стоял перед ней на перроне, переминался с ноги на ногу. То краснел, то бледнел. Усы не отросли… Восемнадцать только… Дарья больше всех его оплакивала – еще живого.
… – Мама-ань!
Это Манька. Поесть принесла. Одна Манька в погреб и ходит. Одна не боится.
Дарья мгновенно вскипятилась – приготовилась ругать. Другие-то дочери отмахнутся, а то и матюкнутся в ответ. Манька – кисель, тихоня. Терпит. Такую грызть – одно удовольствие. За все. За войну. За холод. За сыновей…
Дарья и жалела ее. Маньке – двадцать седьмой. И так-то охотников мало, а еще – война… И все ж не могла злобно не шикнуть:
– Ах, паралик тя расшиби! Чего орешь-то! Немцы ж кругом! Еще услышат!..
Смягчилась:
– Весточки нет?
– От кого, мамань? – Манька уж спустилась. Аккуратно идет. Уточкой. Пол земляной – скользкий, а она крынку несет – молока матери достала. Боится пролить.
– Дура ты стоеросовая! Руки-ноги отрастила – голове не дала… От Бориса!
Хм-м…
Поперхнулась. Стыдно одного младшего любить.
– От Кольки, Володьки. От всех!
– Не-е, – Манька горестно вздохнула, поставила крынку на колченогий табурет. Сама села на перквырнутое ведро.
Дарья взяла крынку, отхлебнула. Вку-у-сно!.. Всё-всё до капли выпила.
– Стреляли седни?
– Стреляли.
– Далеко ль?
– Далеко пока, – Манька, потупившись, ковыряла передник. – Оттель, – махнула в сторону Каширы.
– А кто стрелял-то?
– Почем я знаю! – Манька смутилась, покраснела. Будто одна и виновата, что никак свои Благодать не отобьют.
Летом Маньку с другими девками отправили рыть противотанковые – под Дорогобужем. Говорят, бомбили… Манька вернулась. Одна из немногих… Угрюмая. Ничего не рассказала.
– Меня-то ищут? – прошептала Дарья.
– Ищут, – Манька снова занялась передником. – Комиссар ихний старшой все ходит, спрашивает. «Во ист, – говорит, – Ташка? Ди муттер дер коммунистен? Вер загт – бекомт ди шоколаде тафель!» Жамки, значит, за тя предлагает.
– Во память! – удивилась Дарья. – Над-был тя тоже учиться отдать, а то – только три года… А имя-то мое – откуда? Кто сказал?
– Не знаю.
Помолчали.
– А что наши? Показывают? – нахмурилась Дарья.
– Показывают. Сгинула, мол. В болоте.
– Дурни! – невольно рассмеялась Дарья. – Где ж тут у нас болота?
Манька тоже улыбнулась, прикрыла рот ладошкой.
– Почем немцы знают – есть тут болота, нет? – озорно подмигнула.
– Ну, ты… Не регочи! – посерьезнела Дарья. – Еще сглазишь…
– Пойду я, – Манька встрепенулась, схватила пустую крынку, метнулась к выходу.
– Да! – вернулась, опустила глаза. – Там, мамань… Клавдя на фронт собралась…
– Как это? – Дарья схватилась за сердце. – Девка ж. Куда?
– У Клавди немецкий – хорошо. Она энтим, – взглянула наверх, – переводила. «Не хочу, – говорит, – на фашистов работать. В разведку пойду…»
– Так поезда ж на фронт не… – оторопела Дарья.
– Она пешком.
Дарья – за голову. Про себя завыла. О-о-о! Война проклятая! Четырех сыновей отдала – еще и дочь?!! Так детей не напасешься!
Манькин тулупчик мелькнул у выхода. Высунулась, огляделась. Шасть! И только дверь закрылась – сдавленный визг.
Похолодела Дарья. «Видать…» Не додумала. В погреб ворвались трое. В серой мышастой форме.
«Конец. Эх, Манька!..»
– Ти есть Ташка?
Дарья встала, огладила юбку. Посмотрела прямо в белесые ненавистные глаза.
– Я есть.
Короткий удар в переносицу. Дарья охнула, повалилась.
Спустя два дня немцы бежали. Побросали все – танки, оружие, боеприпасы. Даже скотину. Она теперь – одуревшая, тощая – одиноко и голодно кричала на все голоса.
В овраге – трупы.
…Немцы никого не подпускали. Манька уж издергалась, изрыдалась – все юлила, вывихливала перед охраной:
– Дайте маманьку схоронить! Битте…
Немцы смеялись, попыхивали «Экштайном».
Один раз Манька уж почти подползла. Протянула руку…
– Halt! Zurück![3] Дуло автомата. Круглое, ровное. Равнодушно-черное. Смерть.
…Их собрали в одном сарае. Человек двадцать. Из Мягкого, Дудина, Благодати. Кто чем провинился. Кто козу не отдал, кто хлеб прятал. Кто дочь защищал…
Сутки держали без воды. О еде – нечего и думать.
Все бабы. Все молчат. Один только мужичонка. Колготился – вскакивал, подбегал к двери, прикладывал к прорехам губы, шептал: «Братцы!» Как молился… Потом – обратно. Руки потные об колени тер. Вращал глазами, а то – суживал до змеиных щелей. «Тэ-тэ-тэ-тэ-э!» – пел ли, захлебывался?
«Убогой», – думала Дарья.
– Энтот сдал когой-то, – сквозь зубы процедила Ганька Калгушкина (Дарья ее знала – дальняя родственница по мужу). – Вот и места не находит.
С улицы доносилась песня:
- Ja, wir sehen uns in Berlin,
- Nach Berlin geht unsere Reise![4]
Дарья – ни слова по-немецки. Но догадалась, почуяла: гибель себе поют.
«Так вам, окаянные! Войте, кликайте беду! Вернется!»
…На рассвете открыли дверь:
– Nacheinander raus![5]
Никто не сдвинулся с места.
– Komm schon, schnell! Kommt raus![6]
Дарья поднялась первой. За ней гуськом – остальные. Прошли несколько шагов.
Сзади послышались крики. Дарья невольно оглянулась.
Мужичонка никак не хотел выходить. Плевался, вырывался. Вопил:
– Братцы, братцы!
Немцы его – прикладами по голове. Потом подхватили – поволокли.
Шли молча. Дарья смотрела под ноги.
– Даш!.. – Ганька догнала, хоть конвойный и вскинулся: «Halt!» Отмахнулась.
– Помнишь, как Андрея хоронили?
Дарья помнила. Был июль. Жарило-парило всю неделю, пока лежал. А как помер – дождь полил. Сильный! Всю дорогу до кладбища развезло. Чернозем жирный, липкий. Так и хватал за ноги. Будто не хотел пускать. Тонула в грязи…
Дарья взглянула вокруг. Морозное солнце поднялось. Снег розово-желто-голубой. А то – темно-синий, как глаза Андрея, когда молодой был…
Избы кончились. «К лоску идем, – догадалась. Лоск – напротив кладбища. – Вот и Андрей посмотрит…»
Поставили в ряд, спиной к обрыву. Десять убийц.
– Achtung!
Дарья нахмурила лоб. Что-то соображала. Вдруг глаза – к небу.
Господи Боже!.. Всех люблю! Главное – никого не забыть!
Колька, Володька, Ляксей…
– Feuer!
Борис…
На два фронта
Виктор Квашин
Михаилу Васильевичу Ярцеву дали путевку в военный санаторий. А чего бы не съездить? Лет десять уже никуда не выбирался. Жена умерла, потом инфаркт, теперь вот врачи разрешили, сами рекомендуют. Дочь отговаривала: что там в декабре мерзнуть? Но он решил ехать. В его возрасте лета можно и не дождаться, а на Черном море и зимой не холодно.
Аэропорт ослепил чистотой и комфортом. В самолет посадка по закрытому переходу – хоть в домашних тапочках иди, не замерзнешь. В «Боинге» Михаил Васильевич летел первый раз в жизни. Место досталось у иллюминатора. Кресла удобные, ноги вытянуть можно. Стюардессы улыбаются, не знают чем угодить.
Молоденькая соседка (хотя для него теперь почти все «молоденькие») заметно нервничала, и Михаил Васильевич попытался ее успокоить:
– Вот, дожили, какие самолеты стали! Одно удовольствие, даже уши на взлете не болят.
Соседка бросила на него презрительный взгляд.
– Полный отстой! Так некомфортно я еще не летала. Никогда больше не полечу этой компанией!
«Избаловались! Трудностей не знают», – подумал Михаил Васильевич, но, вспомнив о больном сердце, спорить не стал. Уставился в иллюминатор.
Внизу медленно проплывали заснеженные извилистые речки, поселки, дороги, рощицы. «А ведь в начале войны здесь был фронт. От Балтики до Черного моря. Надо же, куда немец дошел! И как выстояли?» Но и воспоминания пришлось отогнать – нельзя нервничать, и так нарушил запрет врачей лететь самолетом.
Санаторий был шикарный. Видимо, еще сталинских времен. Расположен в тихом распадке между гор, на окраине города. Здания украшены колоннами, лепниной и статуями, прославляющими мирный труд советских граждан. Па-латы на двоих. Питание четыре раза в день самое разнообразное, с фруктами и соками.
Михаил Васильевич был доволен. Только фронтовиков было мало. Были военные пенсионеры, были «афганцы» и «чеченцы», но у них другая война. Соседом по палате оказался ветеран труда, насквозь больной. Он постоянно смотрел телевизор и говорил о маленькой пенсии, больших ценах и все жаловался на жизнь.
Михаил Васильевич твердо решил ни с кем не спорить, не расстраиваться, поправлять здоровье. Он гулял по дорожкам санаторного парка, обсаженным кипарисами и другими южными деревьями, большинство которых были зелеными, или шел в город, на берег моря к портовому молу.
Зимнее море было темным, штормило. Он подолгу наблюдал, как длинные волны одна за другой бились в бетонный мол, взлетали широкими фонтанами вверх и осыпались мелкими брызгами. Пахло водорослями и солью. «Вот так и мы волна за волной били в фашистскую стену, разбивались в пыль, но за нам и шли другие и сломали, и затопили собой вражеское логово и Европу. Жаль, что не всю. Не тявкали бы теперь, не мешали бы жить». Такие рассуждения он прерывал, чтобы не нервничать, шел обратно в санаторий или просто гулял по улицам города.
Магазин «Кавказские вина». Зашел. Любил когда-то. Витрины с подсветками, и чего только нет! «Не то, что в наше время…»
– Дед, долго ты тут зевать будешь? Подвинься! – молодой, самоуверенный, наглый.
Михаил Васильевич молча пошел к выходу. «главное – не нервничать».
– Извинись перед стариком! – раздалось за спиной.
– Да задолбали эти ветераны!
Раздался глухой удар. Продавщица взвизгнула. Михаил Васильевич обернулся.
Двое крепких мужчин подняли с пола парня с разбитой губой, подтащили к нему.
– Извинись!
– Отпустите его, ребята, он все равно не поймет, – сказал Михаил Васильевич.
– Ладно, живи, тварь! – сказал тот, что был повыше. – А вы сейчас в санаторий? Пойдемте вместе. А то такие, как этот, мстительные.
– Спасибо, я сам. Я медленно хожу.
– А мы не спешим, правда, Егор?
– Откуда вы знаете, что я в санатории?
– А мы тоже там.
– Ну, тогда давайте знакомиться. гвардии старший сержант Ярцев Михаил Васильевич. Второй Украинский, затем Первый Белорусский фронты.
– Лейтенант Виктор Самойлов. Кандагар, – в тон ветерану ответил высокий.
– Рядовой Кравченко, – Егор протянул левую руку.
Только сейчас Михаил Васильевич заметил, что правая рука Егора в перчатке и выглядит неестественно – протез.
– А вы с какой войны? – спросил Егора Михаил Васильевич.
– Все мы оттуда.
– И сколько вас «всех»?
– Четверо, – ответил Виктор. – Михаил Васильевич, присоединяйтесь к нашей компании. Мы тут местечко разведали в лесу. Посидим вечером по-походному у костра, шашлык будет.
Было в этих мужчинах нечто располагающее, и он согласился, тем более что сосед по комнате уже надоел своим нытьем о плохой жизни.
Виктор зашел за Михаилом Васильевичем после ужина.
За территорией санатория в изгибе распадка уже горел костер, на обломке фанеры был накрыт импровизированный стол.
Поздоровались.
– Ваше место, Михаил Васильевич, – указал Виктор на единственный стул, видимо, специально принесенный. – Присаживайтесь.
Михаилу Васильевичу хотелось быть равным среди равных.
– Что ж вы меня совсем старым-немощным считаете? Я как все.
– Мы не возраст уважаем, а заслуги, – сказал коренастый Серега.
– Откуда тебе знать о моих заслугах?
– Мы ваши орденские планки видели, у вас на пиджаке. Только боевых орденов пять. Мы все вместе не дотягиваем.
– Этот аргумент принимаю, – согласился Михаил Васильевич и уселся.
– Шашлык готов! – прокричал от костра чернявый Казбек. – Наливай, командир!
– Позвольте узнать, по какому поводу праздник? – спросил Михаил Васильевич.
– Мы не празднуем, мы отмечаем, – сказал Егор.
– Годовщину гибели роты, – добавил Виктор, – от которой мы четверо только и остались. А соответственно, и наш общий день рожденья.
Виктор налил стопку в центре стола, прикрыл хлебом, затем стал разливать остальным. Михаил Васильевич прикрыл свою стопку ладонью.
– Я свою бочку выпил… а впрочем, по такому поводу налей глоток. Один раз живем. И другу моему, не возражаете?
Виктор молча налил две стопки. Михаил Васильевич положил на одну кусочек хлеба.
Помолчали.
– Вечная память, – не выдержал Михаил Васильевич и выпил.
Четверо друзей выпили молча.
Спирт ожег нутро, расслабил нервы. Шашлык был превосходный. Послышались шутки. Михаилу Васильевичу стало хорошо, как давно уже не было. Он был среди своих.
– Отец, расскажи, как орден Славы добыл, – попросил Казбек.
Михаил Васильевич вдруг стал серьезным, помолчал в раздумье.
– Нет, ребята, про «Славу» в другой раз. Давайте я вам про свой первый бой расскажу. В тему будет.
На фронт я попал в начале сорок второго. И сразу в гвардейский полк. Учили нас, молодых, прямо на марше, во время привалов и дневок. Ну, пока учили, казалось, все понятно…
На передний край прибыли в конце февраля. Деревня там была Коркачево, и речка, как сейчас помню, Порусья называлась. Задача – реку форсировать, захватить плацдарм.
Речку перескочили, с ходу немца из первых траншей выбили. И все. У них эшелонированная оборона, доты, дзоты, блиндажи, вся местность пристреляна. Мы на голом месте, и снег выше колена. Простреливают наши позиции насквозь – головы не поднять. Потери большие. Короче, завязли мы.
Был там овраг пологий. По нему и снабжение, и пополнение ночами получали, в него и раненых стаскивали. Потом немцы с двух сторон поджали, потеснили, овражек этот простреливать стали. Совсем плохо стало, связь и снабжение с «большой землей» только ночами, под обстрелом. Этот овраг «дорогой смерти» у нас прозвали. А приказ: плацдарм держать! Мы и держали, на два фронта, почти в окружении.
Наш ротный решил ночную вылазку организовать, чтоб немцев от оврага отбросить. Удачно вышло: подползли по снегу – и в рукопашную, молча. Ошеломили. Выбили. И уже бой почти закончился, я очередь автоматную «словил» – три пули: в грудь, в правую руку и правую ногу.
Очнулся утром в овраге. Осмотрелся как мог – вокруг меня целый госпиталь, только без медперсонала. Раненые все тяжелые, кто стонет, кто без сознания. У меня тоже сил нет шевелиться. Ну, стало мне ясно, что до темноты нас отсюда не вытащат. Мороз крепчает. Чувствую, замерзаю. Да еще сосед в бреду без перерыва: «Укрой, замерзну! Укрой, замерзну!» В общем, деморализовал он меня. Понимаю, что не дожить мне до вечера, ноги уже перестал чувствовать. Слышу, сосед затих. глянул на него – мертвый, и слеза на скуле замерзла. Жалко себя стало…
Через какое-то время движение в овраге заметил: ползет солдат, за собой на веревке мешок подтягивает. Я давай ему кричать, а губы не слушаются, и вместо голоса хрип только. Кое-как здоровую руку поднял и держу. Подполз он ко мне. Оказалось, земляк мой из минометного взвода, Колька Рогачев, призывались вместе.
Он мне первым делом глоток спирта дал и сухарь большой. Потом с соседа мертвого шинель снял, укутал меня и снегом привалил. «Лежи, – говорит, – я роту покормлю, на обратном пути тебя вытащу».
Мне вроде и вправду теплей стало, заснул, наверно. Очнулся уже в госпитале, через сутки. Спрашиваю: «Меня Рогачев вынес?» «Нет, – говорят, – санитары ночью вывезли». Потом узнал, не мог Колька меня забрать, убило его в тот день.
Михаил Васильевич замолчал.
– Это ему? – показал на стопку Виктор.
– Ему. А от нашей роты тогда осталось одиннадцать человек. И на меня домой похоронка пришла. Это я уже после войны узнал. А тогда четыре месяца по госпиталям, потом в другую часть попал. Еще дважды ранен был. Войну в Кенигсберге окончил. А если б не Колька…
Домой Михаил Васильевич возвращался поездом, через Старую Руссу. До Коркачево добрался двумя автобусами с пересадкой в районном поселке. Деревня не сильно изменилась, разве что появился ряд двухквартирных домов советского периода, да пара коттеджей последних лет. Зашел в магазин, купил бутылку водки.
– Скажите, здесь во время войны бои были…
– Да, да, говорят, много наших погибло. Памятник на бугре за речкой. Раньше на девятое мая там митинг устраивали, всем селом ходили.
– А где?
– По мосту перейдете, он недалеко, у дороги. Снегом, наверно, завалило.
С моста хорошо было видно и реку, занесенную снегом, и овраг. Михаил Васильевич попытался отыскать взглядом место, где лежал раненый. «Наверно, вон там…»
Памятник – бетонная пирамидка с жестяной звездочкой – стоял на возвышенности, метрах в пятнадцати от дороги. Эти метры дались Михаилу Васильевичу с трудом. Снег выше колена, «как тогда». «Дойду, все равно дойду, раз уж приехал. Там Колька, надо повидаться. Другого раза, может, и не будет уже».
Вокруг обелиска, выкрашенного серебрином, по всему периметру плиты с надписями. Расчистил снег.
«Авакян А.В. гв. сержант, Аверьянов… Аверченко, Абакумов…»
– Сколько же вас здесь, ребята!
Расчистил другую плиту: «Иванов, Иванов, Иванов, Искандеров…»
– Где же ты, Коля? Вот он.
«Рогачев Н.И. гв. рядовой».
– Здравствуй, Коля!
Сердце кольнуло и заныло противно. Михаил Васильевич опустился на плиту.
– Прости, Коля, что не приходил. Все дела да заботы земные. Все казалось, что жизнь впереди… Вот, добрался, наконец.
Он откупорил водку, поставил на плиту три пластиковых стаканчика.
– Это вам всем, ребята. А это тебе лично, Коля. Спасибо тебе за жизнь мою.
Троих детей вырастил, и внуков народилось семеро, и уже правнуков двое. Так что не зря ты тогда постарался.
Михаил Васильевич выпил. Посидел еще молча. Потом глубоко вдохнул морозный воздух, поднялся, обошел памятник, очищая все плиты. И все читал, читал фамилии, и перед глазами стоял тот бой во всех подробностях. На два фронта.
Последняя плита. «Яворский, Яковец, Яковлев, Якушин… Ярцев М.В. гв. рядовой». Михаил Васильевич не сразу сообразил, проскочил дальше по списку. Задело что-то знакомое, перечитал.
– Да это же я!
Он постоял над своей фамилией, затем вернулся к Коле, налил себе еще.
– Так вот что выходит, дорогой ты мой Коля! Оказывается, всю жизнь я здесь за тебя жил, старался память твою не опорочить, а ты там – за меня, тоже за двоих. Как в том бою – на два фронта. Ну, держись, Колек, недолго осталось, скоро вместе повоюем!
Штопор
Федор Ошевнев
Подходит к концу срок моей действительной армейской службы. И все острее и чаще внутреннее «я» ставит вопрос: как же жить дальше?
События, круто изменившие мою судьбу, произошли около года назад. Я тогда заканчивал первый курс высшего военного авиационного училища. То памятное лето выдалось на редкость жарким, и – как специально для полетов – постоянно безоблачное небо. В один из таких непривычно для августа знойных дней после предварительной подготовки к полетам второй смены я в компании еще нескольких курсантов нашей летной группы праздно сидел в курилке. В казарму, на обязательный предполетный отдых в койках, мы не торопились: в духоте засыпаешь трудно, а то еще и всякая чушь в сновидения лезет. По времени дежурный врач уже должен был нас разогнать «по матрасам», но эскулап непонятно почему запаздывал.
Разговор в курилке, как зачастую бывало, вертелся вокруг предстоящих полетов. Неожиданно кто-то высказался про мусульманское поверье, будто судьба каждого из летчиков «записана на небесах пером Провидения» и коль уж тебе по этой записи определено гробануться – да хотя бы сегодня, – то никакое умение пилотирования не поможет.
Тут беседа неожиданно оживилась: каждый из нас принялся высказываться по этому поводу pro и contra. А кто-то вообще додумался до мысли, что раз поверье это мусульманское, то на нас, христиан, не распространяется.
– Все это, господа будущие офицеры, – заявил, подводя итог, Валерка градов, один из лидеров летной группы, – есть чепуха и даже без постного масла. Никто из вас лично не был свидетелем сверхъестественных случаев, о которых все столь живо разглагольствуют, все только исключительно понаслышке.
– Да нет, конечно, – загалдели мы. – Но ведь столько говорят.
– Вздор! – оборвал галдеж Валерка. – Покажите не пересказчиков, а настоящих, реальных очевидцев подобных чудес. И если уж на то пошло, что кто-то всерьез допускает существование фатальной предопределенности, зачем тогда зубрить действия при особых случаях в полете? Зачем, спрашивается, катапульта и голова на плечах? Зачем вообще было выбирать рисковую профессию летчика-истребителя? С такими взглядами в кабине самолета просто делать нечего.
В это время, явно чтобы привлечь общее внимание, с лавочки поднялся до того не принимавший участия в разговоре Андрюха Сказкин. Картинно затянулся остатком импортной сигареты, щелчком артистично отправил бычок в урну (диск от автомобильного колеса, врытый посреди курилки), торжественно-спокойно оглядел присутствующих и снова сел.
Андрюха был рожден от смешанного брака. Мать-гречанка одарила его смуглой кожей, большими агатовыми глазами под крутыми ресницами, правильным античным профилем и черными, слегка вьющимися волосами. От отца же – потомственного москвича – сокурсник унаследовал высокий рост, худощавое телосложение и приятный бархатный голос.