Каждый мечтает о собаке. Повести бесплатное чтение
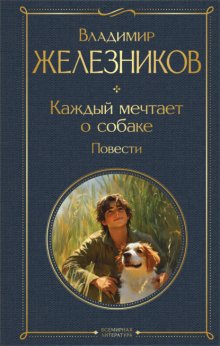
Последний парад
Представление
Сергей Алексеевич Князев прослужил в армии почти пятьдесят лет и вышел в отставку. Был он одинок, жена у него умерла давно, оставив ему сына Витьку, который еще мальчиком погиб в самом начале войны.
Сам он был еще крепок, с красивым лицом, молчалив и резковат, но доверчив и простодушен, как ребенок. Правда, об этом никто бы никогда не догадался по его внешнему виду. Пока Сергей Алексеевич служил в армии, все шло привычно и обязательно; он никогда не оставался без дел и даже ни разу не был в отпуске. Но как только вышел в отставку, воспоминания о прошлом так овладели им, что и составляли в единственном числе его занятия. Человеческое, вечное вышло у него на первый план, а то, военное, хотя и главное, которое составляло его суть, постепенно стало затухать в нем. И вдруг Сергей Алексеевич понял, что все эти военные просчеты и ошибки, и это восхищение стратегией и тактикой, и эти блистательные победы, которые были в его жизни, отошли куда-то. Теперь он если и вспоминал войну, то не ее самое, а людей, воевавших рядом с ним, и то, во имя чего они это делали.
Сергей Алексеевич постепенно стал отходить от своих друзей, а прошлое все больше обволакивало его. Покоя и равновесия в нем не было, он жил в каком-то тревожном ожидании.
И вот однажды, будучи в таком состоянии, он собрал свой нехитрый, по-военному скромный багаж и уехал, никому не доложив, куда и зачем. А уехал он в родной город, в котором не был лет тридцать, и тайно пришел к своему дому. Но нет, сердце его осталось спокойным. Ему показалось, что он здесь и не жил, и не захотелось ни с кем встречаться из своих, потому что он не желал расспросов, о сыне. Он пробыл в городе до вечера и снова пришел к дому и в освещенном окне увидел брата Павла, тоже уже старика, и каких-то людей около него, видно, взрослых детей и внуков. Этого ему было достаточно, в тот же день он улетел дальше.
Если бы его дальнейшие маршруты нанести на карту по всем военным правилам, то они бы произвели странное впечатление на специалистов. На этой карте одно место было бы отмечено красным флажком, где-то на территории Латвии, – это было место гибели сына, – к нему бы вела красная стрела, обозначающая главное направление поездки, цель ее. Но Сергей Алексеевич не прочертил этой красной стрелы. Он много раз почти достигал флажка, потом резко забирал в сторону и оказывался в каком-нибудь городке, где когда-то раньше жил с сыном.
И наконец сюда, к Черному морю, он приехал потому, что бывал здесь с Витькой.
Туда же, на место гибели сына, ехать пока не решался, ибо этим закончилась бы его одиссея.
Постоянные гости
Сергей Алексеевич проснулся, открыл глаза, но в них еще было то испуганное выражение, какое сохранилось от сна. Он посмотрел на солдатскую фотографию, висевшую над его кроватью, протянул руку – у него большая, перевитая узловатыми венами рука со старческими прогалинами на коже – и снял фотографию. Смахнул с нее пыль: видно, эта фотография висела здесь по привычке и никто ее не протирал. Теперь это будет его забота.
Сон еще не ушел от него, и какая-то странная военная песня, может быть времен гражданской войны, звучала в нем. Ну да, кто-то играл на трубе. Опять на трубе. Все песни, которые он иногда вспоминал, хотел он этого или нет, «играли» в нем на трубе. А может быть, в нем звучала-то всего одна и та же песня, только он не признавался себе в этом.
Сергей Алексеевич долго, будто нехотя, возвращался к повседневной жизни, и лицо его приобретало обычное замкнутое, несколько чопорное выражение.
Витька тогда сказал ему: «Ты не волнуйся, я ловкий. Я осторожно. И наган у меня есть». А он ему ответил: «Наган оставь». И больше он тогда не нашел никаких слов.
Сон, кажется, ему приснился только что, под утро. Он стоял в углу комнаты в брюках, но в нижней рубахе, и к рубахе были приколоты ордена, и иногда эти ордена, цепляясь друг за дружку, издавали легкий звон. А потом нараспашку открылась дверь, точно дунул сильный порыв ветра, и на пороге появился солдат.
Он его сразу узнал: это был хозяин дома. У солдата на одном плече был вещевой мешок, на втором – шинель в скатке…
Он стоял неслышно и наблюдал за солдатом. Он-то хорошо знал это ощущение возврата домой после долгого и тяжкого расставания и не хотел ему мешать. Он-то хорошо понимал, что значит попасть в ту самую комнату, которая десятки раз представлялась там, на фронте, в холод и мороз, в минуты передышки в бою или в забытьи, когда ты чувствуешь, что уходишь из жизни… Вот солдат провел рукой по столу и подумал, видно, что скоро сядет за этот мирный стол, и пальцы, что трогали простую грубую клеенку, слегка дрожали от волнения… Потом подошел к старому самодельному комодику и улыбнулся ему, как давнему забытому приятелю… И вдруг заметил его…
Он никогда раньше не встречался с этим солдатом, но лицо его показалось ему до боли знакомым: усталое, уже немолодое, и эти говорящие глаза, и эти усы с прокуренкой…
«Значит, все же вернулся», – сказал он.
«А ты кто такой?» – вместо ответа строго спросил его солдат по праву хозяина.
«Это я, Приходько, твой комдив, – сказал он. – Неужели не узнал?»
«Товарищ генерал?! – радостно ответил солдат. – Вот это встреча!»
«Знаменитый Приходько, который прошел всю войну…»
«А все потому, товарищ генерал, что всегда имел в запасе сухие портянки и кое-какую жратву… извините за грубость…»
Солдат снял с плеча вещевой мешок, скатку и выложил на стол хлеб, кусок сала, луковицу, банку консервов и флягу. Когда он вытащил флягу, то нарочно тряхнул ее, и во фляге булькнуло. Потом решил взять стопки и удивленно посмотрел на новенький сервант: во век таких не видывал в этом доме.
«Чудеса в решете, – сказал солдат, робко отодвинул стекло серванта и заглянул внутрь: нет ли там стопок позади нарядных рюмок? – Куда-то подевались стопки, – сказал солдат и негромко позвал: – Машенька!»
Никто не отозвался.
«А хозяйка здесь Егоровна», – сказал он.
«По отчеству Егоровна, – ответил солдат и добавил с нежностью: – А зовут ее Машенькой… – Отвинтил пробку фляги, налил по полной рюмке и сказал: – С возвращением».
И они выпили и стали молча закусывать…
«Вот теперь вы мне скажите по совести, товарищ генерал, забыла меня жинка или не забыла?»
«Как же забыла, когда вот, на самом видном месте, твоя фотография», сказал он.
Солдат посмотрел на свою фотографию…
«Хорошо, что не забыла… Для нас, для солдат, это самое главное… А вы, товарищ генерал, что делаете в наших краях?»
«На пенсии я… Вот и блуждаю по свету…»
«А войну часто вспоминаете?»
«А что ее вспоминать, вся в прошлом…»
«Вот как, – зло сказал солдат и встал. – Вот этого я от вас не ожидал… – Торопливо сложил вещи обратно в мешок. – Выходит, мертвым гнить, а живым жить».
Солдат вскинул мешок на плечо, подцепил скатку и пошел к выходу, стараясь не задеть его рукой…
«Приходько, постой! – виновато попросил он и сказал ему слова, которые должны были как-то оправдать его: – Просто мне не с кем вспоминать… Один остался…»
Солдат решительно вышел из комнаты. Он увязался за ним и тут услыхал Витькин голос, который звал его: «Папа! Пап!» – стремительно оглянулся и увидел его.
Витька приснился ему совсем мальчонкой: худеньким, с редкими веснушками и лохматыми бровками, одетый в матросский костюмчик, а не парнишкой, каким он его так хорошо помнил.
Он бросился ему навстречу, хотелось поскорее добежать до него, дотронуться, поднять на руки, но Витька обежал его и стал нагонять солдата. Он поспешил за ними, и они оказались на той самой поляне, где погиб Витька, и снова – в какой раз! – увидел эту колокольню, на которой стоял немец с автоматом. Он хотел крикнуть, чтобы предупредить об опасности, но крика у него не получилось; попытался догнать их, чтобы схватить за руки и повалить на землю, но не догнал… А они тем временем уже бежали по полю, на котором паслось стадо коров, и им наперерез неслись немцы на танках и мотоциклах, и коровы в страхе гулко мычали и разбегались в разные стороны…
Сергей Алексеевич услыхал чьи-то торопливые шаги и без всякого любопытства высунулся в окно: мимо прошел белоголовый парнишка лет двенадцати. Одет он был явно не по сезону и слишком торжественно для столь раннего часа: в форменном школьном костюме, в начищенных ботинках и в белой нарядной рубахе. В руке парнишка нес небольшой букетик цветов.
«Видно, идет кого-то встречать на пристань», – подумал Сергей Алексеевич. На секунду их взгляды встретились – в такую рань это было не удивительно, – и ему показалось, что он где-то видел этого парнишку.
Коля
Коля вышел из дому так рано, потому что шел встречать своих родителей, отца и мать, которые должны были приехать за ним. Он не видел их целый год. Подумать только – с прошлого лета, когда они приезжали в очередной отпуск с Дальнего Севера!
Коля знал, что родители его сегодня не приедут. Он только недавно получил от них письмо, что они собираются в дорогу. Но он проснулся непривычно рано, его разбудил призывный жалобный гудок парохода, и он подумал: а вдруг… Быстро оделся и выбежал на улицу.
Теперь, когда он был на улице, он понял, почему так монотонно трубил пароход: на море стоял густой туман и полз по улицам низкой, легкой дымкой. Туман был как живой, двигался, двигался, обволакивая дома, и Коля шел в этом тумане. Один в пустынном городе. Он почему-то вспоминал старика, которого только что видел в окне, как вспоминают какую-нибудь картину или фотографию, чем-то удивившую, и тут же снова забыл. Прошел не оглядываясь мимо непривычно молчаливого кино, мимо полуразрушенной церкви и новенькой, с иголочки, школы, мимо шатра передвижного цирка, обклеенного афишами, и остановился около рыбного магазина, чтобы посмотреть на его аквариум. Большая шарообразная камбала тыкалась в стекло и устало шевелила ртом.
Это было второе живое существо, которое бодрствовало на его пути. Старик и теперь эта рыба.
Где-то отрывисто и коротко рявкнул гудок, и Коля, сорвавшись с места, побежал к причалу.
В глаза ему ударило солнце. Оно пробило плотный туман и ослепило, озарило его, и настроение у него улучшилось, потому что прямо перед глазами маячил двухтрубный лайнер «Адмирал Нахимов».
На причал вышли первые пассажиры. Они обнимались, громко хохотали и возбужденно разговаривали. И Коле интересно было на них смотреть: он любил, когда люди радовались. Какой-то приехавший папаша в восторге посадил сына на плечо, и Коля вспомнил, что так же когда-то и его носил на плече отец.
…и Витька
Сергей Алексеевич вышел из дому. С утра у него было такое настроение, что в пору бы уехать. Он бы и уехал сегодня дальше, может быть, прямо к Витьке, если бы не пообещал выступить перед ребятами в местном пионерском лагере. Привык по-военному выполнять свои обещания. А выступит – и сразу уедет. Непременно.
Между тем городок просыпался. Все больше появлялось людей на набережной. Они прогуливались, разговаривали, дремали под солнцем на скамейках.
Сергей Алексеевич возвышался на голову над всеми: и ходил он так значительно и так опирался на палку, что казалось, будто он шел куда-то по очень важному, почти трагическому делу. Может быть, поэтому ему все уступали дорогу, хотя он даже этого не замечал, занятый своими мыслями.
Сергей Алексеевич дошел до порта и опустился на скамейку. Было уже жарко, и он снял маленькую кепочку, которую носил, сдвинув низко на лоб, и подставил солнцу седую голову.
Хозяйка предлагала ему зонтик. Просто смешно. Увидел бы его под зонтиком Витька, вот бы похохотал! Он – под зонтиком! Он, который сжигался на солнце месяцами, пропекался, можно сказать, насквозь, до костей, – и вдруг зонтик.
Он расправил плечи. Спина у него была прямая, как доска. Спина человека, который привык часами стоять в строю, маршировать на парадах, держать «на караул».
– Коль-ка-а! – раздался чей-то крик.
Около него стояли двое: широкоплечий молодой человек и мальчишка с чемоданчиком. Молодой человек нетерпеливо поглядел на часы и сказал:
– Давай, – и протянул руку за чемоданом. – Мне пора.
– Что вы, дядя Гена! – быстро ответил мальчик и спрятал чемодан за спину. – Мы вас нагоним.
А снизу, откликнувшись на их крик, спешил тот самый белоголовый парнишка, которого он утром видел из окна. На ходу, прыгая через две ступеньки, бросил в урну букетик цветов и подбежал к своему приятелю.
– А где дядя Гена? – не отдышавшись, спросил белоголовый.
– В цирк пошел, – сказал второй.
И вдруг Сергей Алексеевич понял, почему парнишка показался ему еще раньше, утром, знакомым. Ну конечно, он похож на Витьку. Сергею Алексеевичу сразу стало нестерпимо жарко, и кровь бросилась в голову. Он медленно отвернулся, заставил себя отвернуться…
– А нарядился как! – донеслось до него. – Зря ты летаешь к пароходу. Не маленькие, сами найдут дорогу.
Сергей Алексеевич хотел повернуться и еще раз проверить себя: не обманулся ли, но сдержался. Ни к чему это. Сколько раз он уже встречал мальчишек, которые были будто бы похожи на Витьку. Он гнался за ними, заглядывая в лица только для того, чтобы еще раз увидеть его глаза, его губы, его лицо. Но разве это принесло бы ему облегчение, даже если бы он нашел такого мальчишку?
Сергей Алексеевич закрыл глаза и увидел сына: его короткие бровки, упрямый подбородок и челку, спадающую на лоб. Все-таки глаза и волосы у этого прохожего мальчишки были такие же, как у Витьки.
Сергей Алексеевич непривычно резко встал, почти вскочил, и поспешил следом за мальчишками. Пока он их догонял, этот один раз оглянулся. «Ну совсем как Витька», – подумал Сергей Алексеевич. Витька всегда оглядывался, когда они расставались. И тогда, в последний раз, он тоже оглянулся. Он был очень бледен тогда и синяки под глазами.
Сергей Алексеевич забыл про мальчишек и, может быть, даже не вспомнил бы про них никогда, если б не увидел их, покупающих у киоска пирожки. Подошел к ним, тоже взял пирожок и стал жевать.
Его белоголовый посмотрел и сказал:
– Повидло.
– Что? – не понял Сергей Алексеевич.
В это время повидло из пирожка у него вылезло и упало на асфальт. Мальчишки рассмеялись.
– Вот видите, – сказал белоголовый. – Его надо есть с подсосом. Надкусил, потом втянул воздух, и повидло само попадет в рот.
– Спасибо за науку, – сказал Сергей Алексеевич и, волнуясь, произнес: Меня зовут Сергеем Алексеевичем.
Он по-прежнему представлялся по-военному, вытянувшись в рост, точно принимал рапорт, независимо от того, кто был перед ним.
Получилось как-то слишком торжественно, и мальчишки снова хихикнули.
– А вас как зовут? – спросил Сергей Алексеевич, испытывая неловкость.
– Коля, – ответил белоголовый.
«Лучше бы его звали Витькой».
– А это Юрка, мой братан, – сказал Коля и улыбнулся Сергею Алексеевичу.
Выражение лица его стало еще симпатичнее Сергею Алексеевичу, потому что он любил лица, которые улыбка украшает. Но он был на редкость застенчив в знакомствах, особенно с детьми, и, пока он раздумывал, что бы такое ему еще сказать, мальчишки доели свои пирожки и убежали к цирку.
Сергей Алексеевич, уже не уверенный в себе и недовольный, пошел следом. Около цирка собралась толпа, и оттуда до него доносился шум, гомон и смех. Он поискал мальчишек, но они куда-то пропали в этой толчее.
– Что здесь случилось? – спросил Сергей Алексеевич.
– Дрессировщик из цирка ведет купаться медведей, – ответила какая-то девочка.
Сергей Алексеевич решил пробраться вперед, надеясь найти мальчишек. Впереди него стоял здоровяк мужчина с дочерью на плече, и ему пришлось его подтолкнуть, чтобы пробиться.
– Поосторожнее, папаша, – сказал здоровяк, – а то я толкну – костей не соберешь.
В другой раз Сергей Алексеевич даже не ответил бы, но тут он увидел впереди себя Колю, понял, что тот все слышал, и гневно и чуть надменно сказал:
– Поосторожнее, молодой человек.
– Что? – переспросил здоровяк и опустил дочь на землю.
В это время дрессировщик, раздвигая любопытных, провел медведей, и вся толпа – следом за ним. Сергей Алексеевич тоже было двинулся за всеми, но почему-то у него пропала охота догонять мальчишек, и он пошел домой.
Военный радист
В этот вечер ему было особенно одиноко, и когда он увидел, что над цирком зажглась световая реклама, до оделся и решил идти в цирк. Около билетерши, у входа, он увидел Колю и Юрку.
– Здрасте! – радостно сказал Юрка, взывая к его помощи. – Нас Тиссо пригласил. Артист. А она не пускает.
– Не мешай, – сказала билетерша и отвела рукой Юрку в сторону. – И вы, гражданин, проходите! – крикнула она Сергею Алексеевичу.
– Юрка, пошли, – сказал Коля и потянул брата за рукав.
Ему явно было не по себе, а Сергей Алексеевич, вдруг подумав, что было бы прекрасно взять с собой в цирк этих мальчишек, и, ни слова не говоря, торопливо прошел навстречу людскому потоку, чтобы подойти к кассе. Он даже забыл, что у него уже есть билет, протянул кассирше деньги и попросил:
– Три билета получше.
Стало хорошо оттого, что у него были билеты в руках. Но теперь и этого ему показалось мало, и он подошел к старушке, торгующей семечками, и купил еще и семечек. Счастливый своей находчивостью и изобретательностью, повернулся, чтобы идти к мальчишкам, и обнаружил, что их около билетерши уже нет.
В одной руке у него были билеты, в другой – кулек с семечками, и палка под мышкой. Он растерялся, но все же подошел к билетерше и спросил про мальчишек, и та ответила ему, что пропустила их в цирк. И он пошел в цирк, а когда увидел Колю, который сидел вместе с Юркой на лестнице в проходе, обрадовался ему и позвал мальчишек к себе.
Первым делом он угостил их семечками, затем решил что-нибудь сказать, но не придумал.
– А сюда не придут? – спросил Коля.
– Нет, – ответил Сергей Алексеевич. – Вот билеты.
Опять наступило молчание. В это время Сергей Алексеевич заметил мороженщицу и обрадованно крикнул:
– Сюда две порции! – вскочил и пошел по узкому проходу между рядами, зацепился впопыхах за чьи-то ноги, уронил палку.
«Какой неловкий стал, право! – подумал Сергей Алексеевич. – Противно самому. И нервы расшатались. То плакать хочется, то смеяться. Просто девица на выданье».
Тем временем погас свет, зажглись «юпитеры», и в цирке началось представление. И в результате он остался без мороженого и с виноватым лицом вернулся обратно. Какой-то остряк шепнул ему, что «здесь не кафе». Наконец он добрался до своего места и сел.
На арене выступали акробаты, но Сергей Алексеевич не видел их. Он исподтишка косился на Колю. А тот, в который раз перехватив его взгляд, улыбнулся ему застенчиво, не зная, как себя вести.
«Совсем я забыл Витьку, – подумал Сергей Алексеевич. – Ведь не виделись без малого тридцать лет». Про себя он всегда думал о нем, как о живом. Поэтому он и тянется к Коле. У Витьки над левой бровью была родинка, а у Коли ее нет, и еще у него между верхними передними зубами была щелочка, и он умел петь. Когда он был совсем небольшой и его рано укладывали спать, то сын, бывало, начинал петь и пел долго-долго, так и засыпал с песней.
Сергей Алексеевич немного успокоился и стал смотреть представление. Тем более, что на арене выступал наездник-жонглер. В нем он узнал того самого молодого человека, которого видел утром с Юркой.
– Это Тиссо, – сказал Юрка с гордостью. – Он у нас живет.
В это время лошадь начала под музыку танцевать вальс, а Тиссо, стоя на ее спине, продолжал жонглировать маленькими белыми мячиками.
– Здорово работает, – сказал Коля.
И Сергей Алексеевич тоже улыбнулся. Он любил лошадей, ему нравились эти роскошные, умные животные. Он нагнулся к мальчишкам и прошептал:
– У меня была лошадь, еще в гражданскую, так она каждое мое слово понимала.
Тиссо в темноте жонглировал факелами, и слышно было, как они потрескивали в притихшем зале, и этот прыгающий огонь и запах лошади снова отбросили Сергея Алексеевича далеко назад.
…Он видел себя в Витебске. Этот город больше всего греет его сердце, потому что он там был счастлив. И он ехал верхом на лошади вверх по Гоголевской улице; она была такая крутая, что зимой на нее лошади не могли взобраться, и только Делец брал это препятствие. Потом он пересекал Театральную площадь и начинал спуск к церкви. Сергей Алексеевич себя не торопил, потому что каждая улица и каждый дом этого города утепляли его душу. Наконец он свернул на свою Володарскую и увидел Витьку. Тот стоял на обычном месте, поджидая его. Он подъехал вплотную к Витьке, и Делец, или, как его называл ординарец татарин Магазов, Дэлэс, коснулся губами Витькиной щеки, точно по-собачьи лизнул. Он помнил эти встречи, каждая из них была для него живой историей, хотя сейчас они все слились в нем воедино.
Он приезжал на эти свидания с Витькой и после учений, и после стычек с бандитами. Витька ждал его с восторгом, но вел себя так, точно в этих встречах самое главное было свидание с лошадью. Витька трепал его по холке, с нежностью прижимался к морде лицом. Потом он спрыгивал на землю, подхватывал Витьку и сажал в седло. Витька был как перышко – это ощущение невесомости до сих пор сохранилось у него в руках. И еще он любил подсовывать свои руки ему под мышки, чтобы почувствовать теплоту мальчишеского тела.
…Коля легонько толкнул Сергея Алексеевича в бок, тот вздрогнул, оглянулся, еще не понимая, в чем дело. Около них в вежливой позе ожидающего стоял цирковой артист, сильно напомаженный, во фраке и цилиндре, с накрашенными губами. В руках он держал тоненькую серебряную флейту и размахивал ею, как палочкой.
– Он вас спрашивает, – шепнул Коля.
– Извините, – сказал Сергей Алексеевич, – я не расслышал.
Артист улыбнулся и раздельно повторил то, что он, Сергей Алексеевич, видно, прослушал.
– Я прошу вас ответить на несколько моих вопросов. Только шепотом, чтобы не слышала моя партнерша… Ольга Николаевна, вы готовы? – обратился он к женщине, которая стояла в центре арены с завязанными глазами.
– Нет, нет, – спохватился Сергей Алексеевич. – Я не могу вам быть полезным. – И решительно: – Нет. – Он крепко сжал губы.
Но артист не уходил и крутил перед его носом своей серебряной флейтой.
– Я ведь, кажется, отказался, – сказал Сергей Алексеевич резко: мол, отстаньте.
Ему неприятно было всеобщее внимание, какие-то люди вставали со своих мест, чтобы увидеть его, кто-то показывал на него пальцем. И тут же постыдился собственной бестактности, которую он не терпел в других и презирал в себе, и, чтобы как-то загладить свою вину, почтительно склонился к уху артиста и выразительно кивнул на Колю.
– Здравствуйте, – сказал артист Коле и предостерегающе поднял руку, чтобы Коля ему не отвечал.
Артист нагнулся и о чем-то пошептался с Колей. Сергей Алексеевич прислушался, но ничего не понял.
– Ольга Николаевна, – сказал артист, – сейчас вы нам ответите на вопросы: «С кем я разговариваю? Сколько лет этому человеку? Состав его семьи?» Запомнили вопросы? Подумайте, а я пока поиграю.
Артист приложил флейту к губам и заиграл какую-то песенку, но привычное ухо Сергея Алексеевича выхватило из мелодии сигналы морзянки. Сначала он решил, что ему показалось… Но нет… Сигналы в его голове складывались в слова: «маль-чик… Ко-ля…» «Всем, всем, всем! – вспыхнуло у Сергея Алексеевича в голове. – Только что немецко-фашистские войска перешли границу… Ведем бой…» Снова передал артист: «Двена-дцать лет…» А Витьке было пятнадцать.
Артист прекратил игру, посмотрел на Сергея Алексеевича, и тот улыбнулся, словно они стали соучастниками в этом представлении.
– Я могу начинать? – спросила женщина.
– Да, – ответил артист.
– Вы разговаривали с мальчиком…
Сергей Алексеевич наклонился, чтобы рассказать о своем открытии Коле, но артист сделал ему предостерегающий жест, и он промолчал.
– …его зовут Колей, – продолжала женщина. – Ему двенадцать лет. Он живет с тетей и братом.
– Оно и видно, безотцовщина, – неожиданно сказала женщина, которая сидела впереди них. – Елозил, елозил коленками по спине!..
Все засмеялись, а Коля оглянулся на Сергея Алексеевича и громко сказал:
– Это неправда. У меня есть отец.
Сергей Алексеевич волновался за артиста, ему уже по-своему стал близок этот бесхитростный, раскрашенный, не очень ловкий человек, потому что он знал морзянку и, может быть, в войну служил в радистах.
Артист покрутил в воздухе серебряной флейтой.
– Прошу тишины! Ольга Николаевна, восстановите истину.
– У него есть родители, – ответила женщина. – Только они живут в другом городе.
– Верно? – спросил артист у Коли.
Тот кивнул.
Вино из Испании
Когда они вышли из цирка, было темно, и толпа начала шумно таять в этой темноте. Сергей Алексеевич старался держаться поближе к мальчишкам, чтобы не потерять их.
– Надо зайти за Тиссо, – сказал Юрка. – Я сейчас… – и убежал.
Сергей Алексеевич и Коля помолчали. Коля чувствовал себя неловко, но как уйти, не знал, и говорить о чем, тоже не знал.
– Ну как, понравилось? – спросил Сергей Алексеевич.
– Да, – ответил Коля и подумал: «Скорее бы пришел Юрка». – Мы ведь ходим в цирк каждый день. Все номера старые, только флейтист новый.
– Подружились с Тиссо? – спросил Сергей Алексеевич.
– Ага, – сказал Коля. – Он в прошлом году жил у тети Кати, у Юркиной матери. То, что он показывает на выступлениях, это ерунда. Вот если бы видели его на репетициях! Высший класс!
Но слова Коли отскакивали от Сергея Алексеевича. Он уже давно не был в таком тревожном состоянии, как сегодня. Наслоение дня – сон, встреча с Витькиным двойником, цирк – до крайней степени растревожили его. И флейтист превратился в армейского трубача, который играл на Витькиной могиле.
Вернулся Юрка и сказал, что Тиссо ушел. И они молча пошли дальше. Мальчишки время от времени подталкивали друг друга, идти и молчать им было трудно. Сергей Алексеевич понимал это, но разговаривать ему не хотелось.
– А этот, флейтист, – сказал Юрка, – здорово. Надо будет спросить у дяди Гены, как они это делают.
– А ты не догадался? – ответил Коля. – Он ей сигналил песенкой.
– Это морзянка, – вмешался в разговор Сергей Алексеевич. – Точка, тире; три тире; точка, тире, две точки; точка, тире, точка, тире… Значит «Коля».
– Здорово! – сказал Коля. – Вы что, радист?
– В некотором роде, – ответил Сергей Алексеевич. – Военный радист.
На набережной в винном магазинчике Юрка увидел все же Тиссо.
– Вон дядя Гена, – сказал он, просунул голову в дверь и спросил: – Дядя Гена, вы домой идете?
Тиссо оглянулся и отрицательно покачал головой.
– Давай подождем его, – предложил Коля.
– Давай, – охотно согласился Юрка и посмотрел на Сергея Алексеевича. Мы подождем Тиссо.
Они думали, что старик уйдет, а он тоже остановился.
Здорово он им надоел. Ну конечно, что этим счастливым мальчишкам до него или до Витьки. Они влюблены в цирк, который им кажется всем миром, и в этого «необыкновенного» Тиссо, который умеет ловко жонглировать и делать всякие сальто-мортале.
– Смотрите, – сказал Юрка, – а с ним флейтист.
Сергей Алексеевич присмотрелся. Действительно, рядом с Тиссо стоял флейтист. Они пили вино.
– Может, зайдем? – предложил Сергей Алексеевич.
Он взял три стакана сока, и, стоя рядом с Тиссо и флейтистом, они потягивали свой сок. Наконец те заметили их, в флейтист сказал:
– А, старые знакомые! Надеюсь, вы на меня не обиделись?!
– Что вы! – сказал Сергей Алексеевич. – Вы в бывшем радист?
– Точно, – сказал флейтист. – Значит, вы догадались? Ай-ай-ай, надо делать это тоньше.
– Вы и так хорошо это делаете, – успокоил его Сергей Алексеевич. Флейтист еще больше понравился ему своей бесхитростностью. – Просто я тоже в некотором роде радист.
– А-а-а, – сказал флейтист, – коллега, – и протянул ему руку. Полагается по этому случаю выпить вина.
– Спасибо, – сказал Сергей Алексеевич. – Я не пью. – Посмотрел на молчаливого Тиссо и добавил: – И вы тоже хорошо работали.
– Давайте, давайте комплименты, мы их любим. – Тиссо поднял бутылку и налил Сергею Алексеевичу немного вина. – За знакомство.
Вино чуть попахивало миндалем, только для этого его надо было посмаковать, и тогда казалось, что во рту горький спелый миндаль. Это Сергей Алексеевич хорошо знал. Его научила так пить вино еще в Испании Лусия. Вечная ей память.
А Тиссо и флейтист выпили свои стаканы залпом. Так в Испании пили во время боя, когда пьешь и никак не можешь напиться. И крестьяне так пили, когда работали в поле.
– Вы служили в армии? – спросил Сергей Алексеевич флейтиста. Он задавал этот вопрос всем людям, которые ему нравились. Ему хотелось, чтобы все стоящие люди прошли через армию.
– Во флоте, – ответил флейтист. – Свистать всех наверх! – засмеялся. На миноносце.
– На миноносце? – Язык у Сергея Алексеевича немного заплетался. – Я эти мины никогда не забуду. Они все квакают. Однажды я попал под минометный огонь. Когда меня ранило, я сначала не почувствовал боли, потом нога отяжелела и вспухла. Разрезали сапог и штанину, в коленной чашечке торчали три рваных осколка… Меня уложили на ящики со снарядами. А когда начинали бомбить, все разбегались, а я оставался лежать на снарядах.
– Ух, какие страсти! – сказал Тиссо. – На ночь. Мальчишкам не заснуть.
Эти слова сразу вернули Сергея Алексеевича в его обычное состояние. Не хватало еще, чтобы над ним подшучивали.
– Честь имею, – надменно сказал он, приложил руку к козырьку и вышел.
Голова у него кружилась, и ноги стали чужими. Поэтому Сергей Алексеевич сел на скамейку рядом с магазинчиком и видел, как мимо него прошли Тиссо и флейтист в сопровождении мальчишек. Коля остановился около Сергея Алексеевича, а Юрка крикнул:
– Колька, пошли, а то он уйдет…
– Подожди ты, – ответил Коля. – Сергей Алексеевич, идемте.
Мимо них медленно проплыло такси с двумя пассажирами, и вдруг Юрка закричал:
– Коль, смотри, вроде твои поехали!
– Мои? – переспросил Коля и, не попрощавшись, убежал.
Юрка посмотрел на старика – нет, он не догадался о его хитрости – и сказал:
– Родители. – И уже на ходу: – Он их год не видел. Они у него на Севере работают.
– Эй, дед! – донеслось до Сергея Алексеевича. – Спать надо дома.
Сергей Алексеевич поднял голову. Над ним стоял Здоровяк с дочерью на руках. Он встал, голова у него больше не кружилась, и прошел мимо Здоровяка.
– А вы не работали бухгалтером в Минске? – спросил Здоровяк. – В тресте!
– Нет, – сказал Сергей Алексеевич. – Спокойной ночи. – Козырнул по-военному и ушел.
Чувство досады не оставляло его. Казалось, что он чем-то себя уронил перед мальчишками. И это ему было неприятно.
Открытие
По дороге в цирк Коля заскочил в порт к очередному теплоходу. Это теперь у него превратилось в игру. Он каждый день бегал к причалу. Мимо него прошел мужчина с двумя чемоданами и сказал:
– Слушай, паренек, помоги.
– Давайте, – согласился Коля.
– Да не мне. Видишь, женщина с ребенком на руках. Моя жена. Ей помоги.
И в это время Коля заметил Сергея Алексеевича. Он не видел старика с того дня, как они вместе с Юркой убежали от него. «Еще привяжется», подумал Коля и побежал к женщине, делая вид, что не заметил Сергея Алексеевича. Взял у женщины чемоданчик и повел к такси, где их дожидался мужчина.
Когда Коля проходил мимо Сергея Алексеевича, низко опустив голову, тот сказал:
– Добрый день, Коля.
– Здрасте, – ответил Коля, но не остановился.
Коля помог шоферу уложить вещи в багажник и, видя, что Сергей Алексеевич наблюдает за ним, подумал: «Что, право, за странный старик. Вот привязался!»
– Спасибо, – сказал мужчина. – Выручил.
– Пожалуйста, – ответил Коля, снова посмотрел на Сергея Алексеевича и попросил: – Подвезите меня до цирка, это вам по пути.
Коля сел в машину, но какая-то неясная сила заставила его оглянуться: длинный непромокаемый военный плащ делал старика еще выше.
Когда Коля, расстроенный, вышел из цирка – Тиссо и Юрки там не оказалось, – он снова увидел Сергея Алексеевича, идущего в окружении трех девочек, одетых в пионерскую форму. Одна из девочек тащила его плащ.
Коля на всякий случай отвернулся, но Сергей Алексеевич, занятый разговором с ребятами, не заметил его.
Потом Коля узнал одну девочку. Это была Валя Иванова из его интерната, и, когда она подбежала к мороженщице, он сказал:
– Привет, Иванова. Не узнаешь?
– Ой, кого я вижу! – ответила Иванова. – А говорил, к родителям поедешь.
– Передумал, – сказал Коля. – Они сюда приедут. – Кивнул в сторону Сергея Алексеевича: – Куда вы его ведете?
– К нам. – Иванова развернула одно эскимо и стала есть. – На встречу «О тех, кто боролся за нашу свободу».
– А он что, тоже боролся? – с сомнением в голосе спросил Коля. – Он же обыкновенный военный радист.
– Что ты! – Иванова рассмеялась. – Он известный генерал… повернулась и убежала за своими.
Коля посмотрел вслед Ивановой, тяжело вздохнул, ему стало совсем скучно. Настроение у него окончательно испортилось. Жизнь явно шла мимо него: и Тиссо он прозевал, и от Сергея Алексеевича спрятался. А то сейчас пошел бы вместе с ним в пионерский лагерь.
Он просидел около цирка больше часа. Потом решил сбегать на пустырь, что рядом с пионерским лагерем, там Тиссо иногда выгуливал свою лошадь. Тиссо он не застал, зато около входа в лагерь увидел Сергея Алексеевича в окружении ребят. Подождал, пока ребята ушли, и подошел к старику.
– Это они вам подарили? – спросил Коля.
В руках у Сергея Алексеевича была какая-то нелепая самодельная клетка с птицей.
– А, это ты! – обрадовался Сергей Алексеевич.
– Этого кенара они вам подарили? – переспросил Коля.
– Они. Неудобно было отказаться. Славные ребята.
– Придется прикупить канарейку в магазине, – сказал Коля, – а то он один от тоски сдохнет.
– Это верно. – Сергей Алексеевич поднял клетку к лицу, чтобы получше рассмотреть птицу. – Родителей встретил?
– Нет, – неохотно ответил Коля. – Это чужие были. – И перевел разговор: – Я с этой Ивановой, которая вас встречала, в одном интернате учусь. Вы им про что рассказывали?
– Об Испании, – сказал Сергей Алексеевич.
– Туристом ездили, – догадался Коля. – Моя мама в прошлом году была в Болгарии. Тоже интересно.
– Нет, – сказал Сергей Алексеевич, – я там воевал в тридцать шестом.
– Воевали? – удивился Коля. – Я недавно видел кино про испанскую войну.
«Значит, ему все же это интересно», – подумал Сергей Алексеевич.
– Может, вы знали самого Мате Залку? – спросил Коля.
– Знал, – ответил Сергей Алексеевич, хотя он видел его всего один раз. Но, чтобы как-то увлечь мальчика, он не стал вдаваться в подробности. От этого ему было немножко стыдно: врать он не умел. И в оправдание свое добавил: – Оттуда я приехал не один, а с испанкой, революционеркой Лусией Пиедой. Как-нибудь я тебе про нее расскажу.
«Какие обыкновенные слова, – подумал Сергей Алексеевич. – Трудно даже представить, что этими обыкновенными словами можно рассказать про Лусию».
А Коля ничего этого не заметил. Он вдруг оказался где-то совсем в ином мире, чем жил ежедневно. Величие Сергея Алексеевича так подавило его, что он совершенно не знал, о чем с ним говорить. У него в жизни еще не было ни одного знакомого, который бы воевал в Испании и знал бы людей, про которых написаны книги. Может быть, он на самом деле генерал?
Перекличка
Пошел сильный дождь, и Сергей Алексеевич, воспользовавшись этим, пригласил Колю в кафе. В то самое кафе, в котором он лет двадцать пять назад был с Витькой:
Они вошли и остановились, отряхиваясь от дождя, и Сергей Алексеевич, как всегда, замер, оглядывая привычно расположенные столики. Чудо, что оно сохранилось, это кафе, пережив войну.
За стойкой одиноко сидела буфетчица и читала газету. При их появлении она подняла голову, увидела Сергея Алексеевича и приветливо ему улыбнулась.
– А вы сегодня не один? – сказала она.
– Да, – ответил Сергей Алексеевич, повернулся к Коле, и слова, которые он собирался произнести, чтобы объяснить, кто такой его попутчик, замерли у него на губах. Он в волнении прикрыл рукой глаза: перед ним появился Витька.
Сергей Алексеевич стянул плащ, повесил в углу и, зацепившись за клетку с птицей, что стояла у него в ногах, прошел внутрь комнаты.
Коля с удивлением посмотрел ему вслед, взял клетку и пошел за стариком.
Они сели за столик, и Сергей Алексеевич изменившимся голосом, без предисловий сказал Коле:
– Принеси пирожные и бутылку воды, – и дал ему денег.
Все это было полно для Сергея Алексеевича большого смысла, ибо эти же слова он сказал тогда Витьке.
Это был великий, но сладкий обман. И неправы те, кто говорит, что нельзя вспоминать: что прошло, то, мол, быльем поросло. Не вспоминают старого только те, кто бережет себя или боится своего черного прошлого.
Сергей Алексеевич смотрел, как Коля брал пирожные, и вдруг не выдержал и крикнул:
– Возьми себе корзиночку с марципаном! – Ему захотелось, чтобы Коля съел любимое пирожное Витьки.
Он следил за каждым его движением: как мальчик поворачивал голову, улыбался ему, как возвращался к столику.
Коля ел пирожное и запивал лимонадом.
– А вы почему не едите? – спросил Коля.
Сергей Алексеевич с трудом оторвал глаза от лица мальчика, торопливо взял бутылку и налил лимонад в стакан. Рука у него слегка дрожала.
– Вкусное пирожное? – спросил Сергей Алексеевич, имея в виду Витькино пирожное.
– Да, – ответил Коля.
Сергей Алексеевич вспомнил, что столик тогда стоял немного не так, и ему это стало мешать, и он не выдержал и подвинул столик вплотную к стене.
Коля остался на прежнем месте, стакан у него был в руке, а пирожное уплыло со столиком. Он поднял глаза на старика, стараясь догадаться, что все это значило.
– Тебе не трудно поставить свой стул сюда? – Сергей Алексеевич показал Коле, куда именно надо ему поставить стул, и Коля выполнил его просьбу.
Теперь они сидели друг против друга. И Коля, который снова принялся за пирожное, чувствовал на себе тревожный взгляд старика.
Постепенно черты Колиного лица сместились, и Сергей Алексеевич не боролся против этого наваждения, а, наоборот, старался в себе всю ту прежнюю картину восстановить доподлинно.
И вот уже перед ним вместо Коли сидел Витька. И сам он тоже другой. Правда, он мало помнил свое тогдашнее лицо, а только одел себя в новенькую форму генерала. Около стула, рядом с ним, стоял чемодан, через него был перекинут плащ. Он приехал сюда сразу же после того, как получил новое назначение.
«Ну, как ты тут без меня?» – спросил он у Витьки.
«Нормально, – ответил Витька. – А ты?..»
Витька хотел узнать у него про Лусию, а он увильнул от ответа, сделал вид, что не догадался. Это была нечестная игра, но он продолжал ее до конца.
«Еду формировать новую дивизию».
«А я?» – спросил Витька.
«Поживешь в интернате, – ответил он. – Какой-нибудь месяц. – И, чтобы замять неприятный разговор, полез в чемодан и вытащил сверток: – Это тебе трусы, майка и прочее».
«Не хочу я в интернат, – сказал Витька. – Надоело».
«Неужели ты не понимаешь? – ответил он. – Время сейчас суровое. Того и гляди, Гитлер полезет. Как только осмотрюсь на месте, сразу заберу тебя».
«Лучше я к Лусии», – сказал Витька.
Вот, оказывается, в чем дело, вот почему ему надоело в интернате.
«Еще чего выдумал! – сказал он, совершенно не готовый к такому повороту разговора. – Ей не до тебя».
«Почему не до меня?»
«Работает она много».
«А ты был у нее?» – с подозрением спросил Витька.
«Был. Паспорт ей еще не оформлен… – Он попробовал пошутить: – Может быть, она вообще не захочет возвращаться, а ты явишься… Охота ей возиться с двумя мужиками. Стирать им белье, варить обеды…»
«Что же, она нас бросила?! – спросил Витька и со злостью сказал: Врешь ты все! Это ты ее бросил, а не она нас!»
Он тогда крикнул ему: «Замолчи!» – и ударил по щеке, единственный раз в жизни, хотя был неправ. Но он, видимо, думал больше о себе и совсем не подумал о том, что Витьке Лусия тоже дорога.
Сергей Алексеевич сел на камне у самой кромки воды, и набежавшая волна сбила клетку с птицей.
Коля подхватил клетку и вытащил кенара.
– Не дышит, – сказал Коля.
– Это я виноват, – сказал Сергей Алексеевич. – Прости. Засмотрелся на тебя.
– Я не артист, чтобы на меня смотреть! – в сердцах ответил Коля. – А вот подарочка как не бывало.
– Ты похож на моего сына, – вдруг сказал Сергей Алексеевич.
Он произнес эти слова, как будто сделал какое-то мировое открытие или рассказал величайший секрет, но Коля ничего не заметил.
– Захлебнулся, – сказал Коля. – Много ли ему надо.
Сергей Алексеевич взял кенара у мальчика и начал на него дышать, стараясь отогреть птицу своим дыханием.
Но вот кенар шевельнулся, и Сергей Алексеевич с видом победителя протянул его мальчику.
– Жив курилка. Просто испугался, – сказал Сергей Алексеевич. – Я в детстве с ними много возился.
Слово «детство» оглушило его своей неожиданностью: не верилось, что это когда-то было. Что было детство с рыжебородым отцом, каменотесом, что была мать. Она по утрам кормила во дворе кур, которые неслись в сарае на сеновале. А он потихоньку пробирался на сеновал, таскал эти яйца и выпивал, а мать не могла понять, почему вдруг куры перестали нестись, и ему было смешно. Куда все это ушло? И почему это вызывает в нем только удивление, а последующее – гибель Витьки, потеря товарищей – боль? Потому что последующее могло быть лучше, удачнее. А детство прошло так, и по-другому не надо.
– Шевелится, – сказал Коля, вспомнил, что старик ему что-то говорил о сыне, и спросил: – А ваш сын живет в Москве?
Сергей Алексеевич промолчал: он и сам еще не понимал, как у него вырвалось про сына. Только разве потому, что этот паренек похож на Витьку. Он ведь никогда никому не рассказывал о сыне – это была его тяжкая ноша, и он не хотел и не мог ни с кем ее делить. Но сейчас впервые им овладело странное состояние. Этот мальчишка его гипнотизировал своим видом, и с каждой минутой Сергей Алексеевич находил в нем Витькины черты, и поэтому ему захотелось открыться перед ним.
Сергей Алексеевич бросился в рассказ сразу, без подготовки, бросился очертя голову:
– Он погиб… В войну…
Сергей Алексеевич замолчал. Приступ воспоминаний был настолько силен и осязаем, что вызвал у него даже головокружение. Он закурил и затянулся, и голова у него от этого стала совсем пьяной. И он уже не слышал сам, что рассказывал, не слышал собственного голоса, и, может быть, он рассказывал Коле не то, что видел сам.
Какой-то неровный строй людей, изломанная длинная цепочка. Ну да, это тот самый привал, на котором он отпустил Витьку в разведку. Он отлично помнил эту большую лесную поляну. Да что там помнил – просто ни на секунду не забывал, но прятал где-то в глубине памяти. И вот лица этих людей, что были с ним тогда там.
Сергей Алексеевич почувствовал, как он идет широким военным шагом вдоль этого строя, и не заметил, что Коля едва поспевает за ним.
…Они рассчитывались по порядку номеров, а он шел вдоль строя, вглядываясь в лица этих людей, и сострадание жгло его сердце. Они давно мертвы, эти люди, а он слышал их голоса, видел заросшие лица, перевязанные головы, запекшиеся губы. В строю среди здоровых много раненых, сидящих на земле, некоторые лежали на носилках, прикрытые шинелями. Женщины тоже стояли в строю, держа за руки ребятишек. У иных двое, а к одной прижались трое; это была жена погибшего полкового интенданта Новикова. Они даже не успели эвакуировать семьи.
Он помнил, где-то отдаленно ухали пушки, заглушая голоса, но все по привычке бесшумно двигались и разговаривали полушепотом.
«Двадцать третий!»
Красноармеец Вася Пегов. Он тогда застрелил жеребенка своей кобылы, и они его съели.
Двадцать седьмым в строю стоял старший лейтенант Клочков; он добровольно остался прикрывать их отход и погиб. Потом еще стоял капитан Никифоров, трус и фанфарон. Противно ставить его в строй этих святых, чистых людей.
А последним, сто шестьдесят третьим, стоял Витька, подпоясанный широким армейским ремнем, на котором висела тяжелая кобура. Он стоял «пистолетом», худенький, стройный, подтянутый. Витька крикнул: «Сто шестьдесят третий, последний», – хотя это было не совсем точно. Он был последним в строю, но не последним на этой поляне. В стороне стояли еще двое: пленный немецкий солдат и красноармеец, который его караулил.
Он позвал командиров, и они подошли к нему, и врач сказал… Все началось с врача. «В последнем бою, – сказал врач, – мы потеряли сорок восемь человек. Умер один маленький, сын Клочкова. От дизентерии».
Почему-то его тогда больно ударило не то, что умер сын Клочкова, который тут же рядом стоял с ним, он видел его профиль и гимнастерку, разорванную на спине, а то, как врач об этом доложил: «Умер один маленький». Может быть, именно эти слова и были решающими.
«Немцы нас не выпустят из леса», – сказал он.
Кто-то стал ему возражать, кто-то объяснял, что можно рискнуть, а то иначе все пропали. Потом он заметил, что рядом с ним вертелся Витька, а вдалеке стоял пленный немчик и тоже не отрываясь смотрел в их сторону: видно, думал, что они говорят про него, и боялся. Младший политрук Павлов предложил, что он готов пойти в разведку, но он не ответил ему.
В это время кто-то сказал, кажется, опять врач, что детям и раненым необходимо передохнуть, а то они не дойдут и переправы через Западную Двину не выдержат, и что жена майора Васильева просила ее послать в деревню. И он подумал: «Может, действительно рискнуть еще разок, – хотя ненавидел бессмысленный риск. – Все-таки женщина. Легче пройти». Но она была женщиной в особенном положении, она ходила в гимнастерке мужа, которого только позавчера убили, и у нее была девочка на руках, и сама она была ослеплена ненавистью к врагу, и от этого могла погибнуть: глаза бы ее выдали.
«Товарищ генерал, – вновь выступил младший политрук Павлов, – кому сдать комсомольские билеты товарищей, не вернувшихся из разведок?» В руке у него была пачка комсомольских книжек.
…Сергей Алексеевич прервал свой рассказ, потому что наступил момент, когда он должен был вспомнить самое главное: должен был вспомнить, как его глаза встретились с Витькиными, и он понял, что тот сейчас предложит себя, и торопливо отвернулся. Но какая-то непонятная сила вновь столкнула их взоры, и все окружающие тоже это заметили и замерли.
Коля посмотрел на старика: ждал.
– Я не пустил этого Павлова в разведку, – сказал Сергей Алексеевич. Тогда многие жертвовали собой ради других, но это было бессмысленно. Надо было придумать что-то простое и полезное для нас. И тогда я отпустил Витьку…
– Извините за беспокойство… Не желаете воспользоваться моими услугами?
Около них стоял местный фотограф: в руке у него был фотоаппарат старой конструкции на треножнике.
– Я вижу, у вас нет своего аппарата, – сказал фотограф, явно не рассчитывая на их согласие.
Но его слова произвели на Сергея Алексеевича неожиданное действие. Он согласился на предложение, и даже с охотой, потому что Витька тогда тоже фотографировался. Пусть, пусть все снова повторится.
– Пожалуй, – сказал Сергей Алексеевич. – Мальчика.
– Сейчас. Хорошо, – обрадовался фотограф. – В лучшем виде. – И он начал развинчивать треножник. – Фирма хоть и старая, но опытная. – Фотограф старался все делать быстро, но он уже не молодой, и ему это плохо удавалось.
– Нет, не здесь, – Сергей Алексеевич подошел к фотографу и тронул его за плечо. – На камне.
– О! – сказал фотограф. – Вы знаете толк в натуре.
Фотограф шел впереди них, сильно припадая на одну ногу. Когда он опередил их на достаточно большое расстояние, Коля, метнув на Сергея Алексеевича осторожный взгляд, спросил:
– А что было дальше?
– Я спросил его: «Тебе не страшно, сынок?» – «А кого мне бояться? Фашистов? – сказал Витька. – Надо будет, я дурачком прикинусь. Местный, мол. Ищу корову».
Он оборвал рассказ, не досказав самого страшного. Этого уже нельзя просто рассказать, сложив обыкновенные слова в обыкновенные предложения. И Коля молчал. «Все понял», – с благодарностью подумал Сергей Алексеевич.
…А сам он в это время провожал Витьку. Они шли мимо красноармейцев. Мимо тяжело раненных, мимо женщин с детьми. Над их головами пролетели немецкие самолеты, но никто не поднял головы к небу.
Витька на ходу снял ремень с пистолетом, гимнастерку, пилотку и все отдал ему.
«Если из деревни нельзя будет выйти, не выходи, – сказал он. – Мы будем тебя ждать».
Витька улыбнулся, чтобы ободрить, и ушел.
Он сделал еще несколько шагов следом за ним, посмотрел в спину сыну, в худенькие плечики, в тоненький стволик шеи.
Коля убежал вперед, к фотографу, который уже примостил аппарат около камня, и теперь они оба поджидали Сергея Алексеевича.
– Садись на камень верхом, – сказал Сергей Алексеевич.
– Будешь кавалеристом, – рассмеялся фотограф. – Впрочем, сейчас кавалерия уже не в почете. – И повернул голову к старику: – А?
– А вы давно здесь работаете? – спросил вдруг Сергей Алексеевич.
– Тридцать лет, – ответил фотограф. – За исключением этой проклятой войны.
– Тридцать? – переспросил Сергей Алексеевич и подумал, что, может быть, этот человек снимал когда-то и Витьку.
Коля тем временем влез на камень и уселся между двух его выбоин.
– Внимание! – крикнул фотограф Коле. – Смотри сюда… Сейчас вылетит птичка.
– Она в клетке, – пошутил Коля. Это он сделал для старика.
– Ого! – сказал фотограф Сергею Алексеевичу. – Ваш мальчик не лишен юмора. – Припал к аппарату: – Готово! – Сложил аппарат и стал выписывать квитанцию. – Скажи-ка твой адрес…
– Садовая, пятнадцать, Костылев Коля.
– Все удовольствие пятьдесят копеек. Тридцать за фотографию и двадцать за доставку.
Сергей Алексеевич достал деньги и протянул фотографу.
– Так вы говорите, что еще до войны здесь работали? – спросил Сергей Алексеевич.
Коля, услыхав вопрос, тихо сполз с камня, подошел и теперь ждал, что ответит фотограф. Ему все время хотелось чуда, чуда! Чтобы сын старика вдруг оказался жив и хотя бы оказалось, что этот хромой, смешной фотограф помнил и знал Витьку.
– Молодой был, глупый, – ответил фотограф. – Не хотел учиться.
Сергей Алексеевич не перебивал фотографа, хотя нетерпеливо поджидал, когда же тот закончит, чтобы задать следующий вопрос. А потом сдержанно спросил:
– А у вас не сохранилось случайно довоенных фотографий?.. Невостребованных.
– Что вы, боже мой, – сказал фотограф. – В войну не такие ценности пропадали.
Коля видел, как опечалился Сергей Алексеевич, но, все еще надеясь на что-то, спросил:
– А вы когда-нибудь фотографировали на этом камне мальчика?.. Давно-давно, еще до войны.
– Я? – Фотограф улыбнулся. – Тысячу мальчиков в разных возрастах. Заметил, что его ответ не понравился им, и добавил: – Впрочем, фотография тоже историческая ценность. Можно сказать, реликвия. Память о прошедшем. Нет, кажется, он им не угодил, не догадался, чего они от него хотят. Простите, – и захромал своей дорогой.
Живая душа
Сергей Алексеевич сидел на скамейке у моря, слушал его однообразный шорох, а сам ловил чутким, привычным ухом то, что делалось позади него. Он сегодня уезжал и ждал Колю, который обещал проводить его к автобусу.
Ему нравилось ждать Колю и сидеть прислушиваясь, и вообще хорошо, что можно ждать Витькиного двойника.
Это была его последняя радость.
У него тренированное ухо, всю жизнь ему приходилось прислушиваться, и он легко вылавливал голос Коли из общей разноголосицы, когда тот издали окликал его.
В сорок первом, летом, когда они уходили из Прибалтики, он нарвался в лесу на немецкого солдата. И он, и солдат бросились в разные стороны и замерли. Он лежал не шевелясь. Знал самое главное – не шелохнуться и ловить малейший шорох врага. Кто первый шелохнется, тот и погиб. Война – тоже охота, это он усвоил отлично. И торопиться не надо. Муравей пополз у него по лицу, но он только оттопырил нижнюю губу и дунул. Через полчаса в кустах напротив зашелестело – немец устал лежать неподвижно. А он в этот момент подобрался поближе к врагу, стараясь зайти с тыла. Немец снова заворочался, и тогда он неслышным движением опустил руку, и пистолет, который он все эти дни носил в рукаве кителя, скользнул в ладонь.
Еще не было случая, чтобы он промахнулся. Он уже готов был выстрелить, он уже приговорил этого невидимого врага к смерти, приподнял руку с пистолетом, нащупывая глазом место, где притаился немец, когда тот приподнялся над кустом. Теперь он видел его спину и железную каску на тоненькой шее и на секунду задержал выстрел. Ему показалось странной и противоестественной такая по-ребячьи тоненькая шея под такой тяжелой каской.
Немец оглянулся и замер в ужасе. Даже не пытался шарахнуть в него очередью из автомата… Мальчишка лет девятнадцати, худой, в веснушках, в каске, съехавшей на глаза.
Это была охота старого волка на зайчонка. Он не стал стрелять, а неожиданно быстро бросился вперед и сбил немца с ног…
Недавно этот немец прислал ему письмо. Неприятно, ведь немец остался в памяти вместе с тем страшным днем. А теперь немец жил где-то в Дюссельдорфе в собственном доме. У него два взрослых сына и дочь. В конверте, кроме письма, лежала еще семейная фотография.
Сергей Алексеевич тут же разорвал и выбросил фотографию, но она упрямо не исчезала из его памяти: немец, с дочерью на руках, стоял рядом с женой. Впереди – его сыновья, аккуратные, зализанные, в рубашках, расшитых кружевами и украшенных галстуками-бабочками.
Нет, он не испытывал к нему злости, злость и ненависть, созревшая в нем в войну, ушла из него. Он любил чужую радость, это было достойное качество, и он гордился им. Сострадание, желание помочь другим в беде – это естественно. А вот любить чужую радость пока дано не всякому. А тут, прочтя письмо, он не почувствовал радости, а только удивился бестактности немца, которому жизнь подарила такое благополучие.
В письме немец благодарил русских за то, что они помогли им освободиться от Гитлера, а лично господина генерала – за сохранение его жизни. И теперь, писал немец, когда все страшное забыто, он хочет с ним переписываться, потому что оба они солдаты, воевали на одной войне и знают, что это такое.
Ничего себе братание получилось! Нет, на это он не согласен, на такое братание. Так можно далеко зайти, так можно и фашиста обнять и слезу при этом пустить только потому, что они сидели оба в окопах.
Сегодня он уедет. Он чувствовал в себе силу и потребность уехать к Витьке. А затем вернется в Москву. Может быть, напишет письмо, самое длинное, какое писал в жизни, напишет все то, что не успел сказать Витьке, и отправит Коле. Живая душа. А может быть, напишет и не отправит. Зачем оно Коле, ничего он в нем не поймет.
Уже стемнело, а Коли все не было. Конечно, его не пустила тетка. И, может быть, правильно сделала. Почему она должна, собственно, его отпускать, чтобы он шлялся по ночам с каким-то непонятным стариком!
Сергей Алексеевич все еще сидел, хотя ему пора было идти домой и собираться в дорогу, а то можно опоздать на последний автобус, и в этот момент его обостренный слух из общего шарканья ног и глухих вечерних голосов выхватил легкий, как ветерок, голос мальчика.
– Сергей Алексеевич! – крикнул Коля. Он бежал и говорил теперь прерывисто. – Здравствуйте, Сергей Алексеевич!
– Здравия желаю. – Сергей Алексеевич встал навстречу Коле.
Коля подбежал и от радости, что Сергей Алексеевич не ушел, схватил его за руку. А тот неожиданно крепко сжал ладошку мальчика и слегка пошевелил пальцами: так он всегда делал с Витькой. Как приятно было, что у него в руке теплая маленькая ладошка! Это было так необычно, но так горько…
Легкое шевеление пальцев рождало тысячу немых слов, которые перекидывались от Сергея Алексеевича к Коле, но обратных слов не было, потому что все же Коля был не Витька и не знал, что между ними существовал такой разговор.
«Я рад, что ты пришел», – шептали пальцы Сергея Алексеевича.
Но Коля не отвечал и чувствовал себя очень неловко, он уж забыл, когда с кем-нибудь ходил за руку.
«Ты просто мой Витька», – шептали пальцы Сергея Алексеевича.
И вдруг Коля тоже в ответ пошевелил пальцами. Он хотел сказать Сергею Алексеевичу, что опоздал, потому что тетка его не пускала, и что Тиссо и Юрка посмеиваются над его рассказами. А он лично ему верит.
Вслух же они ничего друг другу не сказали, молча дошли до дому, и Сергей Алексеевич уложил свои вещи.
– Птицу возьми себе, – сказал он. – А если хочешь, отпусти… Ну, кажется, все. – Сергей Алексеевич огляделся. – Ничего не забыл.
Ему вдруг захотелось остаться. Хорошо было гулять с Колей вдвоем, вспоминать что-то или затихать, слушая его голос.
– Жалко, что вы уезжаете, – вдруг сказал Коля и, чтобы как-то подкрепить значение своих слов, добавил: – И рассказы ваши мне очень интересны.
– И я к тебе привык, – ответил Сергей Алексеевич.
Они оба, и Коля и Сергей Алексеевич, смутились от собственных слов. Но одновременно, как это ни странно, Сергей Алексеевич вдруг почувствовал, что наивная похвала Коли, в которой выражалась оценка его жизни, льстила ему.
– А чего же вы тогда? – сказал Коля. – Оставайтесь.
– Мне на одном месте нельзя. Когда я вышел на пенсию, понял, что вся моя жизнь в прошлом. Сначала была война, потом служба, потом снова война и снова служба. А теперь… – Сергей Алексеевич замолчал, и Коля увидел по его глазам, что неотступные тени прошлого вновь одолевают его. – За эти два года я побывал во всех местах, где мы жили с Витькой. Приезжал в город и приходил в квартиру, где когда-то жил. Одни пускали, только смотрели как на сумасшедшего, другие не пускали, принимали за жулика. А иные ночевать оставляли. И сюда я поэтому приехал. Витька здесь до войны в пионерлагере отдыхал. Только там не был, где он погиб. А теперь пора. Стар стал.
– Какой вы старый, вы крепкий. – Коле хотелось ободрить старика, но он не умел этого делать и, чтобы как-то нарушить неловкую паузу, спросил, показывая на фотографию на стене: – А это не ваша?
– Нет, муж хозяйки. С войны не вернулся.
– А у нас в семье никто не воевал. Папа был мальчишкой, а дед стариком. Даже как-то неудобно.
– Почему неудобно? – сказал Сергей Алексеевич, хотя ему и понравились слова Коли. – Они же не виноваты в этом. – Посмотрел на Колю, еще раз сравнивая его с Витькой, и добавил: – В первый раз в жизни встречаю такого счастливого человека.
Сергей Алексеевич позвал хозяйку, чтобы расплатиться, и хозяйка стала причитать, что он не дожил срок и тем самым ввел ее в расход, потому что она могла «другим людям» сдать комнату, что легче всего обидеть одинокую солдатскую вдову.
У Сергея Алексеевича после этих слов сразу пропала охота спорить с нею, и он заплатил ей деньги за весь срок.
Перед его глазами пронеслись бесчисленные поля и леса, серые от дыма и пороха, мокрые и стылые от дождя, и где-то в таком поле или лесу погиб муж этой женщины. От него осталась только фотография, пожелтевшая от времени. А больше ничего не осталось от него, и женщина эта, его бывшая жена, стала совсем другой, чем тогда. Когда он уходил на фронт, разве она была такая, разве она могла идти на вымогательство? А если бы не война, то у этой женщины был бы муж и дети.
Они вышли из дому, а Сергей Алексеевич снова подумал о солдате. О том, что его фотография висит в комнате, в которой за эти послевоенные годы перебывала добрая сотня людей. И все они видели фотографию солдата. А он решил, что это хорошо.
Сергей Алексеевич нес чемодан, а Коля – клетку с птицей. Уже вечерело, и стал накрапывать дождь, и от тучи, что повисла над городом, стало совсем темно. По на автобусной станции ярко горел свет и бурлила жизнь. Приходили и уходили автобусы, спешили пассажиры с чемоданами и детьми.
– Иди под навес, – приказал Сергей Алексеевич.
Коля, вобрав голову в плечи, побежал под навес.
Сергей Алексеевич стал в очередь в билетную кассу, издали наблюдая за Колей. Над головой паренька горела лампочка, и Сергею Алексеевичу было видно, как Коля помахал ему рукой.
Нет, все же если он напишет это длинное письмо, то отправит его Коле.
Неожиданно вместе с ударом грома погас свет, и все погрузилось в темноту, и в этой темноте голоса людей, трубные звуки сирен автобусов, словно рев загнанных слонов, скрежет тормозов звучали намного громче и тревожнее.
Какой-то автобус, выхватив из темноты фигурку Коли, остановился рядом с навесом. Началась посадка.
А дождь уже перешел в ливень и хлестал с упрямой силой, и люди, что спешили на посадку, захватили в свой водоворот Колю и потащили с собой. Он отбивался, рвался обратно, но людской поток тащил и тащил его. И над толпой уже висел рой зонтиков, и Коля ничего не видел, всеми силами стараясь сохранить клетку с птицей.
– Осторожно! – кричал он. – Осторожно! – Крик его тонул в тесноте, грохоте грома и дождя и объявлений по радио.
– Граждане пассажиры, – объявляли по радио, – соблюдайте порядок. Автобусы уходят по расписанию.
Фары автобусов разрезали темноту, и в их призрачном свете все казалось неестественным: и дождь, и люди.
– Граждане пассажиры! Автобус до Симферополя подан… Занимайте места…
Коля наконец вырвался из суматошной толпы и бросился искать симферопольский автобус. Но там старика не оказалось.
– Сергей Алексеевич! – без всякой надежды на успех крикнул Коля. Сергей Алексеевич!
Никто не отзывался.
И снова Коля побежал через площадь, к тому месту, где они расстались. Он размахивал клеткой со взмокшим несчастным кенаром и сам был тоже мокрый и нахохлившийся.
Но поздно: ему навстречу выплыл гигантский автобус, на котором впереди написано: «СИМФЕРОПОЛЬ».
Коля прыгал перед проплывающими мимо него окнами автобуса, но ничего толком не увидел.
Из-за угла
На следующее утро, как всегда, Коля побежал в порт. Затем, расстроенный очередной неудачей, поплелся в цирк на репетицию Тиссо, надеясь там найти Юрку. Он вспомнил дорогой, шагая среди счастливых, беззаботных отдыхающих, как неудачно проводил вчера Сергея Алексеевича, и подумал, что ему решительно не везет на встречи и проводы.
На манеже вольтажировал Тиссо: репетировал свой номер. Юрка бегал рядом с его лошадью.
Коле всегда нравилось приходить в утренний цирк, когда зрительный круг пуст и арена от этого кажется таинственной и огромной. И Тиссо нравился Коле. Он могучий, широкоплечий атлет, скор в движениях, необычайно ловко переворачивается в воздухе. И все это казалось ему недосягаемым, чем-то почти волшебным. Он с восторгом выбежал на арену и, подменив Юрку, стал бегать рядом с лошадью, подавая на ходу наезднику те мячи, которые он ронял.
Тиссо все увеличивал скорость, и Коля, бегая рядом, прибавлял скорость, и ему было жарко, но приятно радовала эта лошадь, ошпаривающая его своим дыханием и запахом, и он уже сам себе казался таким же сильным и ловким, как Тиссо.
И он влюбленно смотрел на Тиссо, потому что вообще любил людей, и старика поэтому полюбил, и даже фотографа, что фотографировал его на Витькином камне, он поэтому помнил.
– Не устал? – крикнул Тиссо.
– Нет, – захлебываясь от бега и внутренней радости, ответил Коля.
И тут же услыхал Юркин голос:
– Коля, к тебе пришли.
Коля оглянулся и глазам своим не поверил: перед ним стоял Сергей Алексеевич. «Вот чудно! – подумал Коля. – Значит, не уехал». И ему совсем стало хорошо, и он даже забыл, что встречал утром неудачно пароход. Да и как ему было помнить об этом, когда кругом столько хорошего.
Сергей Алексеевич улыбнулся Коле.
«Когда старик улыбается, – заметил Коля, – он делается моложе. И вообще, какой он сегодня торжественный и непривычно довольный. В белой чистой рубахе, в новых брюках. Красавчик, а не старик». Коля бросился ему навстречу, и они поздоровались за руку.
Тиссо остановил лошадь около ребят и Сергея Алексеевича и ловко и красиво спрыгнул на манеж.
– Юра, поводи, – приказал он и вытер вспотевшее лицо махровым полотенцем.
– Здравствуйте, – сказал Сергей Алексеевич.
Тиссо кивнул в ответ.
Юрка взял лошадь за поводья и начал водить ее по кругу.
– Хороша лошадка, – заметил Сергей Алексеевич.
Тиссо снова в ответ только кивнул, подпрыгивая, играя мышцами.
– Пожалуй, я пойду, – сказал Сергей Алексеевич, хотя ему уходить совсем не хотелось, не для этого он остался. – Коля, когда будешь посвободнее, загляни…
– Что это вы его опекаете? – вдруг спросил Тиссо.
– Привязался, – доверчиво и охотно ответил Сергей Алексеевич. – Он мне сына напоминает.
Что-то с ним произошло в последнее время, и то, что раньше он скрывал от всех свою боль о Витьке, он теперь начал выплескивать наружу.
– Сына? – переспросил Тиссо, заметил, что Юрка остановился, и крикнул: – Не останавливайся, води, води! – Повернулся к Сергею Алексеевичу. Лицо его при этом было отчужденным, он был занят собой. – Ваш сын, видно, постарше меня?
– Сын у Сергея Алексеевича погиб в войну, – вмешался в разговор Коля. В пятнадцать лет. Не вернулся из разведки.
– Извините, – сказал Тиссо. – Как же такой пацан попал на фронт?
– Мы жили на границе, – сказал Сергей Алексеевич.
– А кто же его послал в разведку? – спросил Тиссо.
Сергей Алексеевич перехватил испуганный взор Коли и заметил, что и Тиссо смотрел на него выжидательно. И под этими перекрестными взглядами он почувствовал себя как на суде. Никто так с ним еще не разговаривал никогда о Витьке.
– Сергей Алексеевич, – сказал Коля, – пойдемте погуляем… А то здесь что-то жарко.
Но Сергей Алексеевич не ответил ему, он поднял глаза на Тиссо и тихо произнес:
– Я.
Впервые за сегодняшний день тоска по сыну снова вошла в него, и ему уже не казалось, что Коля похож на Витьку, и он понял, что никакая подмена не заменит потерянного, и нечего заниматься самообманом. И было совершенно непонятно, зачем он околачивается здесь, в цирке, и он пожалел, что не уехал.
– Жестоко вы жили, – сказал Тиссо.
– Время такое было, – ответил Сергей Алексеевич. – Надо было спасать всех детей.
– Время. – Тиссо подошел к лошади. – Иди сюда, Алмаз, сюда, мой дорогой. – Достал из кармана кусочек сахара и сунул лошади в зубы. Время-то прошло, а сына у вас нет, и все, кроме вас, о нем забыли.
Сергей Алексеевич пошатнулся, как от удара. Откуда взялся этот человек? И почему он разговаривает с ним, и что это еще за мальчишки, которые стоят рядом и слушают? И как он вообще попал в этот балаган, и как он посмел свое самое святое отдать на уничтожение! Он молча повернулся и, не видя ничего перед собой от гнева, пошел к выходу.
– Сергей Алексеевич! – крикнул Тиссо. – Извините, я не хотел вас обидеть… Вот чудак!
Последние его слова все же проникли в сознание Сергея Алексеевича, и он остановился. Нет, он не уйдет так, он скажет этому человеку все, что думает. Это не легко, но разве ему вообще когда-нибудь было легко?
Не по той дороге он шел в жизни, на которой могло быть легко, и он гордится этим.
– Что же, по-вашему, – сказал Сергей Алексеевич, – живым жить, а мертвым гнить? Так, по-вашему?
– Я же извинился перед вами, – сказал Тиссо. – И хватит.
– Эх, молодой человек, – сказал Сергей Алексеевич, – нет в вас чего-то самого главного!
– Вы мне мешаете, – сказал Тиссо, прыгнул в седло и поскакал по кругу.
Коля подошел к Сергею Алексеевичу и сказал:
– Идемте, – и взял его под руку.
И эта теплая, крепкая мальчишеская рука заново повернула его к жизни, и тот голос, который только что звучал в нем: «Зачем я это все им рассказал», начал в нем затухать, хотя лицо его по-прежнему было сурово.
Переправа
Когда они вышли на улицу и смешались с толпой, Коля, который горел нетерпением побыстрее объясниться, сказал:
– Здорово, что вы не уехали… – Нет, его слова сейчас прозвучали слишком нелепо. – А кенар ваш в полном здравии. – Опять что-то не то, и Коля уже по инерции тихонько добавил: – Распелся сегодня, раскричался, меня утром разбудил. – И вдруг: – Вы не верьте ему… тому… в цирке. – Он не хотел даже произносить его фамилию. – Он неправду сказал. Я вот так не думаю. И никто не думает.
И симпатия к Тиссо у него сменилась острой неприязнью. Он был легок в своих переходах в отношении к людям, он был скор на руку и ненавидел всякое предательство.
Сергей Алексеевич ничего не ответил, но все же подумал, что у Коли душа горяча и честна, как у Витьки, и ему было приятно, что в нем он не ошибся. Он повернулся к мальчику, опустил ему руку на голову и сказал:
– Волосы у него были белые, как солома. Жили мы вдвоем. Его мать умерла, когда он был совсем маленьким, и я сам за ним ухаживал. В общем, ему было нелегко: то я уезжал в командировку, то на полевые учения. А он сам готовил себе еду, сам стирал белье. Жили мы в Белоруссии, на границе. И вдруг меня вызвали в Москву и предложили поехать в Испанию. А там в то время была война – революционеры дрались с фашистами, их там называли фалангисты. В Испании я провоевал год… Женился на девушке – испанке из нашей бригады…
Сергей Алексеевич замолчал.
А видел он зимнюю проселочную дорогу и себя с Лусией, сидящих в санях. Это они едут в интернат за Витькой. Он помнит и бережно разбирает каждый свой жест и слово из того далекого, сладостного, благополучного времени.
Он вылез из саней, отряхнулся от сена, краешком глаза прошелся по окнам, не выглядывает ли там где-нибудь Витька, и почувствовал, что сердце у него почти остановилось от напряжения, точь-в-точь как в последний миг перед атакой. Но он все старался делать медленно, чтобы не выдать себя перед Лусией. Он потер уши – крепкий был мороз, – потом помог выйти из саней Лусии, посмотрел на нее, и ему стало весело. Лусия была так укутана, что не видно было ее лица, торчал только кончик носа и большие черные глаза. В вестибюле интерната их встретила женщина-вахтер, посмотрела на них и спросила:
«Князевы или Малинины?»
«Князевы, – ответил он. В пустом вестибюле голоса громко и неестественно резонируют, и ему тогда показалось, что дом пуст и он сейчас не увидит Витьки, и он не выдержал и спросил: – А что это у вас так тихо?»
«Каникулы, – ответила женщина. – Только двое остались: ваш и Малинина. Идемте, я вас провожу…»
И в ту же секунду в конце длинного коридора интерната, который заканчивался окном, появились две стремительно бегущие фигурки. Они до сих пор стоят у него перед глазами, а в ушах звучит топот их ног. Они бежали рядом, Витька и какая-то девочка, еще, видно, не зная, за кем из них приехали долгожданные родители, и, хотя ему нестерпимо было радостно встретить наконец Витьку, какое-то щемящее чувство тревоги охватило его при виде этой чужой, незнакомой девочки, дочери неизвестного ему Малинина.
Они остановились, и девочка, которая бежала к ним навстречу, поняла свою ошибку и тоже остановилась, а Витька без слов, без радостных восклицаний бросился к нему.
Ростом он стал повыше, а плечики на ощупь такие же худенькие были, и спинка тоненькая, и гнулась от малейшего прикосновения, и пахло от него забытым мальчишеским теплом, и острижен он был наголо.
«Ну, успокойся, – сказал он Витьке. – Что это тебя остригли?»
Витька ему ничего не ответил и не оторвал от его груди головы, видно, боялся расплакаться.
«Корью он у нас переболел», – вмешалась женщина.
Лусия стояла рядом, скинув платок на плечи, и исподтишка изучала Витьку.
Он случайно перехватил взгляд девочки, и она застеснялась и немного отошла назад и снова остановилась, прислонившись к стене.
Он помнит, Лусия тронула его за рукав, и ему почудилось, что у нее и у той девочки у стены одинаковые испуганные глаза.
«А вот это Лусия, – сказал он Витьке. – Она будет жить с нами».
Витька с подозрением посмотрел на Лусию. Та протянула к нему руку, хотела погладить по голове, но Витька резко отстранился, и ее рука повисла в воздухе.
«Она хорошая, – сказал он. – Придется тебе взять над ней шефство».
Нет, и это на Витьку тогда не подействовало, и он почувствовал себя неловко перед этой девочкой, которая смотрела на него с такой грустью, точно он был виноват, что приехал и увозит от нее последнего ее дружка, и перед женщиной. И он громко сказал:
«Она испанка. – Тогда это были магические слова. – По-русски говорит плохо».
И Лусия порывисто обняла Витьку, как самого близкого человека, как сынишку, которого давно не видела и вдруг снова нашла. Она всегда была порывистой и правдивой и не думала, вернее, у нее не было времени для того, чтобы подумать, как приличнее поступить, когда все кругом только что слышали, что Витька ее видит впервые. Она встала перед ним на колени и заглянула ему в глаза и снова обняла, и Витька улыбнулся ей в ответ.
– Он, знаешь, – сказал Сергей Алексеевич, – был немного странный. Например, любил ходить под дождем. Как, бывало, дождь, надевает пальто – и на улицу. И еще он не умел свистеть. Все ребята умели в два и в три пальца и колечком, а он не умел. Он не был храбрым: боялся темноты, никогда не дрался, но скрывал это от ребят. Как-то поспорил, что ночью пересечет из конца в конец городское кладбище, и пересек, но потом даже днем боялся туда заходить.
Они ехали на прогулочном катере, вдоль берега, хотя Сергей Алексеевич почти не помнил, как они попали сюда.
На катере было мало людей, тихо, и прохладный морской ветерок слегка успокоил старика. Коля это заметил и с какой-то отчетливой грустью ждал продолжения рассказа.
– А-а-а, здрасьте вам! – Перед ними стоял Здоровяк. В руках он держал бутылку пива. – Угощайтесь. – Он бесцеремонно сунул старику в руку стакан, чтобы налить пиво.
– Нет, нет! – сердито и решительно ответил Сергей Алексеевич. Оставьте нас в покое.
– Удивляюсь, – примирительно сказал Здоровяк, сделал несколько неуверенных шагов по палубе, остановился и радостно крикнул: – Вспомнил! В прошлом году в Перми вы в цирке тоже подставным работали. – Он засмеялся и погрозил Сергею Алексеевичу пальцем: – Смотрите вы у меня!
Но ни Коля, ни Сергей Алексеевич не откликнулись на его слова. Коле они показались неподходящими и какими-то бесстыдными. А Сергей Алексеевич почти ничего не слышал, и он снова рассказывал Коле, и видения настойчиво преследовали его. Он передавал Коле самую суть, историю, а сам видел свою жизнь во плоти. Действительно, как сильны видения: они объемны, имеют завах, цвет и вкус. Он видел лица Витьки и Лусии, смотрел, как Лусия причесывалась, прикусывая от напряжения нижнюю губу, как Витька умывался, стараясь не намочить лица. Разве все это передашь словами?
Он вспоминает день рождения Лусии. Простое событие, но перед его внутренним взором все это просыпается, и он видит нарядный стол в их комнате в Витебске, на Володарской, и бутылку вина, которую он с таким трудом достал для Лусии. Это был черный мускат, пахнущий свежей хлебной корочкой, и губы от него делались липкими. У них было такое хорошее настроение, и они просто, без слов сели на широкий диван, обитый коричневой кожей, и смотрели друг на друга и смеялись.
Даже не верится, что он когда-то так жил, что мог смеяться без причины. Но Лусия… Как же можно было не радоваться, когда она была рядом! Разве это расскажешь мальчику, и разве он поймет! Ему можно просто сказать, что на дне рождения Витька подарил Лусии шапку-ушанку. Но ведь это пустые звуки, а не слова, передающие смысл необыкновенного события.
Все получилось не просто. Они сидели, значит, на диване, и смеялись, и смотрели на нарядный стол и на бутылку черного муската, которую должны были распить, как вдруг почувствовали, что настроение у них начинает портиться.
«Где-нибудь заигрался с товарищами, – сказал он. – А может быть, классное собрание…»
Она промолчала.
«Давай пока за твое здоровье. – Он взял эту самую знаменитую бутылку и налил ей в рюмку вина. Надо было как-то ее развеселить, и он добавил: – Ты только понюхай, как оно пахнет…»
И тут Лусия сказала:
«Просто я ему не нужна».
Он ей на это ничего не ответил, не сразу нашелся, что ответить, и, пока раздумывал и тянул время, пришел Витька. Он сам открыл Витьке дверь. А тот, не входя в квартиру и что-то пряча за спиной, спросил у него:
«А Лусия где?»
«Лусия! – позвал он. – К тебе пришли».
Лусия подошла и, притворно возмущаясь, сказала:
«Ах, это вы», – и повернулась, чтобы уйти.
«Закрой глаза», – потребовал Витька.
Лусия послушно закрыла глаза. Витька – в руках у него была новенькая меховая ушанка – подпрыгнул в напялил ей шапку на голову. Лусия открыла глаза, но не успела ничего сказать, как Витька распахнул дверь настежь; на лестничной площадке стояла орава ребят.
«Вот она», – сказал Витька.
«И она настоящая?» – спросила какая-то девочка.
«Конечно», – возмутился Витька.
«А как ты докажешь?» – спросил мальчик, подозрительно оглядывая Лусию.
Они вели этот разговор, как будто здесь не было ни Лусии, ни его.
«Лусия, – попросил Витька, – скажи что-нибудь по-испански».
Лусия замерла – видно, думала, что же ей такое сказать по-испански, чтобы поразить этих недоверчивых ребят, – потом подняла вверх сжатый кулак и сдержанно, почти шепотом, точно доверяла им какую-то тайну или открывала свою душу, сказала:
«Салуд, камарадес!»
Катер пристал к пристани, и они вышли на берег. Когда они шли по пляжу, где купались мальчишки, Коля сказал:
– Неплохо бы окунуться.
– Давай, – согласился Сергей Алексеевич. – Я тебя подожду.
В общем, ему нравился этот старик, с ним было легко и просто, он сразу соглашался на все его предложения, и что-то было в нем еще такое непонятное Коле, что было ему дорого.
Они сели на камни чуть в стороне от мальчишек. Коля быстро разделся и, хотя вода была холодной, смело вошел в море, чтобы покрасоваться перед стариком.
А Сергей Алексеевич прилег на камни, они были холодные и холодили ему спину сквозь рубашку, но он не обращал на это внимания, а смотрел в синее, необыкновенное небо и думал – кажется, это было с ним впервые – о смерти, как о чем-то обыкновенном. Подумал, что все-таки пора собираться к Витьке; что ему туда теперь не страшно приезжать – у него внутри все созрело для этой поездки.
Сергей Алексеевич представил, что он ничего этого – ни моря, ни неба не увидит, и это не вызвало у него никакого чувства. Ну, не увидит, и все. Он всю свою жизнь ходил по самой кромке жизни. Сколько было выпущено пуль, чтобы поразить его, сколько мимо него просвистело осколков, чтобы разорвать на куски, и он понимал, что его вот-вот должны убить, сразить, испепелить, но там он дрался, скрипел зубами, кричал, стремился к победе, к жизни, к борьбе и не думал о смерти, просто ему было некогда.
Очнулся Сергей Алексеевич от мальчишеских криков.
– Вот дает! Вот это стиль! – кричали мальчишки.
Сергей Алексеевич увидел неподалеку сидящего на камнях Колю, а в море плывущего отличным брассом пловца. Именно к нему и относились восхищенные крики мальчишек.
Его поразило море. Оно было такое же тихое и спокойное, как небо. И пустынное. Только голова пловца, и руки, которые он выбрасывал из воды, и там, далеко в море, одинокая скала.
Сергея Алексеевича теперь часто поражала природа, раньше он за собой подобного не замечал. У него иногда появлялось желание наклониться и взять в руку ком холодной высохшей земли и размять его. Или запах дерева мог остановить его на месте и заставить простоять битый час. Так же теперь его поразило море. Может быть, это была неосознанная тоска по труду: по вспашке земли, и рыбной ловле, и садоводству, – к которому он был определен по рождению.
– Вот это да! – снова заорал какой-то мальчишка. – Вот это стиль!
– Послушай, ты можешь не орать? – попросил Коля, оглядываясь на Сергея Алексеевича.
– Мой голос, как хочу, так и ору, – ехидно ответил мальчишка, к общему удовольствию своих товарищей.
– Человек спит, – долетели до Сергея Алексеевича слова Коли.
– Здесь не комната отдыха… – ответил мальчишка.
– …для пенсионеров, – ловко подхватил другой.
Мальчишки захохотали. Сергей Алексеевич видел, как Коля быстро наклонился, схватил камень и… Но он остался спокойно лежать, он уже изучил этого паренька. Ни с кем он драться не будет и ни в кого не позволит себе бросить камень просто так, и в то же время ему стало приятно, что Коля вступился за него.
– А ну, уходите! – Коля замахнулся камнем на мальчишек.
Те шарахнулись в сторону.
Пловец тем временем доплыл до скалы, влез на нее, вытянулся в струнку, бросился вниз, в волны, и поплыл обратно к берегу!
– Гляди! – заорал кто-то из мальчишек. – Обратно пошел, без передыху!
Мальчишки снова стали смотреть на пловца.
– Здорово! – сказал примирительно Коля.
– А твой старикашка так сможет? – спросил ехидный мальчишка.
Коля промолчал.
– Куда ему… У него скелет рассыплется, – вставил кто-то другой и на всякий случай отступил от Коли.
– Ну ладно вам, – желая прекратить разговор, отмахнулся Коля.
– Тихо, – прошептал ехидный мальчишка. – Он не спит.
Коля оглянулся и увидел, что старик сел. «Все шишки сегодня на него», подумал он и подошел к Сергею Алексеевичу.
– Разбудили вас? – участливо спросил Коля.
– Ничего, – ответил Сергей Алексеевич, хотя разговоры мальчишек обидели его. Вообще он стал обидчив, чуть не по нем – сразу в амбицию.
Сергей Алексеевич пристально посмотрел на Колю. Может быть, и этот возится с ним из сострадания? Это почему-то его еще больше обидело. Ни в чьем сострадании он не нуждается.
Пловец доплыл до берега и прошел мимо мальчишек. Они стайкой двинулись за ним, увлекая за собой Колю. Им нравился этот великолепный мускулистый человек.
А когда Коля оглянулся, то на том месте, где только что сидел Сергей Алексеевич, лежали его брюки и рубаха и валялись разбросанные в разные стороны туфли, словно раздевался он в спешке. Коля поискал глазами Сергея Алексеевича и, к своему удивлению, увидел его в море.
– Сергей Алексе-е-вич! – закричал Коля.
Сергей Алексеевич оглянулся и помахал ему рукой. Он и сам-то по-настоящему очнулся в море, когда холодная вода обожгла ему тело, и он почувствовал, что ему никогда в жизни не доплыть до этой далекой проклятой скалы и что все это смешно и просто глупо. Но тем не менее он равномерно размахивал руками и удалялся от берега. Сергею Алексеевичу почудилось, что вот сейчас он просто утонет, и это было невероятно. И про него будут говорить, что он провоевал всю войну, прошел через семь кругов ада, а потом просто, обыкновенно утонул. Нет, надо заворачивать обратно. Сергей Алексеевич посмотрел на берег и увидел, что мальчишки теперь наблюдают за ним… Хорошенькое дело – повернуть назад, когда они смотрят!
«Подумаешь, в реке плыть потяжелее, чем в море, – подумал Сергей Алексеевич. – Особенно когда в тебя стреляют, и когда ты думаешь о сыне, и когда ты видишь, как другие навсегда скрываются под водой, а берег так упрямо не приближается». Витька сидел в лодке, а он плыл рядом, схватившись за ее борт. Этот борт был расщеплен в нескольких местах пулями. Сначала и он сидел в лодке, но потом туда втащили трех раненых, и он прыгнул в воду.
Солнце светило Сергею Алексеевичу в глаза, и от этого ему было еще труднее плыть, но он плыл и плыл, со злобой рассекая воду. Но вот он дотронулся рукой до скалы, рука у него от напряжения дрожала: ему хотелось влезть на скалу, чтобы отдохнуть, но он понимал, что тогда у него уже не хватит сил, чтобы вернуться. Он оттолкнулся от камня, опустился с головой под воду, вынырнул, снова схватился за камень и, не выдержав, вылез из воды.
К скале подплыл на лодке молодой загорелый парень из спасательной команды.
– Что, жить надоело?
Сергей Алексеевич не ответил.
– Садись в лодку, – сказал парень и, видя, что Сергея Алексеевича почти не слушаются ноги, протянул ему руку и добавил: – Эх, папаша, папаша, жизнь прожили, а ума, видать, не нажили!
Сергей Алексеевич примостился на корме, а парень сильными и ровными рывками греб к берегу.
Он вылез из лодки под пристальными взорами мальчишек, оделся, заплатил штраф в пятьдесят копеек за нарушение режима купания и, не произнеся ни слова, пошел домой.
Драка
Коля пропустил мимо всех пассажиров с лайнера, вздохнул и вошел в магазин. «Почему это никогда не бывает все совершенно хорошо? – подумал он. – Вот, например, родители. Ждешь, ждешь их, а они не едут».
Раньше он думал, что все люди на земле делится на две половины: одни наши и за нас, другие – против, враги. А теперь он с сожалением открыл для себя, что в «нашей половинке» люди тоже бывают всякие. Иногда не понимают самых обычных вещей. Тиссо… Сильный, красивый, а зачем-то унизил Сергея Алексеевича. Разве ему трудно было сказать доброе слово? А Юрка около него вьется вьюном.
Кажется, он ничего не забыл купить, о чем просил Сергей Алексеевич. «Ничего себе. Доплыл до Горбатой скалы. Жалко только, что заболел». Купил в аптеке все лекарства, кроме одного, и решил забежать в поликлинику к тете Кате, попросить у нее это лекарство.
В поликлинике лекарства тоже не было, и Коля побежал к выходу.
– Подожди ты, сердобольный! – окликнула тетя Катя. – Тебе письмо пришло.
«Наконец-то», – подумал Коля, и радость, чудная радость, овладела им.
Всяк его поймет, кому приходилось ждать. А теперь все кончилось благополучно и начинался настоящий праздник. Он повернулся, чтобы лететь домой за письмом.
– Юрка его взял, – только и успела крикнуть тетя Катя. – Он в цирке…
А Коля уже бежал по улице. В цирке так в цирке, хотя каждая встреча с Тиссо ему была неприятна.
Юрку он увидел еще издали. Тот, стоя за изгородью, мыл лошадь Тиссо.
– Давай письмо, – нетерпеливо сказал Коля.
– Лезь в карман. – У Юрки были мокрые руки.
Коля вытащил из Юркиного кармана письмо, опустил авоську с продуктами на землю, торопливо разорвал конверт, но вместо письма оттуда вытащил собственную фотографию.
– От папеньки и маменьки, – сказал Юрка и заглянул через Колино плечо, увидел фотографию и добавил: – Ничего. Шедевр.
Коля спрятал фотографию, он явно разочаровался. Из цирка вышел Тиссо и, незамеченный, подошел к мальчишкам.
– Тиссо обещал меня с осени устроить в цирковую школу, – расхвастался Юрка.
– Слушай его больше, – сказал Коля. – Трепач твой Тиссо.
– Полегче, полегче, – сказал Юрка. – Еще неизвестно, кто трепач.
– А как он разговаривал с Сергеем Алексеевичем? – возмутился Коля. Это благородно, по-твоему?.. А ты к нему подлизываешься. Смотреть противно!
– Брось меня воспитывать, – сказал Юрка.
Коля повернулся, чтобы уйти, и натолкнулся на Тиссо.
– А, брат милосердия, – сказал Тиссо. – Ну, как твой старик?
– Ничего, – ответил Коля.
– Он что, обиделся на меня?
– На вас? – Коля посмотрел с вызовом на Тиссо: – Чего ему обижаться. У него есть дела поважнее.
– Ну да, – сказал Тиссо. – Он большой начальник.
– Дядя Гена, а что было бы, если бы вы этого старого хрыча пальцем толкнули? – засмеялся Юрка. – Рассыпался бы в порошок.
– Дурак ты, – сказал Коля. – И подлиза.
– Здорово он тебя, – сказал Тиссо. – Не в бровь, а в глаз.
– Слушай, ты, умный! – со злостью сказал Юрка. – Раз ты такой благородный, может быть, тебе противно жить в нашем доме?
– А я не у тебя живу, – сказал Коля. – Вот приедет отец, и уеду.
– Дядя Гена, послушайте его… – закричал Юрка. – Отец, отец… А он ему вовсе и не отец.
– Юрка, Юрка, – притворно возмутился Тиссо. – Ты что?
– Так он ему правда не отец, – сказал Юрка. – Он женился на его матери, когда ему был год!
– Врешь! – закричал Коля. – Сволочь! – И не помня себя бросился на Юрку.
Тиссо поднял его, отнес в сторону и поставил на землю.
– А еще братья, – сказал он. – Нехорошо.
Болезнь
Сергей Алексеевич тем временем лежал и ждал Колю. Иногда он проваливался в полусон, и ему казалось, что он ранен, но это ныла простреленная нога…
Вот он услышал рокот самолета – его везли в Москву в госпиталь, к знаменитому Мандрыке, – и увидел немецкий истребитель, промелькнувший над ним, и вспомнил свои слова: «Моя песенка спета», которые прозвучали в нем тогда без всякого страха, но с жалостью подумал о молоденьком летчике, «хозяине» его самолета.
Потом Сергей Алексеевич очутился в кабинете, на стенах которого висели плакаты времен гражданской войны. Перед ним, расставив ноги в новеньких сапогах, в широких красных галифе и френче, стоял друг его детства Шаблов, по прозвищу Васька-банщик.
«А что вы вчера делали в церкви? – закричал Васька-банщик. Отвечайте!»
«Васька, ты что? – удивился он. – Я отца хоронил».
«Как разговариваете! – кричал Васька. – Вы куда пришли? Забыли?.. Голос Васьки приобрел сверхъестественную силу. – Командир атеистической Красной Армии не имеет права ходить в церковь».
«Выходит, «мертвым гнить, а живым жить»?! – спросил он. – Эх, ты!..» повернулся и пошел к дверям. Но, по мере того как он шел, двери все отдалялись и отдалялись, и кабинет Васьки-банщика стал бесконечным. И тогда он побежал. Он бежал и бежал и вдруг стал уменьшаться в росте и наконец превратился в мальчишку. И тут же увидел своего отца. В каждой руке отец держал по новенькой галоше на малиновой подкладке: он был, легонько пьян и смотрелся в галоши, как в зеркало.
«Теперь куплю тебе буквы с вензелями, и будешь ходить в галошах при вензелях, как господин директор или путейский инженер. – Отец смеялся, и его бороденка мелко дрожала. – Барином тебя сделаю. – Начал крутить перед его носом галошами и пританцовывал: – Барыня, ба-ры-ня… Судары-ня, ба-ры-ня!..»
«Комроты Князев, смир-р-р-но!» – услышал он крик Васьки-банщика, хотел притвориться, что это относится не к нему, но быстро-быстро стал расти и превратился в комроты Князева.
«Кругом! – донеслось до него. – Шагом м-м-марш! Ать-два… Выше ногу… Носок оттяни…»
Он возвращался к Ваське-банщику, четко печатая шаг, расправив плечи, вынув раненую руку из перевязи, вытянув руки по швам. И тут он увидел, что Васька-банщик держит его галоши. «Отдай, отдай!» Выхватил у него галоши, крепко прижал к груди и бросился наутек. Бежал до тех пор, пока не оказался у собственной комнаты. Осторожно приоткрыл дверь и в образовавшуюся щель увидел Лусию. Она сидела в напряженной позе на их диване, на этом широком кожаном диване, одетая в светлый костюм, который был на ней в тот последний день. На голове шапка-ушанка.
«Что стоишь в дверях? – спросила она, не повернув головы. – Входи, раз пришел».
Он робко вошел в комнату. Вид у него был жалкий и виноватый: он в пижаме, с завязанным горлом и почему-то босой.
«Ты хоть галоши надел бы», – сказала она.
Он попытался надеть галоши, но они были малы.
«Я виноват перед тобой», – сказал он.
«А где Витька?» – спросила Лусия.
«Там», – Сергей Алексеевич кивнул на дверь.
«Позови его…»
Бесшумно ступая, он подошел к двери: за дверью стоял Коля.
«Ко-ля, – тихонько позвал он, – Ко-оль», – чтобы она, Лусия, не услышала имени мальчика, и ввел его в комнату.
Лусия бросилась навстречу Коле, обняла его. Ушанка слетела у нее с головы и покатилась к босым ногам Сергея Алексеевича.»
«Здравствуй, Витя, – шептала Лусия. – Дорогой мой!»
А Сергей Алексеевич зашел за ее спину и приложил палец к губам, прося Колю о молчании.
Где-то затрещал движок, Сергей Алексеевич вздрогнул и проснулся. У стола Коля разгружал авоську с продуктами.
– Коля! – окликнул Сергей Алексеевич.
Мальчик поднял голову.
– Что там трещит, не знаешь?
– Отбойный молоток, – сказал Коля.
– Совсем как автомат, – заметил Сергей Алексеевич. – На войне мне часто снилось, что я плыву по тихой, мирной реке, а сейчас снится война.
Он вспомнил свой сон про отца и вспомнил, как его в действительности хоронили. Это было сразу после гражданской войны. Он только что вернулся с польского фронта и приехал в родной город в командировку. И умер отец. Его вызвал военный комендант, этот самый Васька-банщик, и запретил идти на похороны, потому что отец был верующим и его будут отпевать. А это, мол, подрыв авторитета командира Красной Армии и потеря революционной бдительности. Но все же он пошел на похороны в гражданском платье с чужого плеча, как вор. Он прятал глаза от людей и поднимал воротник пальто, боялся встретить знакомых. И теперь, через столько лет, ему было стыдно той своей трусости.
– А тебе, наверное, ничего не снится. – И с завистью добавил: – Спишь без задних ног?
– Мне? – переспросил Коля, и вдруг у него вырвалось: – Сегодня приснился сон… Будто у меня отец не родной, – он чуть не захлебнулся и не заплакал от этих слов, – а от меня скрывают.
Сергей Алексеевич впервые поднял глаза: слишком странными показались ему слова мальчика.
– Чего только не приснится, – сказал он. – Ну, а дальше-то что?
– Проснулся. – Тоска совсем одолела Колю, и ему нестерпимо захотелось все рассказать Сергею Алексеевичу, чтобы легче стало, и он готов был уже открыться, но вместо этого сказал обычные слова: – Одного лекарства не достал. Вот рецепт.
– Оставь себе, – сказал Сергей Алексеевич. – При случае возьмешь. – Он заметил в кармане Колиной рубахи конверт. – Это что, письмо от родителей?
– Фотограф прислал. – Коля протянул Сергею Алексеевичу конверт.
– Ну-ка, ну-ка! – Он вытащил фотографию из конверта.
Одно дело представлять себе, что вместо Коли на камне сидел Витька, а другое дело – фотография, и на ней действительно Витька… Сергей Алексеевич забыл о Коле и когда наконец опомнился, то мальчика уже не было в комнате. У Сергея Алексеевича мелькнуло в голове, что получилось как-то неудобно, и мальчишка вроде был чем-то расстроен, а он даже его не расспросил.
Телеграмма с опозданием
А тем временем Коля торопливо собирал вещи. «Я им в тягость, – думал Коля. – Они и на Севере поэтому болтались, чтобы отделаться от меня. Уеду куда-нибудь и поступлю на работу. Или лучше попрошу Сергея Алексеевича, чтобы он устроил меня в Суворовское училище». С этой мыслью он взял в одну руку чемодан, в другую – клетку с кенаром и направился к двери. У него теперь было одно-единственное желание – побыстрее отсюда убежать, чтобы никого не видеть: ни тети Кати, ни Юрки. Быстрее, быстрее! Все хорошее, что было в нем к родителям, куда-то улетучилось, и теперь им владела только обида. На столе лежала телеграмма, он сначала в лихорадке даже не заметил ее.
И тут пришел Юрка.
– Колька, – крикнул он, притворяясь, что между ними ничего не произошло, – телеграмма! – и помахал бумажкой над головой.
Но телеграмма была ему не нужна, она прибыла с опозданием.
– Ты куда? – Юрка загородил Коле дорогу.
– Куда надо. – Он держался из последних сил.
– Совсем псих. Телеграмма же!
– Возьми ее себе на память, – сказал Коля. – А ну, пусти!
Юрка, отталкивая его от двери, открыл телеграмму и прочел:
– «Будем завтра. Целуем. Твои папа-мама».
– Пусти! – крикнул Коля в отчаянии.
Юрка отступил, и Коля выскочил на улицу.
…Сергей Алексеевич сразу понял, что случилась какая-то неприятность. Коля вошел в дверь без стука, с чемоданчиком и клеткой.
– Что с тобой? – Он подошел к Коле, и тот вдруг уткнулся ему в грудь и заплакал, как маленький. – Ну, ну, – сказал Сергей Алексеевич. – Ты ведь не девчонка. – Взял у него чемоданчик и клетку и усадил на стул. Рассказывай… Рассказывай. Сразу легче станет.
– Я вам говорил про сон. Что у меня отец не родной. Так это правда. Юрка сказал.
– Только и всего? – сказал Сергей Алексеевич. – И ты из-за этого так раскис! Что значит не родной? Он тебя любит, считает своим сыном…
– Ничего он меня не любит, – сказал Коля. – Иначе не врал бы.
– Ну, и куда же ты собрался? – спросил Сергей Алексеевич.
– В интернат… куда же… – сказал Коля. – Если не откажете, то я хотел бы в Москву, в Суворовское. Напишете письмо?
– Напишу. Давай только так. Завтра поговоришь с ними – и в дорогу.
– Нет, – сказал Коля.
– Он же тебя любит, как родного, – сказал Сергей Алексеевич. – Я уверен.
Но не так-то легко было пробиться к сердцу и разуму Коли и убедить его. Он ожесточился и не хотел ничего слышать.
– Мне их жалость не нужна. – Коля встал. – Напишете письмо?
– Напишу, напишу. Вот сейчас допьем чай, и напишу, – сказал Сергей Алексеевич. – Или вот что… Завтра уедем вместе.
– Правда? – радостно спросил Коля.
– Правда. – Сергей Алексеевич подумал, что совсем неплохо, что Коля будет учиться в Москве. Он сможет навещать его, и все будет прекрасно. Но в следующий момент он вспомнил о его родителях, и ему стало стыдно. Тихо, собираясь с мыслями, как правильнее поступить, добавил: – А все-таки ты похож на Витьку… Он тоже не любил, когда его жалели… Только он был веселый… – Вспышка радости, возникшая от возможности увезти Колю в Москву, прошла, и теперь он весь растворился в желании помочь мальчику. – А ты нос повесил. А у Витьки жизнь была трудной, без матери рос.
– А Лусия? – спросил Коля. Он был по-прежнему возбужден, но предложение Сергея Алексеевича уехать вместе слегка взбодрило его.
Сергей Алексеевич промолчал: так неожиданно они подобрались к Лусии. Неужели настал и этот час? А зачем, собственно, ему отвечать на Колин вопрос? Лучше промолчать. Но слова уже рвались из него.
Он помнил этот день, еще один счастливый в его жизни, и в Витькиной тоже, и у Лусии. Только кончился он плохо. Он помнил это двухместное купе поезда и настольную лампу под абажуром, которую Лусия прикрыла платком, чтобы свет не мешал Витьке спать.
А Витька совсем и не спал, притворялся, прошептал, будто во сне, «мама» в тот момент, когда Лусия поправляла на нем одеяло. Конечно, он не спал, просто так ему было легче назвать ее мамой.
«Что он сказал?» – спросила Лусия, хотя все слышала сама.
«Ма-ма», – сказал он.
Потом дверь в их купе открылась, и вошли пограничники. Лейтенант и старшина. Он встретил через несколько лет этого лейтенанта на фронте: храбрый был лейтенант, но он не смог преодолеть своей антипатии к нему и перевел его в другую часть.
«Извините, товарищ комбриг, – сказал лейтенант. – Проверка документов».
Он достал свои документы и протянул лейтенанту.
«Разве эта территория входит в пограничную зону?» – спросил он.
«Да, – ответил лейтенант. – Со вчерашнего дня», – и протянул ему документы.
«Это мои», – кивнул он на Витьку и Лусию.
Лейтенант повернулся к Лусии и сказал:
«Ваши документы?»
Лусия не поняла, что у нее требовали, и повернулась к нему. Тогда он достал из кармана разрешение Лусии на въезд в Советский Союз и отдал лейтенанту.
«Пока это ее паспорт, – попробовал он пошутить и даже улыбнулся лейтенанту, чтобы задобрить его. – Она из Испании. Я беру всю ответственность на себя».
«Извините, товарищ комбриг, – сказал он ему. – Без специального разрешения пропустить в запретную зону не имею права. – Отдал честь и вышел в коридор. – Старшина, – обратился он к пограничнику, который сопровождал его, – проводите гражданку в комендатуру».
Он знал, что просить лейтенанта бессмысленно, но все же угрожающе произнес:
«Ну что ж, поговорим в комендатуре», – и стал быстро застегивать пуговицы на гимнастерке.
Потом они шли длинным спящим поездом. Впереди лейтенант, за ним Лусия, затем старшина. А за ними он; каждый раз, когда Лусия оглядывалась, он махал ей рукой: я здесь, я тебя не покину.
Они шли бесконечно длинными вагонами, где плакали дети, разговаривали шепотом в темноте мужчины, а в проходах стояли влюбленные парочки – жизнь шла своим чередом. Они вышли на перрон, а поезд тронулся. Это было неожиданно, он совсем забыл про поезд и про Витьку. Он впрыгнул на ходу на подножку вагона и еще раз на секунду поймал белую точку костюма Лусии.
– Сергей Алексеевич! – окликнул Коля.
Тот поднял глаза. Странно, он не заметил, как замолчал, и не знал, что он рассказал Коле, а что просто вспомнил.
– На следующей станции мы с Витькой сошли, – сказал Сергей Алексеевич, – заехали за Лусией и вернулись обратно.
Целую неделю жили на чемоданах… Отправили телеграмму в Москву и ждали, когда Лусии дадут советское гражданство. Чтобы они могли пожениться и жить, как все люди.
Сергей Алексеевич поймал себя на мысли, что он все время уходит от главного. Ему бы рассказать Коле, как он потерял Лусию, а он рассказывал и рассказывал ее печальную историю, просто бил на жалость. Он стал сам себе противен и окончательно замолчал.
Лусия тихо подошла к нему и прижалась щекой к его щеке. «Ой, колючий, сказала она. – Неласковый».
Сергей Алексеевич помнил, что тогда он действительно не брился недели две, а борода у него была жесткой. Но теперь его по-другому больно ударили ее слова. И правда, он был тогда с нею «колючим и неласковым».
– А что с ней было потом? – спросил Коля.
– Потом?.. Случилась эта история с Витькой. Кто-то пустил слушок по военному городку, что Лусии не дают гражданства, и начали придумывать, почему не дают. А ребята наслушались этих разговоров и сказали Витьке, что, может быть, Лусия фашистка.
– А он что? – спросил Коля.
– Подрался, – ответил Сергей Алексеевич.
Он недавно был в этом городке: их дом сохранился после войны. И он побывал в своей квартире – хозяева оказались хорошие люди – и подошел к окну, из которого он тогда увидел бегущего Витьку и услышал крики ребят, преследующих его.
Витька бежал в расстегнутом пальто, без шапки, с галстуком в руке, а за ним гнались мальчишки. Витька вбежал в подъезд, и он пошел открыть ему дверь. Мальчишки настигли Витьку на лестничной площадке и, когда он появился в дверях, торопливо бросились вниз.
Витька поднял сумку и вошел следом за ним в комнату. Под глазом у него был синяк, нос разбит в кровь и полуоторван воротник пальто.
«Что это еще за номера?» – строго спросил он.
«Они говорят…» – Витька замолчал и покосился на Лусию.
«Что они говорят?»
«Галстук хотели у меня отнять». – Витька не подозревал ее в недобром, он ей верил.
Тогда он увез их в Москву.
– …Сергей Алексеевич, вы устали? – сказал Коля. – Ложитесь.
– Да нет… – ответил Сергей Алексеевич. – Вот видишь, у Витьки тоже была не родная мама. Ну и что из этого? Он же ее любил, и она его любила.
Непонятно было, для кого он произнес эти слова: для себя или для Коли. Конечно, больше для себя. Он знал, что Витька любил Лусию. Но разве он сам не любил, разве не боролся за нее?
Он тогда добрался до самого маршала. Они были старые знакомые, вместе служили в гражданскую в Первой Конной.
«Виктор ее мамой называет, – сказал он. – А по-вашему выходит, что она чуть ли не враг какой-то…»
«Ты, пожалуйста, не передергивай. Никто ее врагом не считает, – ответил маршал. – Но пока у нее нет паспорта, ей не разрешат въезд в погранзону. Ты и сам отлично понимаешь…»
«Эта волокита может тянуться год», – сказал он.
«Не мальчишка… Виски вон седые… А рассуждаешь, как будто пороха не нюхал… – сказал маршал. – Мне докладывали, никто из испанских товарищей ее не помнит… Откуда она, кто?»
«А моя рекомендация? Она пришла к нам добровольно в самое трудное время».
«Твоя рекомендация продиктована личными отношениями, – сказал маршал. А нам нужны факты, доказательства… Ведь мы ей советское гражданство даем, да еще в жены определяем к командиру пограничной дивизии».
«Тогда и меня здесь оставляйте», – сказал он.
«Комбриг Князев, приказываю вам немедленно выехать к месту назначения».
Он ничего не ответил маршалу и повернулся, чтобы уйти.
«Ну что ж, – сказал маршал. – Пишите рапорт об увольнении из армии».
– Но вы не бросили ее?
– Я не мог уйти из армии… – жестко сказал Сергей Алексеевич. – А потом началась война.
И наступила абсолютная тишина. Сергей Алексеевич высказался до конца. А Коля, вернувшись к своим собственным печалям, сжавшись в комочек, сидел на стуле. Потом ему стало страшно, потому что он почувствовал неприязнь к Сергею Алексеевичу.
А Сергей Алексеевич все еще стоял в кабинете маршала.
«Меня? Из армии?!»
«Не о себе думай, – сказал маршал. – О стране, которая окружена врагами».
А потом он шел по длинному-длинному коридору, такому длинному, что ему не было конца, и это было его единственным минутным успокоением, потому что на улице его ждали Лусия и Витька. Он шел так медленно, что на него даже оглядывались, но все же дошел. Лусия его ни о чем не спросила, по глазам поняла.
Они стояли около поезда Москва – Гродно, того самого поезда, на котором совсем недавно ехали втроем; говорили друг другу слова, точно расставались на несколько дней.
«Ты береги себя, – сказала Лусия. – И Витьку».
«Как только получишь паспорт, сразу телеграфируй… А я со своей стороны… Может быть, я уйду из армии…»
Она покачала головой.
«Сейчас приду домой… Сварю обед… на завтра… Для одной это недолго… Как тебе моя новая прическа? – с трудом произнесла Лусия. Хороша куколка?» – Она почти плакала и повернулась, чтобы уйти, но столкнулась с Витькой.
Они ели эскимо, которое принес Витька. Самое горькое мороженое в их жизни.
«Можно, я останусь с Лусией?» – вдруг сказал Витька.
Из порта донесся удар колокола. Вот так же тогда звякнул тоскливо колокол отправления. Лусия стояла на перроне и плакала. Сергей Алексеевич помнил каждое ее движение, каждый жест: вот она подняла руку, потом тыльной стороной ладони смахнула слезу… Уже чужая для него, недоступно далекая, хотя их разделяло всего несколько метров. Но это было непреодолимое расстояние. Это было уже не просто расстояние, а время, которое нельзя было остановить, так же как нельзя вернуть вчерашний день. И в этом времени была война, в которой он потерял след Лусии навсегда.
Сергей Алексеевич подошел к ширме, ему показалось, что Коля не спит.
– Коля! – окликнул он.
Мальчик не отозвался. «Надо будет завтра как-то уговорить его встретиться с родителями», – подумал Сергей Алексеевич. Затем погасил свет и тихо опустился на кровать. Он ощущал непривычную легкость, словно тело его лишилось веса.
Егоровна
Сергей Алексеевич спал, а может быть, просто дремал, он давно уже забыл то состояние, которое называется глубоким сном, и поэтому от первого робкого стука в окно проснулся. Около окна в темноте проглядывались тетя Катя и еще двое: мужчина и женщина. Сергей Алексеевич сразу догадался, что приехали долгожданные Колины родители, и сказал:
– У меня… Заходите.
Когда они вошли в комнату, освещенную тревожным ночным светом, Сергей Алексеевич долго и внимательно их рассматривал, до неприличия долго, но ему было так интересно с ними встретиться, они ведь уже заняли прочное место в его воображении. Мать Коли была небольшого роста, крепко сбитая, круглолицая женщина, он уловил в ее лице только отдаленное сходство с мальчиком. Признаться, Сергею Алексеевичу хотелось, чтобы мать у Коли была красивее. Ему всегда нравились красивые женщины, для него красота – как талант или как храбрость.
– Мы Колины родители, – сказала она. – С ним ничего не случилось?
– Успокойтесь, – сказал Сергей Алексеевич. – Все в порядке.
– Правда? – Она была нелепо одета для этого часа и времени года. На ней была кокетливая шляпка из фетра и куртка с искусственным меховым воротничком. – Он не заболел?..
Ну, а отец Коли бесспорно понравился ему: какой он был здоровый, широкоплечий, естественный, располагающий к себе.
– Доброй ночи, – тихо сказал Костылев. – Извините, что побеспокоили.
– Рад познакомиться, – сказал Сергей Алексеевич шепотом. – Мне много про вас рассказывал Коля, – и поздоровался с Костылевым за руку.
Рукопожатие для Сергея Алексеевича – это не пустяк, а начало познания человека. Он всегда помнил людей по рукопожатиям. Помнил, у кого были безвольные мягкие руки, словно лишенные костей и мышц, у кого были холодные, у кого мокрые: почему-то это оставалось в нем, и он всегда, вспоминая людей, вспоминал их руки. Он даже по рукам старался определить настроение людей. Например, перед тем как отправлять в разведку солдат и офицеров, он обязательно обменивался с ними рукопожатием. Если кто-нибудь из них трусил, он узнавал по руке и, никому ничего не говоря, не пускал этого человека в разведку.
У Костылева была крепкая небольшая теплая ладонь. «Как у Коли», подумал Сергей Алексеевич.
– И мне про вас сын писал. – Костылев улыбнулся.
И по тому, с какой интонацией он произнес слово «сын», Сергею Алексеевичу стало ясно, что Коля дорог этому человеку. А мальчишка бог знает что придумал и что перестрадал.
– Он там, за ширмой, – сказал Сергей Алексеевич и увидел, как порывисто, нетерпеливо бросился туда Костылев.
А в следующую секунду произошло что-то непонятное. Сергей Алексеевич еще продолжал улыбаться, готовясь услышать радостные слова встречи, и сам радовался за Колю, как гости с растерянными лицами появились перед ним.
– Его там нет, – испуганно сказала Костылева.
Еще никто ничего не понимал, и Сергей Алексеевич, точно не веря, быстро зашел за ширму и увидел пустую кровать.
– Может быть, он вышел? – сказал Сергей Алексеевич, бросил гостей и скрылся за дверью.
– Ко-ля! – донесся со двора голос Сергея Алексеевича. – Ко-о-ля! Легкий сквозняк прошел от окна к двери.
Сергей Алексеевич вернулся в комнату и остановился в проеме дверей, почти подпирая косяк, и всем стало понятно, что Коли в доме нет.
– Куда он мог уйти?
– Это мы хотели узнать у вас, – сказала Костылева.
– Он пришел ко мне в девять часов, – сказал Сергей Алексеевич, – и…
– Неважно, когда он пришел, – нервно перебила его Костылева. – Важно узнать, куда он ушел… И почему?! Я хочу наконец понять, что с ним случилось.
Они ждали от него ответа, им этот старик казался странным, и Костылева еще больше испугалась за Колю и тихо заплакала.
Никто по-прежнему не садился, и сам Сергей Алексеевич, чувствуя, что тоска широкой волной входит в его сердце, стоял как на часах.
– Он вам ничего такого не говорил? – спросил Костылев.
– Нет, – нерешительно ответил Сергей Алексеевич.
– Нужно же случиться такому! А все… было хорошо. – Костылева провела рукой по лицу, сняла шляпку и смяла ее.
– Пойдем домой, – мягко сказала тетя Катя, подошла к сестре и взяла ее под руку. – Может, он вернулся и ждет нас. – И добавила: – Поди узнай, что у них в голове, у этих мальчишек.
Сергей Алексеевич, оставшись один, не лег спать – какой там сон, не выходил из головы Коля. Ему было понятно, почему мальчик ушел от родителей правда об отце поразила его своей неожиданностью, – а вот почему Коля ушел от него? Ночью, потихоньку, не попрощавшись… К сожалению, он знал, как надо ответить на этот вопрос.
Напрасно тетя Катя сказала: «Неизвестно, что у них в голове, у этих мальчишек». Еще как известно! Ясно, почему он ушел от него, еще как ясно. Черным по белому писано на чистеньком листе бумаги, без единой помарочки. Коля разочаровался в нем, не простил истории с Лусией. И самое страшное, что, может быть, он прав: может быть, именно мальчишки со своими наивными представлениями о жизни и есть единственно правые.
Сергей Алексеевич подумал, что он как дерево без корней: вот-вот упадет. Но затем все его нутро ощетинилось против этой мысли. А как же тогда вся его жизнь и борьба? Неужто насмарку? А пот и кровь, которыми он обильно полил эту землю? А Витькина жизнь, которая для него во сто крат дороже, чем собственные пот и кровь? Это ли не корни его?
Сергей Алексеевич перестал казнить себя, но рассердился, что Коля его не понял.
«Ну и не надо, – подумал Сергей Алексеевич. – Сейчас соберу вещички, и вон отсюда».
Они сидели на опушке и ждали Витьку.
Между лесом и деревней проходило шоссе, а дальше у деревни мирно паслись коровы. «Значит, здесь еще не было немцев, – подумал он тогда, – раз деревенские не попрятали коров». У него стало легче на сердце, и он спокойно поднес бинокль к глазам. Нет, Витьки еще не было видно. Никого не было видно, только одиноко возвышалась над всем колокольня старой церкви.
Потом томительное и напряженное ожидание нарушил треск моторов, и по шоссе промчалось несколько мотоциклов с колясками, в которых сидели немцы.
Ему сразу стало жарко, и, прежде чем он увидел фигуру часового, появившегося на колокольне, и прежде чем услышал мощный гул приближающейся танковой колонны, он уже понял, что случилось страшное.
Когда на околицу деревни вышел Витька, то одновременно из-за поворота шоссе выполз головной немецкий танк, затем второй, третий, четвертый… Танки скрежетали и лязгали гусеницами, скрипели лебедками, на которых тащились пушки, и было что-то неотвратимо угрожающее в их железном лязге.
Он следил за Витькой в бинокль до тех пор, пока танки не поползли между ними.
Немцы сидели на танках, шли рядом с ними. Иногда они что-то кричали друг другу, потом один из них дал очередь из автомата, и все засмеялись. А он ловил Витьку в просветы между танками, и его фигурка скрещивалась с фигурами немцев.
А выше, над всем этим, на церковной колокольне стоял немецкий солдат с автоматом.
Потом танковая колонна скрылась в деревне, и он снова увидел Витьку. Тот гнал впереди себя корову и, озираясь, шел к лесу. Нельзя было этого делать: Витька привлек внимание дозорного на колокольне.
А он сидел в укрытии и не мог защитить сына от надвигающейся смертельной опасности. Как он тогда не умер от напряжения и потом не умер от горя? От злости и ненависти, видно, к ним, к врагам, и от странной привычки, что жизнь его не принадлежала ему.
Витька гнал корову впереди себя для отвода глаз. А может быть – эта мысль пришла ему впервые и поразила своей простотой, – он думал тогда о голодных ребятишках из их отряда и решил пригнать корову, чтобы напоить свежим молоком. Ведь он был такой.
Он взял у кого-то винтовку, чтобы убрать часового с колокольни, надо было выиграть какие-нибудь две-три минуты. Прицелился и понял, что это бессмысленно, – не достать немца с такого расстояния.
Никто, никто во всем мире не мог тогда помочь ему и остановить жестокость и неотвратимость войны хотя бы на две-три минуты.
Дальше Сергей Алексеевич не мог вспоминать, это была та последняя черта, которую он еще ни разу сознательно не переступал.
Сергей Алексеевич подошел к окну, открыл его и почувствовал легкое дуновение морского ветерка. Усилием воли он заставил себя подумать о другом.
Он вспомнил Лусию. Это было перед их поездкой на границу. Он ждал ее около парикмахерской. И вдруг она вышла в светлом костюме, подстриженная под горшок, как стриглись русские мужики в старину. Он даже испугался, так она была ему дорога.
«Теперь я готова к путешествию», – сказала Лусия.
И снова в глазницы бинокля он видел Витьку, и большую добрую морду коровы, и двух бабочек-капустниц, порхающих над ними, и немца, самого жестокого немца, который только был на этой войне.
Сергей Алексеевич отвернулся от окна и зажег свет, он хотел отделаться от утренней серости. В это время без стука, заспанная и простоволосая, влетела в комнату хозяйка, Егоровна.
– Ишь, чего выдумал! – закричала она. – Электричество палить зря! Подошла к выключателю и решительно погасила свет, потом на ощупь, в темноте, стала пробираться к дверям, ударилась ногой о стул, чертыхнулась и уже у дверей сказала: – За свет дополнительная плата полагается, если так…
– А я уезжаю сейчас, – вдруг сказал Сергей Алексеевич и понял точно, что теперь-то он уедет.
Егоровна зажгла свет:
– Уезжаешь… Далеко ли?
– К сыну, – ответил Сергей Алексеевич.
– К сыну? – удивилась Егоровна. – А говорил, что бобыль, что один на всем свете.
Сергей Алексеевич ничего не ответил – да и что он мог ответить этой женщине, – достал из-под кровати чемодан и начал собираться.
– Соврал, значит, – сказала Егоровна. – Все мы одним миром мазаны. Прикинулся бедненьким, чтобы поменьше взяла с тебя, жалеючи.
Слова эти больно ударили Сергея Алексеевича и вновь вернули его к Витьке. Он, как-то даже не понимая, что делает, вдруг восстановил в памяти, впервые за все годы вполне сознательно, день похорон сына.
Он стоял впереди всех. А четверо красноармейцев опускали гроб в могилу. За ним стояли женщины и дети. Потом маленькая девочка, дочь Васильевой, вышла вперед и положила на свежий холмик букет полевых цветов.
Потом он повернулся, чтобы уйти, и все расступились, и он увидел пленного немца. Глаза их встретились. Не помня себя, вытащил из кармана пистолет, Витькин пистолет, и поднял его, чтобы выстрелить в немца. И все кругом молчали, а немец закричал и упал на колени, и он бы все равно, вероятно, его убил, если бы не заплакал какой-то ребенок.
Он увидел себя со стороны и отчетливо представил, как дети, которые его окружают, вырастут и всю жизнь будут помнить про это. Другое дело – война с врагом, а тут без надобности, по злости, и все это прозвучало в нем так отчетливо, что он спрятал пистолет и ушел.
– С тебя десять рубликов, – сказала Егоровна.
Он хотел возмутиться, какие еще десять рубликов, он сполна рассчитался, когда собирался уезжать до болезни. Но Сергею Алексеевичу хотелось побыстрее от нее отделаться, и он достал деньги и пересчитал: их у него оказалось больше трехсот. Двести положил на стол и пододвинул Егоровне.
– Что это? – не поняла Егоровна.
– Вам, – ответил Сергей Алексеевич.
– С чего это вдруг? – сказала она.
– Как солдатской вдове, – ответил Сергей Алексеевич. – Мы ведь с ним вместе воевали, за одно святое дело. – Он кивнул на фотографию. – Вот и возьми от меня помощь. Только одна просьба: фотографию эту подари мне.
Егоровна как-то странно промолчала и покосилась на стопочку денег. А Сергей Алексеевич тем временем снял фотографию со стены и спрятал в чемодан. На стене остался темный квадрат невыцветших обоев.
– А что же я теперь здесь повешу? Заместо этой?
– Не знаю. Вам видней.
– Ну-ка, повесь! – вдруг сказала Егоровна. – Фотографию верни-ка на место! – и бросилась к чемодану Сергея Алексеевича, оттолкнула его и выхватила фотографию.
– Ну что ты, право, – сказал Сергей Алексеевич, снова переходя на «ты». – Если бы я знал… Пожалуйста…
– Тьфу на твои поганые деньги! – закричала Егоровна, не слушая его, и она в самом деле в сердцах, остервенело плюнула. – Старый черт ты в ступе, а не человек.
– Поверь мне, – старался утихомирить ее Сергей Алексеевич, – если бы я знал, что она тебе дорога, я бы никогда…
– Люди, люди, вы послушайте, что придумал старый! – кричала Егоровна. Прошлое мое решил купить! А что же я скажу соседкам, таким же вдовам, как я? Об этом ты подумал? Опозорить решил. А ну, вон отсюдова, чтоб ни духу твоего, ни запаха! – Она угрожающе наступала на Сергея Алексеевича, но, видя, что он не собирается уходить и лицо у него серьезное, сникла и села на стул, не выпуская фотографию из рук.
«Значит, помнит», – подумал Сергей Алексеевич. А для него это было самое главное. «Никто никого не забыл. Прав был Коля». И ему стало жалко, что здесь нет его, он бы понял и оценил все это. И еще ему было хорошо, что, обидев Егоровну, он узнал ее по-настоящему.
– Извини, Егоровна. Виноват я перед тобой, – сказал он. – Просто я привык к твоему солдату.
Егоровна не ответила.
– Мне однажды сон приснился, – начал Сергей Алексеевич. – Про твоего мужа.
– Совсем спятил! – Егоровна подняла на него глаза. – Ты ведь никогда и не знал его в живых.
– Входит, значит, он в дверь – только он постарше был, чем на фотографии, – и не видит меня. Постоял, оглядывая комнату. Потом сел за стол, рукой провел по скатерти и тут заметил меня… «Значит, все же вернулся», – сказал я ему. «А ты кто такой?» – вместо ответа спросил он. «Это я, Приходько, твой комдив, неужели не узнал?» – «Товарищ генерал, сказал он. – Вот это встреча!» – «Знаменитый Приходько, – говорю, – который прошел всю войну». – «А все потому, – отвечает он, – что всегда имел в запасе сухие портянки и кое-какую жратву…» Извинился он передо мной, что сразу не узнал, снял вещевой мешок, достал кусок сала, луковицу, банку консервов и флягу. Потом хотел взять стопки и увидел новенький сервант. Вот этот. – Сергей Алексеевич указал на сервант. – «Чудеса в решете», – сказал твой муженек, отодвинул стекло и заглянул внутрь: нет ли там, позади нарядных рюмок, его стопок. Но не нашел и кликнул: «Машенька!» Ты не отозвалась, и он не стал больше звать. Я ему говорю: «А хозяйка здесь Егоровна».
Егоровна заплакала, хотя крепилась изо всех сил, но кивнула Сергею Алексеевичу: мол, не останавливайся, рассказывай, рассказывай.
– «По отчеству Егоровна, – ответил мне солдат и добавил с нежностью: А зовут ее Машенькой». Выпили мы с ним, закусили, а потом он меня и спросил: «Вот теперь вы мне скажите по совести, товарищ генерал, забыла меня жинка или не забыла?» – «Как же, – отвечаю, – забыла, когда на самом видном месте твоя фотография», – и показываю ему на карточку. «Это хорошо, что не забыла, – сказал он. – Это для нас, для солдат, самое главное…»
Сергей Алексеевич замолчал, дальше ему рассказывать сон не хотелось, потому что тогда надо было бы говорить про Витьку.
– Ну, а дальше-то, дальше, – попросила Егоровна.
– Дальше там уже про меня.
– Жалко, – с печалью сказала Егоровна. – Он сейчас передо мной как живехонький. Спасибо тебе.
– За что же спасибо? – удивился Сергей Алексеевич.
– За него. Что вспомнил. И меня, дуру, к нему повернул. А стопок у нас и не было. Не успели купить. – Егоровна вдруг захлебнулась от слез.
Сергей Алексеевич сидел молча, не шелохнувшись, он понимал и чувствовал чужое горе.
– Пойду за такси, – сказал Сергей Алексеевич.
– Уезжаешь все-таки. – Егоровна повернула к нему высохшие глаза: – Она икона моя, извини, не могу отдать.
– Что ты, что ты! – замахал рукой Сергей Алексеевич. – Тоже выдумала!
– Так и вправду у тебя есть сынок? – спросила Егоровна.
– Есть, есть, – ответил Сергей Алексеевич. – Сынок. Ему сейчас было бы сорок три.
Егоровна выхватила из его слов «сейчас было бы», но ничего больше не спросила. А он, какой-то полегчавший, невероятно строгий и собранный, будто выдержал какое-то испытание, вышел из дому.
Послужной список
По дороге за такси он все же решил зайти к Костылевым и узнать, не вернулся ли Коля.
Сергей Алексеевич застал Костылевых дома. Они сидели в разных углах комнаты, как на похоронах. Когда он вошел, все повернули головы в его сторону с надеждой.
В комнате среди взрослых был и Юрка. Как побитый щенок, со щенячьими глазами.
– Не вернулся? – на всякий случай спросил он и, не получив ответа, стоя у дверей, сказал: – Я вам давеча… – замолчал, с изумлением поймав себя на том, что в последнее время часто употреблял слова, которыми говорил отец, и обрадовался, что стал совсем простым стариком. – Я вам давеча, – повторил он, – не сказал правду… Почему от вас ушел сын… Но сегодня я уезжаю и считаю своим долгом поставить вас в известность. Если бы он вернулся, я бы никогда… А так считаю своим долгом… – И продолжал звонким, надтреснувшим голосом: – Ваш сын ушел, так как узнал, что у него неродной отец.
Этого они не ожидали. Чего угодно, только не этого.
– Кто же ему сказал? – спросила наконец Костылева.
Сергей Алексеевич молча посмотрел на Юрку: он считал, что каждый должен понести ту кару, которую заслужил, и не хотел выгораживать Юрку.
– Юрий, – сказал Сергей Алексеевич, – ты разрешишь мне вместо тебя доложить?
Юрка неловко сполз со стула и опустил голову.
– Ты? – в гневе произнесла тетя Катя.
– А куда он уехал? – спросил Костылев.
– Думаю, в интернат, – ответил Сергей Алексеевич.
– Зачем, зачем ты это сделал? – закричала Костылева. – Предатель!
А тетя Катя подошла к сыну и дала ему пощечину.
Сергей же Алексеевич молча повернулся и вышел из комнаты. На улице, садясь в такси, он плохо подумал о себе. И если даже Коля разочаровался в нем, то имел ли право он, человек умудренный, бросить мальчишку в такой момент да еще возвести на него напрасную обиду, что он-де его не понял. Сергей Алексеевич тяжело вздохнул и окончательно захлебнулся от гнева и осуждения самого себя: как он был жесток и эгоистичен, занят лишь собой, и упустил из виду живое течение жизни, которое всегда существует и всегда важнее всего, что бы там ни было. «Даже важнее, чем воспоминания о Витьке, вдруг в смятении и искренности подумал Сергей Алексеевич. – И это не измена, а просто жизнь».
– Вы знаете, где находится интернат под Ялтой? – спросил Сергей Алексеевич у шофера, и когда тот ответил утвердительно, сказал: – Мы сначала туда, а потом уже на аэродром, – и вышел за чемоданом.
В комнате он открыл чемодан и достал с самого дна военную форму. Он уже давно не носил форму, с тех пор как вышел в отставку. Не носил, а всегда таскал с собой. А теперь она сослужит ему еще одну службу. Переоделся, подошел к зеркалу. Форма была помята, и Сергей Алексеевич попытался руками разгладить ее: не очень-то получилось. Подошел к графину, побрызгал воду на руки и влажными руками принялся разглаживать китель и брюки.
Снова посмотрел в зеркало: вроде бы получше. Подровнял ряды орденских планок. Потом неожиданно вытянулся по доброй старой военной манере и отдал себе честь. Совсем неплохо. Пусть это будет в радость Коле. Он вскинул голову, как молоденький лейтенант, который шел в первый раз представляться по начальству. Неплохо, совсем неплохо. Вот только форма великовата. Усох он за последние годы.
В окно донесся нетерпеливый сигнал такси.
Сергей Алексеевич кликнул Егоровну, но, не дождавшись ответа, пододвинул стопочку денег в центр стола. В последний раз оглядел комнату, почтительно козырнул солдату, взял палку, чемодан, и тут его взгляд упал на клетку с кенаром.
Он опустил чемодан и открыл клетку, чтобы взять птицу, но та вылетела и села на ширму.
– Вот дурак! – в сердцах сказал Сергей Алексеевич, взял чемодан и вышел.
При выезде из города Сергей Алексеевич попросил шофера остановиться и купил в магазине самый большой торт.
В открытое окно магазина со стороны пионерского лагеря ворвались звуки радио: «Говорит радиостанция пионерского лагеря. («Проснулись», – подумал Сергей Алексеевич.) У нас состоялась встреча с ветераном гражданской и Отечественной войн Сергеем Алексеевичем Князевым…»
Сергей Алексеевич торопливо вышел из магазина, испугался, что по его лицу продавщица догадается, что ветеран – это и есть он. Пошел к такси твердым, военным шагом – есть еще порох в пороховницах. Правда, это было не так-то легко, сразу заныли старые раны. Но он не обращал на это внимания, шел и прислушивался, что он им там наболтал… Про батальон майора Шевцова, который принял на себя 22 июня первый удар врага на границе с бывшей Восточной Пруссией, остановил фашистов, перешел в контратаку и ворвался на территорию врага… «Но ведь это было, – подумал Сергей Алексеевич. – Жалко только, что все эти ребята и сам Шевцов погибли. Горячие головы». И Испания была… И штурм Кенигсберга… Все это чистая, чистая, святая правда.
Сергей Алексеевич снова сел в такси. Он хотел сказать шоферу свою обязательную фразу. Эту фразу он говорил всегда, когда садился в машину: «Вперед, только потихоньку, а то там дети».
Она уже мелькнула у него в сознании, но в следующий момент коробка с тортом выпала из рук.
Сергей Алексеевич приоткрыл глаза и подумал впервые: «Жалко, что я им рассказывал все про других, про других и ничего не вспомнил про себя…» И, как взрыв, как вспышка, у него возникло странное, может быть, последнее видение…
Он сам, еще почти мальчишка, в конноармейской форме стоит между двумя казаками на конях. Они пинают его ногами, перекидывая друг другу. Он падает, с трудом встает, и казаки летят на него с разных сторон, и каждый из них норовит его сбить первым… И он снова падает, по лицу течет кровь. «У, большевистская шкура!» – кричит один из них и замахивается плеткой.
«Что-то со мной не так», – мелькнуло в сознании Сергея Алексеевича, и над ним вместо казаков склонился вдруг Васька-банщик и цирковой наездник Тиссо.
…Через несколько минут приехала «скорая помощь», и Сергея Алексеевича перенесли в машину.
– Солдат, – сказала старушка, случайная прохожая.
– Тоже скажешь – солдат! Генерал он. Заслуженный генерал. Одних орденов добрый десяток… – тихо сказал шофер.
И машина уехала, и случайные свидетели разошлись.
А Коля был уже далеко от города. Он сидел в машине рядом со Здоровяком, который его подобрал в пути.
Здоровяк с семьей закончил свой отпуск и на собственном «Запорожце», нагруженном сверху всякой поклажей, возвращался домой.
– Между прочим, хотя твой дед и темнит… – начал старый разговор Здоровяк.
– Не дед он мне! – резко перебил его Коля.
– Пап, загадку, – потребовала дочь, прожевывая яблоко.
– Ну, раз публика настаивает… – Здоровяк подмигнул Коле. – «Сорок одежек, и все без застежек»… Считаю до де-ся-ти… Раз, два, три… четыре…
– Капуста, – мрачно произнесла жена.
– Зачем ты сказала, зачем! – возмутилась девочка. – Я сама хотела, сама!
– А кто? – вернулся к прерванному разговору Здоровяк и лениво зевнул.
– Никто, – неохотно ответил Коля.
– Я знаю, он из цирка, – сказал Здоровяк. – Я его мигом открыл. Подставной в публике.
– Не работал он в цирке никогда, – сказал Коля.
– Пап, загадку, – снова попросила девочка и угрожающе посмотрела на мать.
– «Не лает, не кусает, а в дом не пускает», – быстро проговорил Здоровяк.
– Замок! – с радостью произнесла девочка и закричала: – Я первая, я первая!..
– А где же он тогда работал, позвольте полюбопытствовать? – спросил Здоровяк.
– Военный он. В отставке.
– Может, даже генерал?
– Генерал, – повторил Коля.
– От инфантерии. – Здоровяк рассмеялся. – Артист. – Его толстые щеки, как два блюдца, висели под глазами и мелко дрожали от смеха. – Ты когда-нибудь видел живых генералов?
Коля отвернулся и промолчал. Ему стал неприятен этот человек, и он пожалел, что сел в машину.
– Умрешь со смеху! – не унимался Здоровяк. – Ты мне скажи его фамилию. Я всех генералов по фамилии знаю.
– Ну, если всех, – ответил Коля, – то Князев.
– Князев? – переспросил Здоровяк. – Откуда эту фамилию выудил? Откуда? Меня решил разыграть? Ростом не вышел… – Снова засмеялся и больно схватил Колю двумя пальцами за нос.
Коля открыл дверцу машины, чтобы выпрыгнуть на ходу. Здоровяк затормозил. Коля выскочил и побежал вперед по шоссе. Скоро ему стало жарко, рубашка прилипла к спине, но он продолжал бежать, словно хотел довести себя до изнеможения. Наконец он остановился, чтобы отдышаться. Незаметно оглянулся: машина стояла на прежнем месте – жаба с расплющенным носом.
Теперь он шел по прямой широкой магистрали. Внизу просыпалось море, и легкий туман стелился по воде и подымался в горы. Ему навстречу прошел полупустой троллейбус, и Коля проводил его глазами: может быть, в нем ехали родители. Он почему-то, как ни странно, подумал о них с нежностью. А потом еще больше: Коля поймал себя на мысли, что и про Сергея Алексеевича тоже думал с нежностью. «Вот еще, – разозлился он сам на себя. – Ни к чему это».
– Ты что, оглох, парень?
Рядом с ним стоял «Запорожец».
– Садись, – сказал Здоровяк и приветливо улыбнулся.
Коля, не останавливаясь, прошел дальше. Здоровяк вылез из машины и догнал его.
– Ну, ладно выламываться. Кому говорю, садись!
Коля не ответил.
– Ты что, шуток не понимаешь?.. – Он помялся. – Его случайно… зовут не Сергеем Алексеевичем?
– Сергеем Алексеевичем. А вы откуда знаете? – удивился Коля.
– Это мой командир дивизии, – тихо ответил Здоровяк. – Сколько лет мечтал его встретить, а встретил – и не узнал!
Они сели в машину и поехали дальше.
– Мария, слышишь? – сказал Здоровяк. – Помнишь, я тебе про него рассказывал? – Он посмотрел в зеркальце в увидел, что жена его и дочь, прислонившись друг к другу, спят. – Женщины ничего не понимают в военном деле. – И, склонившись к Коле, торопливо, шепотом стал рассказывать: – Мы тогда из окружения выходили, меня тяжело ранило. Тут каждый человек на учете, а меня надо на носилках нести. Вообще, думал, хана. А он внушил, что рана у меня не смертельная… Сам, понимаешь, на носилках нес.
– Сергей Алексеевич говорил мне, что я на его сына похож, – сказал Коля.
– Ты? – Здоровяк повернулся к нему и посмотрел на мальчика. – Ты похож на него, как я на китайского императора.
Коля не обиделся, но его ужаснула мысль, что, может быть, действительно он совсем не похож на Витьку и просто Сергей Алексеевич все это придумал. От одиночества, от тоски по сыну. А он ушел от него. И это его больно ударило и как-то по-новому повернуло к Сергею Алексеевичу, и он стал вспоминать все его рассказы, всю его жизнь и вдруг понял по-настоящему, по-взрослому, какая жестокая была у Сергея Алексеевича жизнь и как он был суров и беспощаден к себе.
И это его так всколыхнуло, что затмило собой все и неожиданно вернуло к отцу. Вспомнил он, как несколько лет назад отец его возил к деду в деревню. Они ездили вдвоем. И дед приказал ему прополоть грядку с морковью, а сам куда-то ушел. А он не хотел полоть, скучно было ему и жарко, и тогда отец прополол грядку вместо него. А когда дед его похвалил, отец промолчал. И теперь Коля понял, что отцу очень хотелось, чтобы он понравился деду, поэтому и промолчал.
И как же он мог так жестоко поступить и по отношению к Сергею Алексеевичу, и к матери с отцом! Ему стало обидно до слез.
– А какой он был? – спросил Коля.
– Не знаю, – сказал Здоровяк. – Я с ним ни разу не разговаривал.
– А храбрый?
– Вел он себя как надо.
Они подъехали к бензоколонке и пристроились в очередь на заправку.
– Ты извини, – сказал Здоровяк. – Нам больше не по пути – я в обратную… Покаюсь перед Сергеем Алексеевичем.
Коля взял чемоданчик, вылез из машины и отошел в сторону. Он видел, как Здоровяк подогнал машину к бензоколонке, как вышел, а следом за ним вылезла его жена, и они о чем-то разговаривали. А у Коли вдруг стало хорошо на сердце и радостно от этой красоты, которая его окружала! И оттого, что он решил вернуться, и оттого, что он скоро, совсем скоро увидит своих родителей и Сергея Алексеевича. Он подхватился и бегом бросился обратно к Здоровяку.
– А-а-а, не уехал еще, – неохотно произнес Здоровяк. – Ну, садись, повезу дальше.
– Значит, вы не возвращаетесь? – в ужасе спросил Коля.
– Дочку укачало. – Он что-то хотел добавить, но махнул рукой: – Садись.
– Спасибо, – ответил Коля и с обидой в голосе добавил: – Сам доберусь.
– Ну, тогда прощай, – и протянул мальчику руку.
Но Коля прошел мимо его руки. Он еле сдержался, чтобы не заплакать. Только он подумал, как ему повезло, что на его пути встретился этот добрый, милый человек и они поедут обратно вместе, и вдруг… Он никак не мог понять, как же так получилось. Сам сказал, что возвращается, что всю жизнь мечтал встретиться с Сергеем Алексеевичем, и он, Коля, даже представил эту встречу. Никогда он этого не поймет, и никто не заставит его так вот, на ходу, предавать людей. Ведь сам говорил, что Сергей Алексеевич спас ему жизнь, на носилках нес. После смерти Витьки, легко ли?
Родители были ему так рады, что ни о чем не спросили. Только отец сказал: «Завтра у нас рыбалка. Я о ней полгода мечтал. Помнишь, как в прошлом году?» Коля хотел ответить, что в прошлом году рыбалка-то была неудачной, они ведь ничего не поймали, но вспомнил, как им тогда было весело вдвоем, и ничего не ответил. А мама не отпускала от себя весь день, и ему не удалось сбегать к Сергею Алексеевичу.
И попал он к нему только на следующий день.
Коля несмело постучался в дверь к Сергею Алексеевичу, он чувствовал за собой какую-то вину. Незнакомый голос разрешил ему войти. В комнате были двое молодых людей: мужчина сидел на кровати Сергея Алексеевича, а женщина распаковывала вещи. На стульях валялись платья, на полу – маска для плавания и ласты.
– А где… Сергей Алексеевич? – в сильном волнении спросил Коля.
– Значит, уехал, – ответил мужчина. – Ты не знаешь, где здесь хорошее купанье?
– Не знаю, – ответил Коля и вышел.
Сел в большом огорчении на лестничную ступеньку. Егоровна увидела его из окна и сказала:
– Он позавчера утром уехал.
– А мне он ничего не просил передать? – спросил Коля.
– Нет, – сказала Егоровна. – Торопился очень. – И, видя, что мальчик расстроен, добавила: – Подожди, – и протянула Коле два листка бумаги: один совсем маленький, а второй побольше. – Возьми на память.
Коля взял листки и пошел, читая их на ходу. На маленьком было напечатано:
«Уважаемый товарищ! Составляется фотоальбом участников гражданской войны, который будет храниться в Центральном музее Вооруженных Сил СССР. Просьба срочно прислать заказным письмом четыре фотокарточки размером 9x12 см, в генеральской форме и автобиографию, по адресу: Москва…»
А на большом четким почерком было написано:
«Послужной список Князева Сергея Алексеевича, ген.-лейтенанта в отставке.
Родился в семье каменотеса в 1900 году. В семье было девять детей.
В Советской Армии со дня ее основания.
В 1918 году служил в частях на Украине и участвовал в боях против немецких оккупантов и украинских националистов.
В 1920 году был ранен на польском фронте.
В 1921–25 годах служил в военных комендатурах и принимал участие в ликвидации бандитских шаек. Был ранен и по излечении направлен в Академию имени М. В. Фрунзе.
После окончания академии, с 1929 по 1936 год, командовал 81-м стрелковым полком.
В 1936 году уехал в Испанию. Принимал участие в боях под Мадридом. По возвращении на родину был награжден двумя орденами Красного Знамени.
В 1939 году был на Халхин-Голе тяжело ранен и пролежал в госпитале десять месяцев.
В 1940 году был уволен из армии по инвалидности, однако в дальнейшем был вновь зачислен в кадры и назначен командиром 33-й стрелковой дивизии, которая дислоцировалась на территории Литвы, на границе с Восточной Пруссией.
22 июня 1941 года вверенная мне дивизия вступила в бои с немецко-фашистскими армиями. В дальнейшем дивизия попала в крайне тяжелое положение, так как продержалась на границе более суток и была обойдена с флангов врагом. Будучи тяжело раненным, в окружении, 26 августа 1941 года попал в плен. Бежал из плена через четыре месяца…»
На этом послужной список Сергея Алексеевича обрывается… Коля перечитал его снова, им овладело какое-то лихорадочное состояние, и он просто не знал, что делать. Ему так необходимо было разыскать Сергея Алексеевича или хотя бы написать письмо и извиниться перед ним! Он бросился со всех ног к отцу, чтобы спросить, как это сделать. И горько, горько было ему, он бежал и плакал, потому что он устал и у него был трудный день. И все же ему было радостно, что у него в руках эти листки. Теперь уже никто не скажет, что Сергей Алексеевич выдумывал свои истории, как вчера мама, а всякий поймет, какой он замечательный человек.
Путешественник с багажом
1
В наш совхоз прислали одну путёвку в Артек. И вдруг её преподнесли мне. Для многих это было полной неожиданностью. Правда, слово «преподнесли» не совсем точно передаёт события, которые произошли из-за этого. Честно говоря, путёвку мне дали с боем: Нина Семёновна, наша старшая вожатая, считала, что я её не заслужил.
Она так и сказала: «Я считаю, что ты эту путёвку не заслужил, а некоторые думают, что ты её заслужил. Посмотрим, посмотрим…»
Не знаю, кого она засекретила под «некоторыми», но я-то уверен, что они абсолютно правы. Кто же тогда её заслужил, если не я, скажите мне, пожалуйста? Во-первых, я самый «старый» целинник во всей школе. Я приехал в совхоз, когда вместо всех этих домов стояли какие-нибудь три-четыре палатки.
Ух и поработали мы тогда, хотя нам было нелегко, особенно зимой! Осенью палатки насквозь продувались ветрами, а зимой их заносило снегом до самой макушки.
Да, да. Мне тогда было три года и пять месяцев, но я всё отлично помню, точно это случилось вчера. Такие вещи не забываются.
Ну, а во-вторых, я… в общем, самое главное – это во-первых!
Итак, я еду в Артек. По дороге домой, когда от радости, что я уезжаю, меня просто распирало, я встретил директора совхоза Николая Павловича Шерстнёва. Между прочим, он тоже живёт в совхозе с первых палаток.
Мы поздоровались, пожали друг другу руки. У Николая Павловича привычка с каждым встречным перекинуться словом, если есть свободная минута.
– Ну, как дела, Сева? – спросил он.
Сами по себе эти слова ничего не значили. Люди ведь часто встречаются и говорят: «Как дела?» А ответ их совсем не интересует. Из вежливости они спрашивают про дела, что ли? А у Шерстнёва это было совсем по-другому, он действительно хотел узнать, как мои дела.
– Неплохо, – ответил я. Неудобно было сразу выкладывать свою новость. У него впереди самая горячая работа: сенокос, подготовка к уборочной, а я еду отдыхать. Потом не выдержал и добавил: – Дали путёвку в Артек, не знаю, отказаться или нет? Сейчас из совхоза ни один человек не уезжает в отпуск, а я вдруг уеду.
– Не страшно, – сказал Шерстнёв. – В этом году мы справимся. А тебе надо, брат, подлечить свой тонзиллит. Будешь там горло полоскать морской водой и поправишься. Ну, бывай здоров!
– До свидания! – сказал я.
– Между прочим, держись в Артеке солидно, не подводи совхоз. Сам понимаешь, там ребята со всего Советского Союза и даже из-за границы, и если ты что-нибудь откомаришь, представляешь, какой шум пойдёт?
– Понимаю. – Было ясно, что он к чему-то клонит.
– Соберутся, например, пионеры на сбор, – продолжал он, – будут петь, танцевать, а ты вдруг замяукаешь по-кошачьи. Международный скандал.
– Это я ради матери придумал, вы же знаете, – ответил я. – Она не выносит, когда врут. А меня иногда так занесёт… И тогда, чтобы остановиться, я начинаю мяукать.
– Прогрессивный метод, – сказал Шерстнёв. – Ну, а удоду почему ты подражаешь?
– Господи, вот уж Нина Семёновна! – возмутился я. – И это она рассказала. Просто я изучаю птичьи голоса. Задумался на уроке и закричал, как удод. Несчастный случай.
По-моему, я здорово выкрутился, хотя никакие птичьи голоса я не изучал. Поспорил с ребятами, что закричу на уроке удодом, и закричал. Я хозяин своего слова.
– Ясно, – сказал Шерстнёв. – Только постарайся без несчастных случаев.
– Конечно, – ответил я. – А Нина Семёновна обиделась на меня. Она вообще обидчивая. Я у неё прощения просил – не прощает.
– А за что она так на тебя? – спросил Шерстнёв.
Я промолчал, не хотелось про это рассказывать, но он упрямо ждал и подозрительно поглядывал на меня.
– Ничего особенного, – сказал я. – Я её прозвал «Богиня Саваофа».
– Как, как? – переспросил Шерстнёв.
– Ну, в общем, верующие придумали себе бога Саваофа. Он у них один в трёх лицах: бог-отец, бог-сын и бог – святой дух. А Нина Семёновна тоже одна в трёх лицах: старшая вожатая – раз, учительница – два, главный редактор – три. Ну, я и прозвал её «Богиня Саваофа». Я ей говорю: «Простите, Нина Семёновна, не знаю, как у меня такое с языка сорвалось», а она голову отворачивает. Даже разговаривать на эту тему не желает.
– Строгая у вас Нина Семёновна, – сказал Шерстнёв.
– Строгая, – ответил я. – И ужас до чего обидчива.
С этим мы и разошлись. Шерстнёв пошёл в свою сторону, а я в свою.
Потом я оглянулся. Сам не знаю почему, потянуло меня оглянуться. У него была широкая, сутулая спина и длинные руки. И тут он тоже оглянулся. Обычно когда люди оглядываются одновременно, то они чувствуют себя неловко и сразу отворачиваются. А Николай Павлович и не подумал отворачиваться.
2
На сборе отряда, когда мне давали рекомендацию в Артек, меня изрядно пощипали: и ленивый, и разболтанный, и иронически относится к девочкам.
Надо же, какое слово придумали: «иронически». Так оскорбить человека только за то, что он одну девчонку назвал дохлой принцессой. И самое главное, что против слова «принцесса» никто не возражал. Их, видите ли, возмутило определение «дохлая».
Тут я решил вставить слово, надо было защищаться.
– Но ведь сейчас живых принцесс в Советском Союзе нет, – сказал я. Это шутка, литературный образ.
Все мальчишки засмеялись, девчонки возмущённо зашикали, а «Богиня Саваофа» сказала:
– Ты грубиян, Щеглов, но мы на тебя не обижаемся. Просто ты не понимаешь душевной тонкости человеческой натуры. О-чень, о-чень жаль.
Когда она произносила эти слова, то так выговаривала каждую букву, словно хотела, чтобы её «о-чень, о-чень жаль» перевоспитали меня в одно мгновение, чтобы я, как Иванушка-дурачок после купания в кипящем котле, сразу преобразился и сказал: «Дорогая Нина Семёновна, я больше никогда, никогда не буду вас огорчать, и вообще я никого не буду огорчать, я стану первым земным ангелом».
Наступила минута напряжённого молчания. Бывают такие напряжённые минуты, когда всё решается. Вот и сейчас наступила такая минута, и ребята задумались, стоит ли меня посылать в Артек.
«Так, так, – подумал я. – А кто лучше всех прочёл лекцию о международном положении, это они забыли? Забыли, как я им рассказал, что было время, когда пустыня Сахара была плодородной долиной? Они сначала смеялись. А я им сказал: смейтесь, смейтесь, только учёные нашли там на скалах рисунки древних людей, которые жили в Сахаре. Например, рисунок „Великий марсианский бог“. Представляете, не просто какой-то обыкновенный бог, а „марсианский“, потому что он нарисован в скафандре. Ну, вроде как наши космонавты. И, может быть, это совсем не бог, которого придумали жители Сахары, а марсианский космонавт. Может быть, он спустился к ним на корабле, а они по своей отсталости приняли его за бога и нарисовали на скале. Тут ребята прямо закачались от неожиданности. А потом три дня только и разговаривали про марсианского космонавта. Правда, какой-то скептик заметил, что всё это не имеет ни малейшего отношения к международному положению, что моя лекция не по правилам. А я ответил, что не люблю по правилам.
А разве не я работал на огородах в совхозе, четыре часа ползал на четвереньках среди этих проклятых полосатых огурцов? Причём добровольно! Хотя я самый отчаянный враг ручной работы».
А теперь об этом никто не вспоминал. Все сидели и молчали. Ну, ну, чего же вы молчите? Откажите мне в путёвке, раз вы решили, что я плохой человек. Откажите, если вы думаете, что я вам даю прозвища по злобе. А вы знаете, как я сам себя прозвал? «Трусливый заяц» и «Барон Мюнхаузен». Эти прозвища пообиднее, чем у вас. А они молчали. Нужно было что-то сказать, заплакать или ударить себя кулаком в грудь и дать честное слово, что я теперь буду хорошим. Ради Артека необходимо было это сделать, и потом, мне обязательно надо было попасть в Москву по личному делу.
– Раз так, – сказал я, – можете не посылать меня в Артек.
Несколько ребят подняли руки, чтобы выступить, но «Богиня Саваофа» никому не дала слова.
– Я думаю, что теперь Щеглов сможет критически оценить своё поведение. – Она улыбнулась. – А мы дадим ему рекомендацию.
– Правильно, правильно! – закричали ребята. – Дадим ему рекомендацию.
А когда мне написали рекомендацию, то там оказалось всё наоборот. Чёрным по белому было написано, что я дисциплинированный, находчивый пионер, добрый товарищ, прилежный ученик.
Я тогда говорю «Богине Саваофе»: чему же верить? То ли тому, что она говорила на сборе, то ли тому, что написано в рекомендации? А она отвечает: и там и там есть немного правды.
– А почему немного? – спросил я. – Говорили, на полуправде в коммунизм не въедешь, а сами…
Она вдруг разозлилась и сказала:
– Слушай, не морочь мне голову, сам прекрасно знаешь всё про себя!..
Действительно, это было так. Про себя я всё прекрасно знал. Только непонятно, зачем нужно было обсуждать меня на сборе и писать наоборот, если про меня всё ясно.
Помолчали. Я не хотел с ней заводиться, но никак не выходили из головы её слова, что у Меня нет сердечной теплоты к людям. Это меня мучило, и всё. Неужели она так на самом деле думает?
– Нина Семёновна, – выдавил наконец я. Не так легко это было спросить. – Нина Семёновна…
– Слушай, Щеглов, – перебила она, – шёл бы ты домой. Мешаешь мне работать.
Боже мой, какая работа! Она писала заметки для стенгазеты. Она писала все заметки сама, а потом ребята их переписывали.
Однажды она привлекла к этой важной работе и меня: поручила нарисовать цветными карандашами заголовки. А я взял и разрисовал все заметки. Когда она увидела, что я наделал, ей дурно стало. Она закричала, что это продуманный враждебный политический акт, что я нарочно сорвал выпуск стенной газеты.
Теперь она меня к газете близко не подпускала.
– Нина Семёновна, – я всё же решил довести разговор до конца, – вы тогда на сборе серьёзно сказали, что я бездушный человек или, может быть, пошутили? Просто меня воспитывали?
– Разумеется, серьёзно.
Ох, до чего она была деревянный человек, прямо мокрая деревяшка, ударишься об неё – и никакого отзвука! Она выводила большими буквами заголовок на газете: «Стенная печать – сильнейшее критическое оружие!»
– И ребята так про меня думают? – спросил я.
– Разумеется, – ответила она.
Мне захотелось сказать ей что-нибудь обидное, но я ничего не мог придумать. И тогда я издал такой клич удода, что ни одному настоящему удоду он и не снился никогда. «Богиня Саваофа» подскочила на стуле.
– Хулиганство! – сказала она. – Безотцовщина!..
Нина Семёновна прямо так и крикнула мне в лицо: «Безотцовщина!»
А я ничего ей не ответил и выскочил из комнаты. С улицы я заглянул в окно. «Богиня Саваофа» сидела в той же позе, писала заметки: наводила на всех критику. Я затарабанил по стеклу. Она посмотрела на меня и сделала страшное лицо: поджала губы и прищурила глаза. Но мне теперь было всё равно, меня ничего не пугало: ни её поджатые губы, ни прищуренные глаза. Я мог сам поджать губы и прищурить глаза.
Тогда она наконец оставила свои заметки, медленно подошла к окну и открыла его.
– А про ребят вы сказали неправду! – крикнул я. – Вы соврали!
– Что, что? – сказала она. Притворилась глухой или на самом деле не расслышала моих слов.
– Меня ребята уважают! – крикнул я. – Уважают, а вы, вы… вредная!
Я изо всех сил толкнул раму, и вдруг из рамы выскочило стекло. Оно ударило меня по голове и разбилось. Я повернулся и побежал.
– Щеглов, Щеглов! – закричала «Богиня Саваофа». – Сейчас же вернись! Я тебе приказываю, вернись!
Но я не стал возвращаться.
3
У меня нет отца. Это моё слабое место. Вернее, у меня есть отец, только он живёт в Москве. Именно поэтому «Богиня Саваофа» крикнула мне «безотцовщина»: мол, ничего хорошего не получается, когда отец живёт так далеко от сына. Действительно, ничего хорошего, если он в Москве, а я тут, в совхозе. Отсюда не закричишь: «Папа!» – и не позовёшь его на помощь.
Но разве можно бить человека по его слабому месту, как это сделала «Богиня Саваофа»?..
Когда-то мы все трое жили в Москве, а потом мать окончила институт, и мы приехали на целину. Мать стала работать в совхозе зоотехником, а отец шофёром. А потом он уехал обратно в Москву.
Дома мы об отце никогда не разговариваем. Года два назад поговорили и с тех пор молчим. Мы тогда в школе писали сочинение о родителях. А потом оказалось, что все ребята написали сочинения об отцах, а я – о матери. Учительница меня тогда даже похвалила. «Молодец, – говорит, – Щеглов, что написал о матери. А вы все, ребята, неправы. Ваши матери вместе с отцами трудятся в совхозе: и дома ставят, и на фермах работают, и в поле, а вы о них ни слова».
В общем, хотела она меня похвалить, а получилось наоборот: у меня от её похвалы испортилось настроение. Я вдруг подумал, что во всём нашем классе у меня одного нет отца.
В этот день я пришёл домой и спросил у матери о нём.
– Многие родители, – сказала она, – скрывают от детей правду. А я тебе всё скажу. Он был хвастун. Наобещает и ничего не сделает.
Мы сидели за столом. Я готовил уроки, а она штопала рукав моей рубашки: вечно они у меня на локтях протираются. Оба мы делали вид, что ведём совсем обыкновенный разговор.
– Я его стыдила, ругала, просила. Он обещал исправиться и не исправлялся. Однажды перед ним даже на колени встала…
Я представил мать на коленях перед ним. Это было непонятно. Чего только взрослые не придумают!
– А тут произошёл такой случай: зимой это было. Из района нам передали, чтобы прислали людей за витаминами для скота. Послали на тракторе с санями его и ещё одного тракториста. Назначили его старшим, потому что он знал дорогу в райцентр и ходил на тракторах туда по снегу. Прошло три дня – их нет. Подождали ещё три дня – опять нет. Никто не знает, что случилось. Может быть, они в дороге замёрзли, а может быть, у них трактор сломался. Им навстречу ушли Шерстнёв и механик с автобазы. Знаешь, тот самый, что разводит в пруду рыб.
– Знаю, – ответил я. Точно это было очень важно, знаю я или не знаю этого механика. Его фамилия Зябликов. Совхоз ему не дал денег на этих рыб, так он на свою зарплату их покупает.
– На лыжах ушли. А до райцентра сорок километров. А в степи, если метель, темнота. Вот они и шли в этой темноте, помёрзли, пока дошли до райцентра. Шерстнёва после этого в больницу положили и на правой ноге пальцы отняли. Отморозил.
Она замолчала, и я молчу. Ждал, что она скажет ещё про отца, а сам делал вид, что увлёкся уроками.
– Собрала его вещи и говорю: поезжай куда хочешь, а когда станешь человеком, возвращайся. И он уехал… Ты представляешь, что он придумал: в райцентр должны были приехать цирковые артисты, так он решил их дождаться. И ещё говорит, что мы скучные люди, а он поэтическая натура.
– Он ведь не знал, что Шерстнёв пойдёт его искать и отморозит пальцы, – сказал я.
– Когда ты станешь взрослым, – сказала мать, – ты поймёшь, что нельзя всё прощать.
Я промолчал. По-моему, мать зря его отправила из дома. Может быть, постепенно он бы исправился. Я бы с ним на рыбалку ходил, на машине вместе ездили. Я бы его обязательно перевоспитал.
Многие говорят: подумаешь, нет отца, мол, не беда, есть мать, и так далее. Конечно, человек может привыкнуть к чему угодно, а я всё равно думаю об отце. Вот только лягу в постель, закрою глаза, и сразу он появляется передо мной.
Разные истории для него придумываю. То он вернулся в совхоз со Звездой Героя, и сам Шерстнёв у него прощения просит, что плохо о нём думал. То он долго не возвращается, потому что его тайно тренируют в космонавты. То придумаю, что он уехал на Кубу помогать кубинцам осваивать наши, советские, автомобили.
В общем, придумываю разные истории, хотя знаю, что всё это чепуха. Тогда я начинаю мяукать, один раз даже мать ночью своим мяуканьем разбудил, и она решила, что какая-то чужая кошка забралась к нам. Зажгла свет и начала её искать. А я притворился, что сплю. И снова, после того как она погасила свет, мне в голову полезли всякие истории про него…
У меня сильно заболел палец, на нём была кровь. Видно, я порезался, когда разбил стекло.
Я вспомнил «Богиню Саваофу», вспомнил её поджатые губы и прищуренные глаза. Представил себе, как она влетела сейчас в кабинет директора школы, точно ею выстрелил из лука сам Робин Гуд, и рассказала всё обо мне. А он тут же схватился звонить матери, а мать после этого вернётся домой и будет стирать до полуночи бельё. Она меня никогда не ругает, а только стирает и стирает бельё, хочет, чтобы у неё от работы и усталости прошла обида на меня.
А мне-то каково? Один раз я тоже решил принять участие в стирке, решил поднести ей ведро с горячей водой. Так она мне такой подзатыльник подарила, как будто через меня пропустили настоящий электрический заряд.
С тех пор я больше не пристраиваюсь к её стирке.
4
Когда я пришёл домой, то оказалось, что мать уехала на дальние пастбища и должна вернуться через два дня.
У меня сразу улучшилось настроение. Обмотал бинтом потолще палец, для солидности, и принялся размышлять.
Два дня – это большой срок, за два дня что хочешь можно сделать. Пойти, например, к «Богине Саваофе» и извиниться перед ней. От извинения язык не отвалится. Можно сказать: «Нина Семёновна, я больше никогда не буду хулиганить». Можно ударить себя в грудь и потереть нос кулаком, точно я хочу заплакать. Она любит, когда перед ней так извиваются.
С этим я и лёг спать. Но вечером у меня всегда одно настроение, а утром другое. Так случилось и на этот раз.
Я проснулся и подумал: а почему, собственно, я должен извиняться? Она меня оскорбила, и я же должен извиняться. Только потому, что она старшая вожатая, главный редактор стенной газеты и учительница, а я просто ученик?! А как же тогда справедливость?
Все говорят: справедливость прежде всего. Говорят: воспитывайте в себе человеческую гордость. А на деле: я ни в чём не виноват, и я же должен страдать, унижаться. Когда мать не пускает меня стирать бельё, это я понимаю, а тут что-то не так.
В школе на первой перемене меня вызвали к директору.
Видно, «Богине Саваофе» не терпелось меня наказать, и поэтому меня вызвали тут же.
Ну что ж, это тоже неплохо. А то надоело, что ребята поздравляют с путёвкой в Артек. После того как я выйду от директора, сразу все узнают, что я никуда не еду, и перестанут меня поздравлять.
Печальные новости распространяются со скоростью звука – триста тридцать метров в секунду. Они прямо летают по воздуху между людьми.
Зашёл к директору, поздоровался по всем правилам. Жду. А он сидит за столом и что-то читает.
Директор в нашей школе какой-то ненастоящий, он никак не может запомнить фамилии ребят. Вечно нас путает. Про него говорили, что он очень долго был большим начальником и оторвался от народа. И поэтому его послали на живую работу, то есть в нашу школу.
– А, пришёл, герой, – сказал директор. – Подойди поближе. Так. Сейчас заполним путёвку.
Вот это была неожиданность: выходит, «Богиня Саваофа» ничего ему не сказала.
Он вытащил путёвку и спросил:
– Фамилия?
– Щеглов, – ответил я.
– Напишем – Щеглов, – сказал директор. – Имя?
– Севка, – ответил я.
– Напишем – Всеволод, – сказал директор. – Севка – звучит не солидно. И поедет Всеволод Щеглов в Артек.
Он был уже старый, наш директор, и, вероятно, ему было трудно с нами. По-моему, он не знал, что нам нужно говорить. Не умел так ловко и гладко говорить, как другие учителя.
– Ты там, в Артеке, сразу включайся в пионерскую работу, – сказал он. – Стихи умеешь читать?
– Нет.
– Плохо. Надо научиться. Выучи, например, стихи о советском паспорте В. Маяковского.
Мы помолчали.
– На, держи, счастливый Щеглов. – Он это сказал как-то печально, словно завидовал мне, и протянул путёвку.
– Спасибо, – ответил я. Помялся, постоял, мне почему-то стало его жалко, и я спросил, чтобы поддержать разговор: – А что это такое, когда говорят: «Он оторвался от народа»?
Директор вскинул глаза. Вдруг они у него блеснули, точно он разозлился. Он у нас целый год, этот директор, раз сто приходил к нам в класс, но я ни разу не видел, чтобы у него блестели глаза.
– Когда так говорят про кого-нибудь, – сказал он, – это плохо, очень плохо, и сразу даже не объяснишь, в чём тут дело. Ну, в общем, так можно сказать про человека, который никак не может запомнить фамилии людей, которые работают и живут вместе с ним. Ясно?
– Ясно, – ответил я.
И тут вошла «Богиня Саваофа». Она сразу увидела, что я держу в руке путёвку в Артек.
– Вручили? – спросила она.
– Вручили, – ответил директор. – Иди, Щеглов.
Я повернулся и медленно пошёл. Чувствовал, что они провожают меня взглядами. Вот сейчас «Богиня Саваофа» ему всё скажет, и тогда наступит её торжество, и у меня отнимут путёвку.
Дошёл до двери, секунду помедлил: ну, окликайте меня, теперь уже самое время меня остановить. Но они молчали.
Не успел я отойти и двух шагов от канцелярии, как «Богиня Саваофа» догнала меня. Я нарочно поднял забинтованный палец: пусть видит, что я пострадал.
– Помни, Щеглов, – сказала она, – за тебя поручился сам Шерстнёв. Смотри не подведи его.
Всё было ясно – почему мне рекомендацию хорошую дали и почему «Богиня Саваофа» не пожаловалась директору школы на вчерашнюю историю. Просто «некоторые» в лице Шерстнёва заступились за меня.
– Не беспокойтесь, – ответил я, – Шерстнёва я не подведу.
Я подумал, что наш директор всё же меньше оторван от народа, чем «Богиня Саваофа», хотя она любого ученика в школе знает не только по фамилии, имени и отчеству, но и по голосу.
– Отдыхай, Щеглов, хорошо, – сказала она.
– Спасибо. – Разговор у нас был очень вежливый, точно не она вчера крикнула мне «безотцовщина» и не я разбил оконное стекло.
– Ах, когда же у тебя в голове всё уложится по полочкам! – сказала «Богиня Саваофа».
Я почему-то вспомнил библиотеку и ряды аккуратных полок, уставленных книгами. А потом я представил, что у меня в голове точно такие же аккуратные полки, но вместо книг на них лежат бумажки со словами: «Это опасно», «Это не положено», «Это нужно». Мне захотелось затрясти головой, чтобы эти полки на самом деле не выстроились в моей голове. А здорово было бы, если бы «Богиня Саваофа» сейчас затрясла головой и её «полки» рассыпались бы навсегда. У неё-то они крепко сидят. А ещё лучше было бы, если на людей, у кого в голове всё разложено по полкам, налетела трясучка, как ураган, и все полочки у них бы рассыпались.
– Не знаю, – сказал я и слегка тряхнул на всякий случай головой. Ради предосторожности.
Она тяжело вздохнула, и я тяжело вздохнул.
Пора было расходиться, раз она не напоминала о вчерашнем. Но она как-то странно вела себя, какую-то бумажку комкала в руке, волновалась, что ли.
– Ты меня прости за вчерашнее, – сказала она.
Я прямо чуть не упал от её слов.
Вот до чего дожил – сама «Богиня Саваофа» просит у меня извинения. Неизвестно, что было отвечать, на всякий случай спрятал ладонь с обвязанным пальцем за спину. А то этот палец у неё торчал перед глазами.
– Ерунда, – сказал я.
Она улыбнулась, честное слово, она улыбнулась мне и вроде даже махнула рукой. Ну совсем как будто мы добрые друзья. Вот и пойми тут людей! Я ей тоже улыбнулся и пошёл по школьному коридору.
Я шёл школьным коридором и помахивал путёвкой в Артек. По всей школе над головами ребят летела новость, что я, Севка Щеглов, получил наконец долгожданную путёвку.
Оказывается, и хорошая новость распространяется быстро, значительно быстрее, чем плохая. Я думаю, что она распространяется со скоростью света – триста тысяч километров в секунду.
5
В город к поезду меня провожала мать. Я не хотел, чтобы она меня провожала: в конце концов, я не маленький. Представляете, была бы картина: приходим мы на вокзал к поезду, все ребята одни, только я при матери.
Но этого не случилось: родителей на вокзале было ровно в пять раз больше, чем детей.
– У тебя какие-то странные глаза, – сказала мать. – Горят, как фонари. Ты увидел ребят и не слушаешь меня.
– Обыкновенные глаза, – ответил я. И несколько раз мигнул, чтобы они потухли.
Дело в том, что я думал совсем не о ребятах, а об отце. Думал про то, как приеду в Москву и встречусь с ним. Я испугался и начал смотреть по сторонам, чтобы мать не перехватила мой взгляд. Она по глазам отгадает мои мысли. Это у неё есть, она так изучила меня, что иногда совершенно точно отгадывает мои мысли.
– Всеволод, – снова сказала мать, – сконцентрируй своё внимание.
– Сконцентрировал, – ответил я.
Но тут мы попали в водоворот толпы, и мать сама расконцентрировалась.
Все ребята говорили одновременно, орали вовсю, и ничего нельзя было понять. А родители были ничуть не лучше своих детей: каждый старался перекричать другого, чтобы сказать последнее слово сыну или дочери.
Я просто очумел, и когда дали команду прощаться, то поцеловал чужую женщину. Она в последний момент бросилась между мной и матерью. Потом мать всё же прорвалась ко мне и крикнула в ухо:
– Прошу тебя, не делай глупостей!
Не знаю, что она подразумевала под этим, но я твёрдо ответил:
– Не волнуйся!
Наконец эта страшная толчея окончилась: нас усадили в поезд, а родителей оставили на перроне. Все ребята, как вошли в вагон, сразу бросились к открытым окнам, и я тоже устроился у окна. Рядом со мной стоял какой-то странный парень. Волосы белые, и глаза совсем светлые, а кожа тёмная, точно он долго-долго загорал. Прямо шоколадная кожа.
– Можно подумать, что мы едем в голодную Южную Африку, а не в Артек, – сказал этот «шоколадный». Он кивнул на самых настойчивых родителей, которые прыгали под окнами вагона и совали своим детям разные бутылки, пирожки и кульки.
У одного мужчины свёрток с едой выскочил из рук, и по перрону рассыпались пирожное, пять конфет «Ну-ка, отними!» и два больших жёлтых апельсина. А люди не видели и топтали пирожное и конфеты ногами. А какая-то женщина ударила по апельсину, как по футбольному мячу.
– Вот здорово! – сказал я и засмеялся.
«Шоколадный» посмотрел на меня и ответил:
– Ничего хорошего в этом нет. Они бросаются едой, а одна пятая человечества голодает.
Глупо получилось, что я засмеялся, когда женщина футбольнула апельсин. Парень может подумать, что я из разряда бездельников и вообще думаю, что еду покупают в магазине, а туда она попадает прямо с луны. Хотя уж кто-кто, а я-то знаю, как выращивают хлеб.
– Прошлым летом мы были на уборочной, и я сам управлял комбайном, – сказал я.
«Шоколадный» посмотрел на меня. Ясно было – не поверил. А ведь это чистейшая правда. Это Шерстнёв придумал. Он пришёл в школу и говорит: «Давайте отправим ребят в поле, пусть полюбуются, как работают их родители». Нас привезли в поле поздним вечером. Было темно, и неизвестно, что делать в этой темноте, но, оказывается, комбайнеры преспокойно убирали пшеницу. Да, да, я сам всю ночь простоял на мостике комбайна. И вот именно тогда Шерстнёв мне доверил штурвальное колесо. А сам вдруг повернул фару, которая была укреплена рядом со штурвалом, в небо. Я его спросил, зачем он это делает. А он ответил: «Чтобы в космосе видели наш огонёк». Неплохо придумал. А этот не верит.
– Мы работали всю ночь, – сказал я. – Нельзя было терять время. А утром Шерстнёв, наш директор совхоза, собрал ребят и взрослых и говорит: «Не знаю, как вы, а я себя чувствую человеком».
«Шоколадный» внимательно посмотрел на меня.
– Да, – сказал я. – Хлеб вырастить – большой труд. Это не я только так думаю, это Шерстнёв часто говорит.
«Шоколадный» снова посмотрел на меня.
– А знаешь, что одна пятая человечества, – сказал он, – это шестьсот миллионов человек. Шестьсот миллионов! И все они голодают.
Я так растерялся от его слов и от количества голодающих людей, что просто потерял дар речи. Никогда бы не подумал, что столько людей на земле голодает.
– А что же делать, чтобы одна пятая не голодала? – спросил я.
– Не знаю, – ответил он. – Только мне это мешает жить.
– Несправедливо, – сказал я.
Я поискал глазами мать. Она стояла в сторонке совсем одна и смотрела на меня. Я-то отлично знал, как она не любила провожать и не любила вокзал этого города, потому что восемь лет назад отсюда в Москву уехал мой отец.
Помахал ей рукой, но она не ответила. Смотрела в мою сторону, а меня не видела. Бывает так иногда у людей: смотрят прямо на тебя, а ты чувствуешь, что они тебя не видят, что у них перед глазами кто-то другой. Может быть, она сейчас думала об отце и о том, что она зря отправила его из дома? Недаром про мать говорили, что «у неё одна любовь на всю жизнь».
Я мог её окликнуть, но в такие минуты, по-моему, нельзя орать или говорить: «Ты смотришь мимо меня».
Ждал, и всё. Она спохватилась в последний момент. Поезд тронулся, и мы помахали друг другу руками. Она долго-долго махала мне рукой, точно провожала меня в дальнее и трудное путешествие.
6
Когда перрон с шумной толпой и моя одиноко стоявшая мать пропали вдали, я оглянулся. Но этот «шоколадный» уже куда-то исчез.
Жалко было, что он исчез. Я не особенно люблю одиночество. Вернее, я его совсем не люблю. Прошёлся по вагону: ребята уже разбились на группы и разговаривали. Девчонки с девчонками, мальчишки с мальчишками. Девчонки рассказывали друг другу про своих учителей, а мальчишки – про космонавтов и про футбол. И тут он сам появился передо мной.
– Почему ты ушёл? – спросил я.
– А, слёзы-грёзы, – сказал он. – Тебя ведь мать провожала. Я видел.
– А тебя кто провожал?
– Никто. Мама уехала в экспедицию. Она монтирует в горах автоматические метеостанции, а отец взрывается.
– Как это – взрывается? – не понял я.
– Он проводит опыты с газом гелием и часто взрывается. То руки обожжёт, то лицо. Это его любимый газ. Он поэтому и меня назвал Гелием. Он очень лёгкий, этот газ, и создаёт температуру до двухсот шестидесяти градусов.
– Подумаешь, – сказал я. – Сталь плавят при семистах градусах.