По ту сторону снега бесплатное чтение
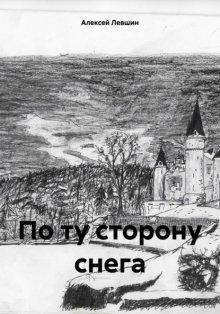
Умчался век эпических поэм,
И повести в стихах пришли в упадок;
Поэты в том виновны не совсем,
(Хотя у многих стих не вовсе гладок);
И публика не права между тем.
Кто виноват, кто прав – уж я не знаю,
А сам стихов давно я не читаю —
Не потому, чтоб не любил стихов,
А так: смешно ж терять для звучных строф
Златое время… в нашем веке зрелом,
Известно вам, все заняты мы делом.
М.Ю. Лермонтов
Первый день. Питер
ххххх
Вот Петербурга каменные доски.
Петру уже не разобраться в них.
Мы этих площадей недавние подростки
На этих мыслях дрожжевых.
Ах, Питер, вислоухий обормот,
Своей тоски он не узнал вначале!
Он принял будто бы ее за черный ход,
Где вскользь его на чьих-то поминали
Похоронах, воды набравши в рот.
Гордячка-вертикаль
Про улиц мокрые меха и про гранитный терем,
Про тех, кто знал в лицо гордячку-вертикаль,
Я расскажу тебе. И нас собор согреет.
Такая жизнь у нас: собор, сугроб, строка.
Зима ревнива. Это худо. Беглый ангел
Здесь не сберег себя, кровь остудив снежком.
Он силой обладал любви и хулиганства,
Божественной – как раз – по-райски, прямиком!
Он на снегу лежит. Но мы его не видим.
И до сих пор над ним стоит Данзас.
И до сих пор он говорит: «Простите,
Я вас любил, как мог. Как мог, любил всех вас.»
Заря
Как зеркало,
С небес на нас заря.
Жить тяжело, и все кругом в осколках.
Душа – Земфира – до тех пор, пока не зря
Бумага марана, и казни помнят елки.
А кровь каурая выходит из себя,
И зябкий мир своим теплом полощет.
У нас навалом этого добра.
Верней сказать, у нас его колодцы!
Заря торопится, не знает, как ей быть:
Залить все разом или краешек оставить
Подушки, поперек которой спит
Младенец. Он теперь ее прославит.
ххххх
Немая нынче выдалась зима.
И льдом подернуты, что паранджой, подъезды.
И ей глядеть в глаза, как страннице нельзя.
А дела удивительная бездна!
ххххх
Бреду вдоль жизни
Вашей, тополя,
Что к пятнице мне кажетесь распятыми,
Ничейный госпиталь, увечная семья,
С пасхальными в махорке арестантами,
И ты, что конопатая сперва,
Веселая, безумная, проклятая.
Там кто-то «Русь» сказал.
Не то. Плотва,
Тмутаракань
И молодость моя – ты.
День второй. Пересечение температурной оси.
хххх
Лес мчится, шалея от травли фабричной
Коричневой далью –
От этой росистой и мглистой и клятвопреступной отчизны,
Где рос он, где мы вырастали с заложенной в сердце печалью,
Что будет нам некуда деться, как только впотьмах очутиться.
За поручень корабельный – а где это, кто это?
Иденом, Грином, Гарольдом -
Да нет, безобидною… праздничной молью –
Туда за любовь – за отчизну –
Туда и учиться, учиться.
В ту сторону быстро летят самолеты.
Назад – обрывая в душе бахрому.
Там Оксфорд, Сорбонна, соборы и как сердобольно
Вздыхает душа по тебе ж самому!
Прощайся с подушечным ласковым миром,
С твоим подростковым веселым житьем.
Зачем нужно было таким фуаграшным лавиром
Себя предложить чистоганом, наложенным платежом?
Но только твой шарабанский лепет
Не треба здесь, а и нам не любо.
Париж свой нагретый вершит трафаретец,
В который не влезут никак сираношные губы.
Но только ты мне объясни,
Что ж я ходил Плантагенетом?
Зачем я восхищался светом,
Добытым Вильямом в пути?
Стихов рассеянный раствор
Я принимал с утра поране.
Зачем Цветаева, Ван-Гог
И Алигьери с Модильяни?
Какой быть может разговор!
Я никому здесь не помог -
И поздно – нет на свете Жанны.
И понимаю, что одно
Могло лишь быть мне примененье.
Но триста с чем-то лет, давно
Уже придумано оно:
Так значит, жил в одном селеньи…
ххххх
Леса нетленные виднелись за рекой
То плыли медленно, то гасли непрерывно.
Даль щурилась на шорох за спиной,
На тень сугроба и рожденья холод зимний.
За притолкой речною, подо мной
Проходит смерти перекресток лыжный.
Да, я подрос. Но ты растешь со мной
В моей расстегнутой на все невзгоды жизни.
хххх
Как дачи, позлащенные
В полсолнца, в пол-олифы,
Я первый поименно,
Коль впрямь по алфавиту.
Ходил по Красной коннице.
По Синему по мосту.
Мою физиономию
Ищите вы по росту.
Вот здесь стоял всегда вверху,
А здесь – ноблесс оближ –
Сидел на корточках внизу
У женских ног. А после был Париж.
День второй. Поминальная.
Первая элегия
И вот и день, брусничный день вставал.
И осень вширь, как на сносях, раздалась.
Россия, смыв с себя татар,
Старообрядческой улыбкой улыбалась.
По темным рытвинам просроченной земли,
По темным вывихам, ухабинам, по темным
Дождями смазанным, от горя вероломным
Полозья Русь по шороху несли.
Смотри, какой огромный этот шорох!
Он скит, туман и ряска для души.
От шамкающих на бегу просторов
Полоски сонные мне по лицу прошли.
У нас здесь рек, ты знаешь, в изобильи!
Вот только их не видно ни души.
А мой народ, наверно, обессилил.
И осень где-то вязнет, по грудки.
Вторая элегия
А если нам так страшно стало жить
(Ах, гораздо страшней почему-то,
чем умереть), то это на время,
Которое нужно нам для возвращения
В темные, выросшие промежутки
Меж нами и теми, с кем
Почти что вчера расстались.
Сосны расставлены реже, чем, людям, прищурившись, кажется.
Ты можешь приникнуть щекою к ним, как к изголовию.
Сердце забьется в виске, как в ручье,
И по горло в судьбе забарахтаются товарищи…
Без нашивки, пометки
Кровь по воздуху мчит.
Видно, как лес умирает
Из-за обугленных дач.
Привкус хвои и пятна крови чувствую на языке;
Но назад нет дороги, ведь свобод не бывает
У пришлых.
Я разыскивал образ надежды;
Мне нужны были сосны,
мне нужна их горячая преданность,
телосложение я различал болезненное,
Будто эта лесная богиня была петроградская медсестра…
С радостным горем свободы
Поднимается сердце в гору.
Что это в сущности и кому мы нужны,
Горделивые горемыки, вечно теряющие
то, что нам вечно дается ?..
Быт чуть меняется, остается
Xолодноватая кромка вины....
Я в темноте люблю говорить обо всем,
Что приходит мне в голову.
Но мне кажется, что я больше всего боюсь очутиться
Один, без любви вокруг.
Путь дальний, путь срочный, путь емкий -
Страх плачет в лесу перепелкой.
И пусть неровен, неправилен светлый мой путь,
Он все же от злобы путь в чью-нибудь прямо грудь -
Упрямо.
Памяти Геннадия Опоркова
Я видел твой раскрытый гроб.
А над тобой шел панихиды ливень.
Ты крепко спал, и твой холодный лоб
Поцеловав, я сердцем стал счастливей.
И вдруг во мне родилось немыслимое счастье,
Потом писал о нем, вздымался воздух-хвоя
Писал о том, что мне хотелось за тобою
Уйти туда, куда ты уходил.
Мне это счастье сложно было унести
И я за монтировочной тележкой
С себя свалил его. Но, слезы проглотив,
Так и не свыкнувшись с горчащим словом «папа»,
Мне кажется, что я куда-то плыл…
Я вышел, а навстречу мне
Жизнь вышла, в переполненной горсти
Держа дождя простой и рыбный запах
И лип ковши, и мокрую одежду,
В которой тело вдруг задумало расти.
ххххх
Туман не спадал с мочажины,
А я улыбался во сне.
Мне снилась дорога на Сызрань
И упряжь по вожжи в росе.
Не вспомнить мне всех околесиц,
Что листья вразбивку несли,
Как в сердце ударился месяц,
Как реки изнемогли
Меня дожидаться и прятать
Свою про запас синеву.
Меня им хотелось сосватать
К одной сероглазой. Погибшей лет семь как, в такую же точно весну.
День третий. Первые воспоминания.
Новгородская
За окном голосок.
Руки как будто бы только что убраны с шеи.
Шея – с креста. У нас дома всегда хотели,
Чтобы вышел из мальчика толк,
Блеск и щелк.
Только в наши две комнаты, перегородкой
Превращенные в три, никогда не входил Христос,
Ноги босые, в грязи и в осоке,
Как будто бы шел по болоту.
И вырос, пока дошел.
Моя Новгородская
Моя Новгородская улица!
Моя новогорклая, моя новогодняя,
С упряжкой колонн на углу.
Колонны да слезы.
С верхов капители, с низов – канители.
Трамвай, так похожий на вехи речного обоза,
Плывущий во мглу
И из мглы выплывавший – к утру.
Моя Новгородская улица!
Моя половодница, моя полоумница!
Кормилица образов, крепнущих в звонкой сумятице,
В сутолке, смятке и чечевице дней.
Окно потеплело: я вижу любимые лица,
Прабабушки Маленькой вечный обед,
И стирку, и добрые руки,
И тех, кто без нас с тобой, мама, однажды
На тот отправился свет.
Нет, в мире моем ничего нет чудесного,
Разве что вспомнившийся разговор.
Нет, в мире моем ничего нет особенного:
Потери да междуусобицы.
В семье это как-то безумно заметно.
На свалке качается рыжая дверца:
Вот все, что осталось от шкафа,
От взбалмошной нашей, громоздкой
Насупленной Новгородской.
А сердце дрожит ползунком,
То наверх, то как-то
Неосторожно, куда-то…
Омск
Здесь, в дебрях низенькой провинции,
Где люди ласковы, а, кажется, грубы,
Заимствуем, мой друг единственный,
Вовсю заимствуем любви.
Не разыскать мне пальцы в варежке,
Замерзших губ не разлепить!
А этот вот простор икающий
Мы будем санками лечить.
Я эту вот сметану снежную
Марал и комкал, Бог простит!
Из этой вот я вырос нежности.
А новой так и не достиг…
Ты подарил мне ослепительный,
В поправках белых и слепых,
В отеках памяти пронзительной,
Омытый Омкой мой родной язык.
ххххх
Ну, как избыть мне реквием зимы
С растерянным в ее нутре ребенком,
Который в варежку со снегом комья тьмы
Кладет горстями. Вырастет девчонкой.
Четвертый день. Образы за окном
Булгаков без нас
Пока за призрачным событьем
Спешит растроганный народ,
Привет тебе, столичный житель,
Невзрачных деятель забот.
Глядя на улицу Тверскую.
Мороза ком глотаю я.
Так, значит, Боже, вот такую
Ты землю выдумал, творя?
Пойдешь направо, и цесарку
В дубленке маминой спугнешь.
«Вас всех уволят» ворон гаркнул.
И неизменная кухарка
На всю столицу варит борщ.
Все это, милый мой читатель,
Петлистый коридор Москвы,
В котором я, как вы, петлятель
И наблюдатель, как и вы.
Здесь все всегда на честном слове
И все мучительно всерьез.
У мокрых подворотен, что ли,
Просить подмоги наперед?
Раз все всерьез, так значит крышка.
Москва играет в кошки-мышки
С тем, кто и думает-то слишком,
А после сам себя берет
В охапку и все пишет, пишет.
Чего, никто не разберет.
Кого-то в сон смертельный клонит.
Кому-то очи ест до слез.
Здесь некогда живал писатель,
Он шубы длиной не носил.
Но знал, что надо улыбаться.
Что было сил, что было сил.
И так всю жизнь на этой силе,
По пояс уходя во тьму,
Он выплывал, читатель милый,
И было весело ему!
Дудочка
Продеть бы дудочку
В ушко той улочки
И продудеть на ней всю жизнь,
Обрыскать с нею закоулочки
И тихоходную теплынь.
Сыграть тишком про то, как тризною,
Квартиросъемщики судьбы,
Справляли мы свою непризнанность
И невозбранность, стало быть.
А если нам потом покажется,
Что наша песня невпопад,
Что попадали всюду катыши
Ненужных скомканных бумаг –
Что ж, значит так тому и быть,
Хозяюшка-судьба!
Ведь невозможно песнь сложить,
Не положив себя.
Гейне
Что там за шепот?
За пропасть, за оползень?
Детской простуде скончания нет.
Нет чтобы крикнуть: «немедленно! Воздуху!»
Легких не хватит. Не тот континент.
Что ж ты хотел?
Умирать научись.
В мякише снега
Тонет столица
Это все лица да лица да лица,
Это все Богом прикрытая жизнь.
Нежный болтун, стрекотун и охальник!
Хочешь я сказку тебе расскажу?
Жил-был на свете старик-полумальчик -
Полустарик. Полужизнь-полужуть.
Хочешь другую: там дело в вязаньи,
Из-за вязанья все дело пошло.
Кто-то связал этот дом, где лобзанье
И предсказанье слилися в одно.
Хочешь? Но сказки топорщится негус,
Будто бы страха клеенчатый пол
Стал под ногами ходить. И отведать
Страшно душе кареглазых крамол.
В зубьях застрянет все та же мякина,
Та, из которой и ныне творим.
Тени немножко и фурацелина,
В детстве казавшегося неживым.
Что за борщец нашей осени славной!
С краешку залпом его отхлебни:
Хвойная шуба и город неглавный
Или подобие легкой земли.
Той да не той же, в которую ляжем -
Той, на которой родился вчера.
И продирается в крап экипажей
Воздух, да вот он, скорее, пора!
Четвертый день. Пробуждение. Осень
ххххх
Киев-город, кому ты ворог?
Не кивай ты мне на ходу.
Слишком пепельный ты и сливовый,
От рассказов таешь во рту.
ххххх
Оптический обман
И страшный сон душевный,
И правая рука
Соседа на груди
Как будто у меня.
И алый смрад харчевни.
Падучая, стряпня
Да Брейгеля мазня.
Осень
Со всех концов был город подожжен.
Шутила осень. Весен родственница,
Но из очень дальних.
Был ею бурый Кремль учрежден
И желтым подчинен опочивальням.
Я с нею был. Я был в ее рядах!
И, лишь блеснул в ночи форпост печальный,
В моей душе внезапно вырос страх.
И трясся я, как пес на мыловарне.
И понял я, чем нас она взяла:
Огнем горячим труб и губ горячих,
Который лился с веток на ура
И множество нам обещал подачек.
Я не мечтал об этом никогда.
Но я хотел, чтоб были счастливы другие.
И радостно, не ведая стыда,
Я в небо запрокидывал Россию!
Я клал ее к пылающим ногам
Понурой Софьи, злой Екатерины.
А галки в небе затевали гам,
Как будто без особенной причины.
Теперь все кончено. Отцарствовали обе.
Одну громадный братец потеснил,
Вторая – из последних сил -
Мне улыбалась ласково во гробе.
Околыш леса у меня на лбу,
И я не знаю, за кого воюю.
А та, что улыбалася в гробу,
Нам дочку выслала свою родную.
Я на нее гляжу: бела как мать,
Краснеет больше, меньше веселится.
И я готов опять принять обет
И за нее опять до смерти биться.
Осень- Евпраксия
Я не знаю, кому быть горше,
мне ли, осени? Я грешу
На ее даровую гордость.
Слишком корчит она княжну.
Но спасибо все же, спасибо,
Что с какого-то сентября
Воскресила ты Евпраксию
Почерневшего злого дня!
Только та была простоволоса,
когда сбросилась с башни в свет!
И она на тебя похожа,
ну а ты на нее – уже нет.
Четвертый день. Угол улицы в Европе
ххххх
Небо, тыльное небо!
Это тыльное небо ладони.
Зелень, поздняя зелень,
Старая Пьяцца. Рыжая грусть,
Что тебя никогда, никогда уже больше во сне не увижу,
Моя поздняя зелень Италии,
Я тебя не увижу, клянусь!
Кто мигнул мне?
Конечно, Торквато.
Зорким Осипом, на небо взятый.
И заплевана грязная пьяцца.
И особенно нечего клясться.
Кто-то лестницу Якова чистит.
И стирает кровавый виссон.
ххххх
Два ангела с рисунка Леонардо.
Бумажная висит за ними высь.
И черный блеск кривой дороги царской.
Я это выдумал. И вот прошу тебя,
Прошу тебя, мой вымысел, держись!
Кровь – черная икра в посудине подъезда.
И хорошо, когда есть дача, вместо
Вот этой каменной махины, хорошо!
Жизнь ходит, есть здесь не за что цепляться,
Ну разве кроме двух названий итальянских,
Maestro del… и что-то там еще.
Болтовня Франсуа Вийона
Когда твои уши гудят с недосыпу,
И воздух повсюду, как просо, просыпан,
Свеча средь потемок свернется в огарок…
Вглядимся, потомок,
в мой мир без помарок.
Вот готика комнат, тебе не знакомых,
И вряд ли ты сможешь сказать, что мы дома…
Ты можешь мой мир с перепугу разбавить
И камфору с теплой фуфайкой прибавить.
Там, в этой фуфайке – отсутствие солей.
А, кстати, немало нас в тюрьмах мусолят.
Глядишь, и сотрусь! На рассвете синица.
Держите, лишенцы! Вот вам она в лицах,
История самого крупного горя,
Какое случалось на суше и море!
Случалось на суше.
Развесили уши!
Каплун без подливки, что может быть хуже!
Грибы без заправки, что может быть гаже!
Я все, что назначено жизнью в пропаже:
Пропало, что было,
Что в шею дышало,
Что тайно, случайно мне в сердце стучало
И дальше… а дальше пропащее дело -
Я все разыщу! Чай, вьюнок – не дебелый!
Прошу подождать! Я ведь с детства был юркий.
Привык подбирать… Клички, рифмы, окурки.
Привык. Вот словечко. Свернулось как кровь.
А там осторожную опись готовь…
Что б все по порядку :
Такому-то пятку,
Тому, что пожиже того -
Ничего.
Названье.. какое б… да хоть завещанье.
Ну что ж, завещанье…
На имя кого?
А дальше нахрапом, а дальше галопом -
О людях. О вас, господа остолопы!
О том, что вы мне второпях задолжали:
Немножко улыбки и множко печали.
И все же, что может сравниться с печалью…
О Боже, пишу… Боже правый, в ударе
Весь.
Здесь – от макушки
До сюда – до пятки!
Ко мне! Я пишу,
Я пишу вас, ребятки.
Но плачет девчонка, ах, плачет девчонка.
Душа к ней прижаться готова котенком,
К румянцу, который от горя стал слаще.
Нет, что-то случилось в четверг тот пропащий,
Когда я писать супротив колокольни
Уселся – и стало мне сладко и больно
С того, что никто за меня не рассказчик.
Тогда меня колокол вывел из чащи
Звучащей – и выдал конец! А теперь… край страницы,
За коим уже ничего не случится,
Где путь уже нежно блестит леденящий.
Прощайте! С рассказом расстанется мастер.
Останетесь вы, мой мудреный читатель!
За подлинность слова, бессменный ручатель!
За жизни ошибки последний предстатель,
С сего завещанья с лихвой получатель.
Владейте, читатель!
Галилей
Что ж, Галлилео! Ты расчистил место.
Ты музыку сознанья превозмог.
Тебе чертовски было интересно.
Но выпит свет и вычерпан урок.
Вон выскочки, мохнатые от оспы,
От кислых запахов в консисторских углах,
Слезая с кресел, точно с козел, лезут в звезды,
И в них копаются, как в нечистотах детвора.
Засим и руки, не привыкшие к объятью,
Не доучившиеся ввысь взлетать,
Пора подальше спрятать и прижаться
Башкою к притолке, чтоб вслух не умолять.
– Уже уходите? …Она всегда уходит,
Она спешит, балует второпях.
И он устал выклянчивать свой полдник,
Как вечный школьник в драке сплывшую тетрадь.
Она всегда уходит, но, выходит,
Что лучше жить, давая кругаля, -
Жить ожиданьем, что она приходит,
Едва уйдя. Жить так же вот, кружа.
Кружились куры в полдень в воскресенье.
И брадобрей кружил над жирной бородой,
И вся Италия кружилась в отдаленьи,
Которое душа зовет душой.
Один кулак по двери бил нещадно.
Другой, разжавшись в пятерню, его тащил
За локоть в консисторский зал прохладный.
Чего ты трехаешь? Ведь ты же отпустил
Ее, со всеми курами, дворами,
Собором кафедральным, фонарем
И макаронами, что, кстати, между нами
Мы до сих пор на вилку крутим, в честь нее…
Ее, ее с округлыми снегами
И с жаркими сугробами плеча.
С вот здесь внезапно закругленными ногами,
И с круглым небом в чаше круглого зрачка.
С водоворотом, хороводом, караваем,
С круговоротом, круговертью и еще
С ее рассеянными седоками,
По кругу мчащими – за ней и от нее.
От круглых дураков, от невозможных кружев,
Кружений вкруг да около, круглистых берегов
Всех круглых дней, недель, часов – всех кружек,
Всех круглых дат, округлых облаков.
Земля не вертится. Не круг она гончарный
Тебе! "Не вертится. А все-таки она…"
Он встал с колен. Неведомое счастье,
С горчащим привкусом в себя ее вгонять.
И возвращаясь к облаку испуга,
И вынимая голову из сна,
Он внятно вымолвил, опять припрятав руки:
"Нет, вы не знаете, а все-таки она…"
Да что она? И жареных барашков
Нещадный дух вдыхала вся страна.
И, подписавшись здесь в углу, бумаге бесшабашно
Он прошептал : "А все-таки она…"
Да что она! Уже никто не слышит.
Всем начихать, что все-таки она…
Она одна. Моей любвью дышит!
И мне в ответ все вертится она.
День четвертый. Опять осень
Осень насквозь
Нам роковое в груди колотье
Да эрзерумская кисть винограду.
Осип Мандельштам
Ты помнишь, осень, век кровавый?
В него нельзя не завернуть.
Так движутся в лицо облаве
И ждут незримой пули в грудь!
– Зачем тебе нужна дорога,
Твоя кровавая земля?
– Мне хочется быть ближе к Богу.
Хоть дальше он теперь, чем я…
– А горечь этой правды жилистой,
Ее зеленая бадья,
В которой ты сумеешь вынести
Немного, коль спасешь себя?
И вот из Эрзерума прямо
На чернореченскую даль -
Залп, коего не доставало -
Залп совести и нежного стыда.
Забудь – по швам сосновый воздух
Искромсан.
– Губы взять по швам !
От лязга лобного допроса -
Очнись, пространство. Дай привал.
Вы вспомните Вторую Речку,
Сообщницы-тайги оскал.
Но в этом сне бесчеловечном
Я лучшей доли не искал.
И в белизне твоей бессрочной
Лишь я один повинен был.
…Кто говорил со мной воочью
И с кем я не договорил ?..
А свист горошины свинцовой,
А вывих разнокрылых рук
В последний раз леса и вдовы
Как черный полдень – помянут.
День четвертый. Зима.
хххх
Ну что, беспризорник Петрарка?
Спросонья еще полгреха.
Сыра от признаний тетрадка.
Суха от рассвета рука.
Зима полушубком и чаркой
Лечила в пути жениха.
Случайно он с ней повстречался.
Припадок случился стиха.
О, Господи, значит, мы выжили!
О, небо, откуда ты выплыло?
В снегу вся Россия моя.
Вон церковь, а в церкви невеста.
Под руки берут – как чудесно!
Жених-то, выходит, что я.
хххх
На все есть душевная лепта.
Не ходит любовь налегке.
И что-то бессонница лепит,
Нащупавши в черновике.
Такую, такую же точно,
В оборках забот и потуг,
В сугробах затихших пророчеств,
Деревню вслепую и вслух.
На праздник. Ровесница, Муза!
Моя деревенька в ночи!
Во что превращаются узы?
В разводы, в вокзал, в недосып?
Однажды и мы соберемся.
И будет зима на дворе.
И только пространство вернется
Любить, договаривать, петь.
ххххх
Соловьиной печали ясна причина.
Но застыла твердь возле самых дверей.
Не узнаешь правду о самых сирых
На земле населенной всей.
Большеглазое сердце родное, вещее
С розоватою трещиной не сладит никак.
Если бы знать, куда ведет эта трещина…
Три маленьких элегии
1.
Замыты лица перегноем сумерек,
Тех винных, ласковых, тех в чем-то виноватых.
Не сведущих, чьи родственники умерли
За Охтинского моста шубой ватною.
Друзья мои! Мы слишком быстро выросли
Из дач оладьевых, из вязаных кольчуг.
Из вас из всех один лишь я чернилами
Все время балуюсь, поблажки не ищу.
Не знали мы, как пачкаются прозвища,
Как одуванчик выжелтив лицо.
Из вас из всех лишь я пустился в розыски
Моей страны. Со всех ее концов!
2.
Я не имею права. Отнято внезапно
Иль от рождения, но я уже не враль!
Прошел февраль в чернильных теплых пятнах.
И сердце выбежало: Нет знакомых. Жаль!
Повествование – прием довольно скучный,
Зато петляющий, чтоб истину сберечь.
Я брошен в жизнь – и это тем и лучше,
Что в жизнь, что некогда извлечь из жизни речь.
И я готов учиться чистой речи,
Прямой у веточек и косвенной у птиц,
Чистописанью и чистосердечью,
Чистопроходству женских лиц.
3.