Русский путь в управление. Зачем, как и что понимать русскому человеку в управлении собой, делом и Родиной бесплатное чтение
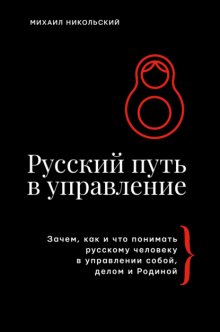
© Никольский Михаил Эрикович, текст, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2025.
Предисловие
Не прошло и полутора лет после окончания срочной службы на Тихоокеанском флоте, как меня вновь рекрутировали. На этот раз не военкомат, а книга «В поисках эффективного управления» Томаса Питера и Роберта Уотермена. И я пополнил собой армию менеджмента.
Название книги задало ключевой вопрос, ответ на который я ищу уже больше 35 лет: как управлять эффективно. Десятки и сотни прочитанных книг, журналов и статей, увы, системного ответа на вопрос не давали. Мало того что из каждого ценного совета никак не складывалась целостная картина. Так ещё и глаза видели совсем не то, что слышали уши. Там, на страницах книг, герои-менеджеры управляли фирмами, холдингами, отраслями и странами. Здесь, в жизни, приходилось управлять самим собой и другими такими же людьми.
Те советы, которые авторы книг адресовали своей аудитории, плохо ложились на отечественную действительность. Когда они брались нечто рекомендовать аудитории нашей, получалось совсем неказисто. Маститые зарубежные авторы, поработав в России, как будто вообще не понимали, с кем и чем столкнулись. Из-под их пера выходили навсегда отставшие от жизни мужланы-начальники, которым так и не светит стать настоящими просвещёнными западными менеджерами. Им вторили некоторые российские авторы, стараясь перещеголять коллег в критике.
Небрежно скинутая с барского плеча шуба, хотя с виду и казалась богатым подарком, как все чужие вещи, под стать не подходила. Тут жмёт, там ноги не закрывает, где не завязывается, а здесь вообще дырка.
Я же везде, куда заносила меня сначала консультантская, а затем управленческая жизнь – на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, в Поволжье, на Юге, – видел совсем иную картину. Толковейших людей, искренне делавших своё дело. Не владевших терминологией, но отлично владевших сутью вопроса. Не реагировавших на рекомендованные инструменты менеджмента, но живо откликавшихся на другие сигналы.
И в самом себе, и в этих людях хотелось разобраться досконально. Но прочитанная управленческая литература человека видеть не хотела. Вот потребителя – пожалуйста! С ног до головы и слева направо. А производитель был обойдён вниманием, воспринимался в общей массе.
Бросалось в глаза, что менеджмент считал человека внутренне непознаваемым и все реакции его изучал методом массовых экспериментов. Иногда было смешно читать исследования поведения, которые казались абсолютно предсказуемыми, просто чуть зная людей.
Не спасала и литература психологическая. Она, наоборот, была только о человеке. Но человек этот был психологически ушибленный, с кучей проблем и поведением, не соответствовавшим действительности.
Отдельно не давало покоя отсутствие системного подхода к управлению. Стройность естественных наук, сначала формулирующих ряд аксиом, затем на базе их выстраивающих общие полноценные теории, менеджментом то ли не замечалась, то ли прямо игнорировалась.
Последним по очереди, но далеко не последним по значению стало подчёркнутое дистанцирование менеджмента от вопросов веры. То, что в жизни является сильнейшим мотиватором поведения, на страницах книг и журналов никак не отражалось. Хотя религия начала изучать человека на века раньше и преуспела в данном вопросе намного лучше, ни менеджмент, ни психология её наработки в расчёт не принимали.
Убедился я в этом, когда встретил модель личности, предложенную апостолом Павлом без малого две тысячи лет назад. Стоило перевести слова «дух, душа и тело» на мирской язык, передо мной появилась самая достоверная модель человека. Более точная, чем все известные модели всех известных психологов. Более ёмкая, чем любые модели человека, применяющиеся в маркетинге и продажах. Затем в трудах святителя Феофана Затворника (в миру Г. В. Говорова) мне встретилось учение о трёх силах души и матрица. Возникло понимание: это готовый инструмент.
Решение пойти своей особенной дорогой, найти именно русский путь в управление возникло ровно после этого. Я дерзаю называть его русским, потому что православие сформировало как нашу страну целиком, так и всех нас, граждан России. Независимо от того, верующий человек или ещё только ищет свой путь к вере. Смыслы жизни, о которых мы спорим, сами споры – всё стоит на православной культуре.
Найденная православная модель стала для меня отправной точкой построения нового подхода. Придала управлению те самые единство и системность, которых ранее так не хватало. Позволила двинуться вперёд.
Вторым недостающим звеном стала диалектика. Её нам на экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова преподавали с первого курса обучения. Мы были теми немногими оставшимися в мире, которые познали всю мощь и широту взгляда великого философа Георга Гегеля. Западный мир на волне борьбы с коммунизмом и марксизмом вычеркнул её из образовательных программ. А потом начал переизобретать те или иные спиральные модели уже от своего имени.
Десять лет я посвятил разработке целостного подхода к человеку и управлению на базе перечисленных знаний. Изложенная в этой книге конфигурация, надеюсь, не окончательная и ещё будет мною доработана.
Цель книги – порассуждать об управлении вместе с уважаемыми читателями в предлагаемых автором терминах. После чего, уверен, они смогут делать это самостоятельно. Поэтому я и назвал книгу самоучителем. Все содержащиеся в ней модели просты и доступны не подготовленным специально для этого пользователям. Ход рассуждения будет полезен как управленцам – настоящим и будущим, – так и специалистам в области искусственного интеллекта. На последних хочу остановиться отдельно. В силу образования и профессии они максимально далеко отстоят от вопросов социальных. Подходят к человеку как к программируемому устройству, не получая результата.
Книга организована наподобие телевизионных сериалов. В начале каждой главы я кратко намечаю, о чём в ней будет можно прочитать. В конце же – подвожу итоги и предлагаю авторское видение, что рекомендую коллегам запомнить. Тем читателям, которым будет трудно найти время, советую прочитать первую главу книги и эти суммирующие разделы – они позволят в общих чертах понять всё мною предлагаемое.
Я постарался дать системный взгляд на управление. Системность здесь не бытовой, а профессиональный термин. Согласно классическому определению это комплекс взаимодействующих компонентов. Взгляд на человека как единство ряда составляющих, а на его поведение – как единство другого ряда направляющих, представляется мне единственно верным. Это так важно, что я регулярно буду напоминать об этом в книге.
Новая теория становится полезной, если лучше предыдущих объясняет уже известное. Ряд последних событий до недавнего времени описывался лишь в терминах эмоционального восприятия. Это касается, например, разгоревшегося конфликта между мировоззренческими подходами. Рациональное и системное их объяснение позволит от эмоций перейти к рассуждению. А это, в свою очередь, позволяет не только остужать накал страстей, но и находить конструктивные выходы.
Вторым важным качеством является предсказательная способность этой теории. Её мы скоро сможем проверить, сопоставляя прогнозы по переходу к эпохе общения ради общения с фактами жизни.
Пределом моих мечтаний является освоение дорогими читателями предлагаемой схемы рассуждений настолько, чтобы они без моего участия могли заглянуть вглубь самих себя. Я постарался сделать модель не просто пользовательской, но и самопользовательской. Все предложенные подходы несложны, не требуют профессиональной подготовки и изложены бытовым языком с малой примесью терминов.
Сама схема достаточно проста: я задаю точку отсчёта, указываю правила развития, а затем всё вывожу одно из другого. Когда по дороге встречаются подходы и инструменты, ранее изложенные в книгах по менеджменту, применяю диалектическое мышление и кооптирую их.
Я использую как собственные наблюдения, так и известные результаты. Я профессиональный управленец, имею соответствующее образование, работал и работаю в данном качестве. За плечами большой управленческий опыт, постоянная работа с людьми и проектами.
В книге встретится целый ряд слов, обычно помечаемых в словарях как устаревшие: «ублаготворение», «вожделевательная» и «раздражительная» силы, «помысел», «чаемое» и прочие. Не соглашаюсь со словарями. Произошло не устаревание этих слов, а приземление нашей жизни. Как увидят читатели дальше, все эти слова так или иначе связаны с высшими измерениями нашей жизни. Из языка они ушли, потому что мы слишком много внимания стали уделять бренному нашему бытию.
Сравним, например, «ублаготворение» и «удовлетворение». Первое наступает только тогда, когда некто или мы сами сотворили нам же благо. Это слово не мирское, оно напрямую апеллирует к пониманию смысла жизни. Второе пришло из земной жизни: от еды, просмотра фильмов и прочих мирских дел. Я сам люблю мирские удовольствия, но не люблю забвение, что есть нечто намного более высокое, чем они.
Я сердечно благодарю экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова: декана факультета Александра Александровича Аузана, всех руководителей, профессоров, преподавателей, выпускников и студентов факультета за честь в юности учиться и всю жизнь оставаться частью этой высокопрофессиональной вселенной. Большое спасибо уважаемым коллегам, с которыми мы плечом к плечу на самих себе апробировали многие следующие далее подходы и практики. Моё почтение подписчикам группы IB-Club и телеграм-канала «УПРАВ-ДА» за внимание к публикациям и обратную связь. Низкий поклон моей семье, которая все годы поддерживала мои изыскания и терпела мои неизбежные муки творчества и сопутствующие им издержки. С Богом!
Понять сущность предмета гораздо важнее, чем выяснить, какая от него польза.
Огион Молчаливый, волшебник с острова Гонт
Чтобы превратить этот камешек в бриллиант, нужно изменить его подлинное имя.
Мастер Ловкая Рука, волшебник с острова Рок
Магия – это и есть точное знание подлинного имени предмета.
Мастер Ономатет Курремкармеррук, отшельник Одинокой Башни.Урсула Ле Гуин «Волшебник Земноморья»
Глава 1
Менеджмент умер. Да здравствует управление!
Среди книг по управлению, занимающих добрую половину моего кабинета, много непрочитанных, до которых я лишь мечтаю добраться. Ещё мрачнее ситуация в хороших книжных магазинах: перефразируя бородатый анекдот, там все непрочитанные. Воленс-ноленс в душу заползает тревога: вдруг ты что-то пропустил, вдруг что-то не узнал, вдруг кто-то что-то прочитал, разобрался, а то и написал раньше тебя?!
Досада, что ты далеко не всё освоил, усугубляется пониманием: дальше будет только хуже. Жизнь идёт, авторы пишут, издательства публикуют, дикторы начитывают. Ком пропущенной информации будет каждый день нарастать, пока окончательно не придавит тебя, ротозея. Не спасут даже подкасты: имеющееся на них время тоже, увы, ограниченно.
Специалисты по тревожности не только хорошо знают этот симптом, но и придумали ему специальное название – боязнь пропустить интересное[1]. И назвал его так вовсе не психолог, а студент Гарвардской школы бизнеса П. Макгиннис. Видимо, в порыве отчаяния.
Но не кажется ли дорогому читателю, что названная тревожность – оборотная сторона всем известного «Не умеешь работать головой – работай руками!»? Не пора ли остановиться в бесконечном чтении и осмыслить, как объять необъятное. На охват всего и вся времени не хватит никогда. Нужен алгоритм, ключ, позволяющий не утонуть в пучине множащихся данных, информации и знаний по управлению.
Термин «воронка» стараниями маркетологов давно вошёл в управленческий обиход. Посмотрю на него по-новому. Воронка – это одна точка отсчёта внизу воронки и одна действующая сила, которые, в совокупности взятые, позволяют закрутить всю необъятную Вселенную.
Будь у нас в руках воронка управленческая, нам бы было нужно лишь запомнить точку отсчёта и разобраться, как закручивающая сила работает. А остальное бы происходило автоматически: определяй свои координаты относительно точки отсчёта, прикладывай силу и без труда понимай, и как ты здесь очутился, и где окажешься в искомое время.
Двум названным ключевым элементам и посвящена эта книга. Конечно, чтение её не сдаст на склад истории всё известное ранее. Но понимать прочитанное станет на два порядка легче. Известные сведения будут разложены по небольшому набору полок, взять их оттуда в случае надобности особого труда не составит. Новые сведения будет просто фасовать и так же легко раскладывать по полкам, дополняя известные.
Облегчится и прогнозирование будущего. Понимая, с чего всё началось и как движется силой, можно будет без особых усилий увидеть, куда всё придёт. Пусть не точь-в-точь, пусть с какими-то допусками и припусками, но, главное, без «Отродясь такого не было, и вот – опять!»
Я адресую эти два ключа всем, кто уже работает руководителем или собирается им стать. Предлагаемые ключи проще, чем пресловутый бином Ньютона, я постараюсь изложить их предельно ясно и понятно.
В конце книги читатель найдёт самое знаменитое изречение дельфийского оракула – «Познай самого себя». Оно последнее по очереди, но вовсе не последнее по значению. Более того, вся книга, строго говоря, посвящена только этому вопросу. Как познать себя, своих сотрудников и любых Homo curagendarius, человеков управляющих.
Традиционный менеджмент предлагает учиться управлять другими. Русский путь в управление призывает начать с себя. Во-первых, это проще физически: себя мы знаем уже, а можем узнать досконально. Во-вторых, это приятно – поглубже познакомиться с хорошим человеком. В-третьих, это полезно: что про себя ни узнай, что про себя ни пойми – всё на пользу, не на этой должности, так на следующей, но в этой жизни.
Чтобы познать самого себя, в соответствии с законами физики нужна неподвижная система координат. Она позволяет независимо оценивать траекторию атомарной частицы. Таких систем может быть всего три: сам человек, сообщество людей и Создатель человечества. Не дерзаю судить чью-либо веру или её отсутствие, но прошу дорогих читателей уважать и мою личную точку зрения как человека верующего.
Человек сам себе плохо может быть неподвижной системой. Не отрешиться ему от эмоций, субъективности, предвзятости и терзаний.
Люди как неподвижная система лучше, взвешеннее и объективнее. Но тем не менее состоят из таких же людей с теми же человеческими слабостями. Самая относительно неподвижная система – Создатель. В менеджменте не принято упоминать Его в целом, на русском же пути в управление без веры в Создателя никакая теория не будет истинной.
В качестве структуры нашей личности я беру ту, что две тысячи лет тому назад указал апостол Павел – дух, душа и тело. Предмет книги не теология. Для управленческих целей мне достаточно представления их мирской проекции в виде жизнеполагающих смыслов, способности к общению и физических возможностей. И я попрошу отдельно понимать это не как тайное управленческое знание, а как представление и модель.
Представив структуру личности, я представлю и три движущие её силы – мыслительную, вожделевательную и раздражительную. Термины не совсем привычные, особенно два последних, но исторические, известные со средних веков. Они удивительно точно передают характер сил. Вожделение куда мощнее желания, хотя и сродни ему. Раздражение не оставит нас в покое, пока не получит ублаготворения. Ещё одно старинное слово сочетает в себе и удовлетворение, и понимание блага.
Раз движение начинается с мыслительной силы, надо постигнуть, как она работает. Более двухсот лет назад это сделал великий немецкий философ Георг Гегель. Каждый из нас знает про спирали развития, но не каждый знает, кому мы обязаны их появлением. Я возьму от Гегеля три закона диалектики и триаду «понятие – суждение – умозаключение». Но откажусь от привычной на слух триады «тезис – антитезис – синтез».
И вновь перед нами встанет вопрос: как постигнуть гегелевское «понятие». Правильнее сказать – познать его. Я сделаю это с помощью трёх форм познания – чувственной, разумной и поведенческой. Каждая из них позволит по-разному увидеть мир со своей точки зрения. Системный подход обяжет смотреть на них вместе, точнее, в единстве.
Третий и последний раз я обращусь к тому, с чего начинается триада – к чувствам. Несколькими абзацами выше я употребил слово «эмоции». Чувства и эмоции – явления разного порядка. Чувства – наши системные настройки. Верный православию, я считаю их настройками от Создателя и точкой соприкосновения Его и Его творения. Эмоции же – тщательно маскирующиеся под чувства человеческие оценочные суждения, чаще всего ошибочные и для человека вредные и пагубные.
Разбирая способы познания, я укажу и на неизбежные на этом пути ошибки. Подтвержу, что не ошибается только тот, кто ничего не делает, хотя зачастую это и самая большая ошибка. Стараясь не ошибиться, расскажу про два важных дополнения, наверное, к известным читателю когнитивным искажениям. Соблюдая научные традиции, я назвал их сенсуалистическими и антропоморфическими. Признаюсь честно, не в восторге от собственных терминов, но когнитивисты первые начали.
Собрав воедино структуру нашей личности и движущие её силы – управленческие анатомию и физиологию, я получу целостное поле управления. Такое же по смыслу, как электромагнитное или гравитационное поля в физике. Так же объективно воздействующие на объекты и субъектов управления. Укажу как важное свойство поля его фрактальность – единообразное действие полевых сил в любой точке.
Любое поле трудно себе даже представить. Нужна в очередной раз модель, её предложил ещё во второй половине XIX века замечательный богослов и проповедник святитель Феофан Затворник. Простая матрица 3х3, применённая для целей управления, таит в себе непростые идеи.
В управлении я обнаружу единообразное действие, говорим ли мы о человеке соло, его семье, его деловой организации или государстве целиком – все названные проходят одной и той же человеческой дорогой.
На русском пути в управление читателя встретит традиционный камень с предложением научиться делать одну из трёх важнейших вещей: принимать решения, создавать атмосферу или задавать смыслы в том месте из числа названных выше, где он сейчас прикладывает силы.
Следивший за изложением читатель будет знать, что выбрать надо только все три, вместе взятые. И это будет правильный ответ: камень отвалится сам собой, открывая путь. Вновь и вновь, старательно раскладывая управленческую жизнь по полочкам, я буду призывать читателя помнить, что жизнь едина, а наши деления лишь умозрительны.
Раскладывать начну с формулы принятия решения. Сначала в ней будет всего три слова. Потом 10, потом 22, а в финале – все 76, не считая предлогов. Уверен, смогу показать, что главное – это не точное количество слов, а способность из трёх вывести любое нужное в целях задачи количество. В моём понимании воронка так и должна работать.
Формулы создания атмосферы предлагать не стану, но расскажу про две эпохи: одной – более миллиона лет, второй – даже меньше века. Эпоха борьбы с голодной смертью и эпоха общения ради общения. Они очень разные, а мы, вступившие уже во вторую эпоху, всё те же. Если не понять, в чём разница эпох, то не будет понятно, как нам измениться.
А вот источников формирования жизнеполагающих смыслов я назову не два, а целых три. Хотя самих смыслов мириады. Понимание, откуда что есть пошло, даст возможность осмысливать себя и происходящие вокруг события, включая самые драматические. Особенно последние: за драмой всегда стоит что-то очень серьёзное. Станет ясно что.
Пройдя в управление предложенным русским путём, стоящим на наших культурных ценностях, движимый нашими представлениями о мире, я оглянусь на традиционный англосаксонский менеджмент. Во-первых, чтобы сказать ему спасибо – за всю науку, за множество полезных советов, за переданные знания. Во-вторых, чтобы увидеть, что и он стоит на своих культурных ценностях и движим своими представлениями о мире. В-третьих, чтобы подтвердить природу диалектического отрицания: на деле оно не отвергает, а лишь прибавляет.
Оглядев англосаксонский менеджмент, я системно добавлю к нему ряд важных положений, в результате чего заполню существующий разрыв между психологией и управлением. Человек тоже един, выделять из его цельной жизни психологию или управление можно только в рамках аналитики. Заполнение разрыва позволит от психологии перейти к управленческой антропологии. Это комплексный подход к познанию человека и в целом человечества в ходе управленческой жизни.
Увенчаю я все изыскания финальной триадой: «антропология – управление – созидание». Станут ясны два важных момента. Во-первых, для чего городился весь этот огород. Для того чтобы мы могли лучше созидать. Во-вторых, доброе ли это дело. Как мы увидим, оно не просто доброе, а напрямую заповедано всем нам Создателем. Коли так, в конце этого пути нас ждёт ублаготворение, чего всем читателям и желаю!
Глава 2
Англосаксонский менеджмент исчерпан
Смелое утверждение предыдущей главы, что менеджмент мёртв и наступает пора управления, требует разъяснения по двум моментам.
Первый – что есть менеджмент сам по себе. Почему он называется на иностранный манер. Откуда он взялся, кем и на чём основан, чего достиг. В какие школы ходил, в какие – нет. Чему там научился сам, чему в других научились другие. И почему он с этими другими не сходится.
Второй – чем отличаются менеджмент и управление. Вообще, отличаются ли или это синонимы. Или у них называют так, а у нас иначе. И почему мы должны выбрать своё родное, хотя к иностранному уже давно вроде бы привыкли. А также какие чувства у нас это вызовет.
Когда в следующей главе я дам все пояснения, названное смелым утверждение, надеюсь, станет обоснованным и доказанным.
Представьте себе, что как-то вечером в начале зимы мы с дачи идём в соседний посёлок. Путь к нему преграждает снежное поле, на другом краю которого призывно светятся вывески и окна домов. Очень хочется двинуть к ним напрямик, но осторожность берёт верх. Кто знает, что там под первым снегом: вдруг провалишься или запнёшься обо что-нибудь.
Тут по левую руку мы видим уходящие в ту же сторону следы человека. Разумно рассудив, что это кто-то из местных, мы решаем пойти вослед. Абориген изрядно петлял, видимо обходя известные ему преграды. Тропа шла не совсем туда, куда нам было нужно, но через поле перевела, дальше мы уже сориентировались и дошли самостоятельно.
Через неделю нам вновь понадобилось в посёлок, и мы, уже не раздумывая, сразу направились к тропе, которая стала заметно шире. К февралю она превратилась в настоящий зимник. Весной всё растаяло и выяснилось, что ни ям, ни коряг, ни иных угроз под снегом не было.
И мы, и все остальные могли безбоязненно идти прямо, если бы это знали. Стало интересно, кто был тот первый и почему он пошёл зигзагом. Недолгий поиск привёл нас к известному в посёлке выпивохе. Он в красках рассказал, как засиделся у кума и пошёл потом по первому снегу. Кум – человек хлебосольный, угощал на славу, посему держать прямой курс нашему выпивохе оказалось категорически не под силу.
Вдосталь насмеявшись, мы пожелали первопроходцу не особо налегать на горячительное, поблагодарили и со следующего года ходили уже по прямой, твёрдо зная, что бояться в этом поле совершенно нечего.
Сказка, известное дело, ложь. Намёк прост: век с небольшим мы следуем по тропе менеджмента, проложенной не нами. Искренне полагая, что отцы-основатели всё познали, всё учли и проложили тропу наилучшим образом. Причём не только для себя, но и для всех нас.
То, что они были себе на уме, по-своему ограниченны, а о нас вовсе не думали, а то и нарочито хотели запутать, мы с негодованием отвергаем. Кто из соображений неозападничества – там всё лучше, вот и менеджмент они придумали. Кто из заблуждения, приняв изгибы менеджмента за прямой путь. А кто и из профессиональной лености – комфортно же всю жизнь пересказывать разнокалиберные чужие труды.
Мы приняли менеджмент как откровение – безусловную истину, не имеющую недостатков. Старательно заучивая те или иные понятия, не задались вопросами, отчего и почему они сложились. Следуя не своему дискурсу, не разобрались, почему у нас он не даёт искомых результатов. Заранее решили, что если он нам не особо подходит, то проблема в нас.
Мы не уделили внимания англосаксонскому происхождению менеджмента. Англосаксонский – этнокультурологическое понятие, обозначающее присущесть англосфере. Так сами себя называют страны, ранее бывшие частью Британской империи, сохранившие английский язык и английское общее право, входящие в англо-американскую сферу влияния. Менеджмент родился и вырос в англосфере, говорит и пишет на её языке, да и в целом лучше всего себя чувствует именно там.
Мы знаем, что англосаксонское прецедентное право отличается от континентального нормативного. И англосаксонский капитализм не то же самое, что рейнский или североевропейский. А англосаксонское корпоративное управление иное, чем европейское или японское. И мы не видим в этом ничего странного: разные культуры – разные подходы, говорим мы. Но тогда очевиден вопрос: раз все мы разные, годится ли нам, россиянам, англосаксонский менеджмент? Увы, отечественные специалисты по управлению так до сих пор его себе и не задали.
Как представляется, причина в известной логической ошибке: корреляция принята за каузацию. Иными словами, из совпадения двух событий ошибочно сделан вывод, что одно из них – причина другого.
В нашем случае совпали зарождение менеджмента как дисциплины и экономический бум в ведущей стране англосферы – Соединённых Штатах. Показалось, что менеджмент и бум – близнецы-братья. В интернете популярен мем: «Петя умный. Будь как Петя». Вот и нам захотелось быть как они. Самое невесёлое в этом меме, что даже он – лишь русификация англосаксонского: «Bill is smart. Be like Bill».
Не станем обесценивать менеджмент, он, безусловно, внёс свой вклад в общий бум. Но вес его в общем результате был не особо велик. По крайнем мере, ни один из исследователей теории экономического роста менеджмент как фактор никогда даже не рассматривал. Лавры в разные времена доставались протестантской этике, созидательному разрушению, политическим и экономическим институтам и прочим.
Раз так, можно не бояться, что отход от англосаксонского менеджмента неминуемо приведёт к краху экономики. Более того, не побоимся в целом назвать менеджмент лишь одной из граней более сложных производственных отношений – совокупности социальных отношений, в которые люди вступают, чтобы обеспечить свою жизнь, производить товары и услуги, воспроизводить нужные для жизни вещи.
Тождественны ли условия жизни, производства и потребления в США и России? Очевидно, нет. Это необходимо обусловливает различие как в производственных отношениях, так и в менеджменте. Они не только могут, но и должны быть различны. Наше непонимание этого – серьёзная и, к сожалению, дорогостоящая методологическая ошибка.
Исправить её никогда не поздно. Поблагодарим менеджмент за науку, вернёмся в точку А. Переосмыслим, в какую точку В мы хотим прийти, исходя из сложившихся уровня развития и культуры отношений. Проложим свой путь, позволяющий поскорее в точку В добраться.
Исправляясь, проанализируем, где и почему в прошлый раз сошли с верного пути, дабы не сойти снова. Потому что, по известной всем фразе, ошибиться можно только один раз, во второй раз это будет выбор.
Англосаксонский менеджмент, как мы покажем далее, содержательно ограничен, не универсален и по ключевому смысловому аспекту нашей стране и работающим в ней руководителям не подходит.
Нам нужно русское управление. Это не игра слов и не очередная попытка заменить галоши мокроступами, а реализация своего права на инаковость. Одновременно это принятие на себя ответственности за своё развитие. В модных терминах – сепарация, а в былинных – слезание с печи, на которой мы просидели больше чем тридцать лет и три года.
Наша новая задача – из точки А в точку В провести свою управленческую прямую. Укажу три причины. Первая – экономическая: прямая есть кратчайшее расстояние между двумя точками. Вторая – исследовательская: прямая бесконечна и неограниченно долго ведёт нас вперёд. Третья – правдоискательская: через две точки можно провести бесконечное количество кривых, но лишь одну прямую.
Предлагаемое русское управление отрицает англосаксонский менеджмент не в бытовом, а в диалектическом смысле слова. Оно не зачёркивает и тем более не отказывается от всего ранее сделанного теоретиками и практиками менеджмента. Оно задаёт новую, более подходящую для россиян систему координат и иной, пророссийский угол зрения, помогающие отечественным руководителям решить, отставить или оставить всем известные управленческие подходы и рекомендации.
В конце прошлого века американские психологи Дэниел Симонс и Кристофер Шабри провели знаменитый эксперимент «Невидимая горилла». По их заданию участники должны были считать передачи в игре двух баскетбольных команд. В определённый момент на поле выходил человек в костюме гориллы. Ровно половина участников его не заметили. Эффект назвали слепотой невнимания или перцептивной слепотой.
Давайте посмотрим, что мы, увлечённые изучением томов менеджмента, раньше по слепоте невнимания совершенно не замечали.
Да, так ли уж важно, как называть дисциплину – менеджмент или управление?! Ведь содержание в любом случае важнее формы, а целевая аудитория книги – не филологи, а управленцы! На мой взгляд именно нам, управленцам, не просто важно, а критически важно говорить точно.
Передать сложность мира с помощью простого языка – само по себе дело сложное. Дабы не утонуть в описании, зачем, как и что происходило на самом деле, люди применяют правила упрощения. Сокращают, выделяют наиболее значимое, проводят аналогии. Психологи такие приёмы называют эвристиками: они позволяют быстро принять решение, пусть даже с небольшой потерей качества по пути.
Одной из эвристик является так называемая «бритва Оккама». На рубеже XIII–XIV веков английский монах-францисканец, теолог и философ Уильям из Оккама, вчитавшись в Аристотеля, категорично изрёк: «Многообразие не следует предполагать без необходимости».
Максиму подхватили, вывели из неё методологический принцип «Не следует множить сущее без необходимости» и назвали бритвой. Объясняли это так: она «срезает» лишние предположения и «разрезает» два схожих вывода, позволяя из двух гипотез взять более простую.
Название являет собой классический оксюморон: не будучи бритвой и не имея отношения к Оккаму, термин умножил сущности, призывая остальных этого не делать. Придётся теперь жить с этим.
Русский язык в согласии с Уильямом Оккамским никогда не использует два разных слова для обозначения одной и той же сущности. Даже если кому-то покажется, что разные слова значат одно и то же, пусть обязательно вникнет в суть: в них обязательно найдётся разница.
Приведу пример. Слова «мамочка» и «мамуля» с виду значат одну и ту же уменьшительно-ласкательную форму слова «мама». Однако первое может быть употреблено применительно к любой маме, а второе – только к чьей-то конкретно. Видя во дворе незнакомую даму, мы говорим: «Какая заботливая мамочка!» Но чтобы сказать «мамуля», придётся уточнять: «Моя/твоя/Петина мамуля такая заботливая!»
Не успев толком начать говорить об управлении, я говорю о филологии. Потому что у языковедов есть такое понятие, как гипотеза лингвистической относительности, или гипотеза Сепира – Уорфа. Согласно ей, нормы культуры и поведения людей в значительной степени или полностью определяются языком, на котором эти люди говорят.
В последнее время лингвисты стали не так категоричны в этом вопросе, но по-прежнему не будет преувеличением сказать: мы – это то, что мы говорим