Паромщик бесплатное чтение
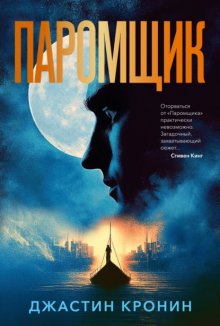
Justin Cronin
The Ferryman
Copyright © 2023 by Justin Cronin
All rights reserved
© И. Б. Иванов, перевод, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Азбука®
Томас Грей. Успехи стихотворства
- Пространства с временем пределы миновав,
- Узрев и трон живой в сапфировом сиянье,
- И лики ангелов в священном трепетанье,
- Все видел он; но свет ему пресытил очи,
- И затворилися они в безбрежье ночи.
Пролог
Она осторожно выбирается из дома и видит, как разгорается утренняя заря. Воздух прохладен и свеж; на деревьях щебечут птицы. Повсюду слышится звук моря – великого мирового метронома. Над морем раскинулось бархатное небо, полное гаснущих звезд. На ней лишь светлая ночная сорочка, в которой она идет по саду. В ее поступи нет нерешительности; она просто шагает, неторопливо, почти восторженно. Должно быть, сейчас она похожа на призрака, который одиноко проплывает среди цветочных клумб, журчащих фонтанов, живых изгородей, подстриженных не слишком аккуратно, так что есть опасность пораниться об острые кромки. Окна дома за ее спиной темны, а сам он похож на каменную глыбу. Но скоро те окна, что обращены к морю, наполнятся светом.
Нелегко покидать и жизнь, и этот дом. Каждая мелочь прочерчивает свою бороздку в том целом, что составляют запахи, звуки, ассоциации и ритмы. Скрипучая половица в коридоре второго этажа. Запах, в конце дня встречающий каждого, кто открывает входную дверь. Выключатель, который инстинктивно находишь в темной комнате. Она могла бы пройти по дому с завязанными глазами и не задеть ни одного предмета мебели. Двадцать лет. Если бы она смогла, то прожила бы здесь еще двадцать.
О своем решении она сообщила Малкольму после обеда. То был прекрасный обед с его любимыми блюдами: жареные бараньи ребрышки, ризотто с сыром, жареная спаржа в масле. И все это – под хорошее вино. На десерт – кофе и маленькие пирожные с кремом. Они решили пообедать на открытом воздухе, тем более что вечер был тихим и теплым. На столе – буйство цветов, до слуха доносится шелест волн, чем-то похожий на тиканье часов, пламя свечей придает особый оттенок их лицам. «Ты даже не узнаешь, когда это произойдет, – сказала она. – Я просто уйду». А затем она беспомощно смотрела, как он принял удар, закрыв лицо ладонями. «Так рано? Зачем именно сейчас?» И тогда она скомандовала: «Идем в постель». Тело скажет ему то, чего не в состоянии передать слова. Потом он плакал, лежа в ее объятиях. Ночь отсчитывала часы. Наконец он уснул, утомленный горем.
«Прощай, сад, – думает она. – Прощай, дом. Прощайте птицы, деревья и долгие, неспешные дни. И пока я еще здесь, прощай, вся ложь, которую я была вынуждена твердить».
Она стареет. И уже перепробовала все ухищрения, предпринимаемые женщиной в борьбе с возрастом. Кремы и экстракты. Многочасовые упражнения и строгие диеты. Небольшие косметические операции, совершающиеся втайне от Малкольма. Она применяла все доступные ей средства и способы, чтобы замедлить старение, но все имеет свой конец. Она решила дождаться, когда кто-нибудь выскажет это ей в лицо, и… Вот оно, как гром среди ясного неба.
– Синтия, ты следишь за собой?
Они только что закончили играть в теннис. Всегдашняя вторничная компания. Дюжина приятных женщин. После игры – чай со льдом и только легкие салаты, как бы голодны они ни были. Она играла неважно. По правде говоря, даже скверно. Саднящие колени замедляли движения, жгучее солнце высасывало силы. Руки и ноги чувствовали неумолимый ход времени – а судя по лицам и телам подруг, для них оно ползло с учтивой неспешностью.
Но ей задали вопрос. Подруга ждала ответа. Ее звали Лорелея Суон. Женщине было под шестьдесят, но выглядела она на тридцать: натянутая кожа, худощавые руки и ноги с красивыми мышцами, вылепленными на занятиях йогой, чудесные пышные волосы. Даже кисти рук Лорелеи выглядели отлично. Был ли вопрос подруги выражением искреннего беспокойства или имел более мрачный подтекст? Синтия знала, что такой день настанет, и все же была застигнута врасплох: готового ответа у нее не оказалось. Мозг лихорадочно заработал и быстро нашел ответ. Нужно обратить это в шутку.
– Поверь, была бы ты замужем за Малкольмом, тоже выглядела бы усталой, – сказала она подруге. – Он не принимает никаких «нет».
И Синтия захохотала, надеясь, что Лорелея последует ее примеру. После нескольких томительных секунд та действительно засмеялась, а за ней – и остальные женщины. Вскоре все заговорили о своих мужьях. Это было чем-то вроде пари; каждая повышала ставку, рассказывая свою историю. Они даже сравнивали нынешних мужей с бывшими, а также с любовниками: кто лучше и внимательнее в постели, кто выводит жену из себя, бросая потные беговые шорты на пол ванной, кто выдавливает зубную пасту из середины тюбика.
Времяпрепровождение вышло приятным. Все вели привычные женские разговоры. Однако Синтия чувствовала, как внутри ее что-то оборвалось и упало. «Ты следишь за собой?» Это упал острый нож.
«Прощай, все это, прощайте, все, кто создавал для меня видимость жизни».
И тем не менее она будет тосковать не по вечеринкам и концертам, не по мягкой коже ее туфель и сумочек, не по долгим обедам с прекрасной едой и таким же вином, не по многочасовым застольным разговорам. Совсем нет. Она будет скучать по своему мальчику. Она думает о двух днях, один из которых стал началом, а другой – концом. Первый – день, когда он появился в ее жизни. Синтия думала, что ничего не почувствует; усыновление питомца было обычным поступком для женщины ее положения. Питомец как бы становился предметом интерьера, наряду с диваном в гостиной или картинами на стенах. Правда, предметом живым, подвижным. «О, вы взяли себе питомца! – скажут в таком случае люди. – Представляем, как вы взволнованы!» Разумеется, поначалу они увидели его на фото. Такие поступки не совершаются вслепую. Однако стоило Синтии увидеть его стоящим у перил паромной палубы, как в ней что-то изменилось. Мальчик оказался выше, чем она себе представляла: не меньше шести футов. Из-за нелепой одежды, плохо сидевшей на нем и напоминавшей пижаму или облачение хирурга, он казался еще выше. Во взглядах остальных питомцев сквозили рассеянность и безразличие, а ее мальчик вертел головой, глядя на собравшихся, здания города и даже на небо. Он запрокидывал голову, подставляя лицо солнцу. Синтия сразу обратила внимание на ужасную стрижку. Казалось, им занимался слепой парикмахер. Это она исправит сразу же. У мальчика должна быть подобающая прическа.
– Как по-твоему, это он? – спросил муж и, не дождавшись ответа от Синтии, обратился к сопровождавшему их агенту по усыновлению. – Это и есть наш сын?
Однако Синтия почти не обращала внимания на происходившее вокруг. Голос мужа, шум толпы, солнце, небо и море – все меркло по сравнению с этой неожиданной, яркой реальностью: мальчиком. В ее мозгу замелькали вопросы. Какую еду он будет предпочитать, какую одежду? Какую музыку будет слушать, какие книги читать? И почему ее вдруг начали волновать подобные вопросы? Он появился в ее жизни благодаря обычной бюрократической процедуре. Отчего же она вдруг почувствовала внезапную нежность к мальчишке, с которым еще не перемолвилась ни словом? Паром пришвартовался к причалу. Питомцы собрались у сходней. Участок причала, куда им вскоре предстояло спуститься, был отгорожен канатом, заходить за который приемным родителям не разрешалось. Мальчик – ее мальчик – стоял в очереди первым. («Ее» мальчик? Неужели это произошло так быстро?) Он размеренно спускался по сходням, глядя вперед и держась обеими руками за перила. Так, наверное, выходят из космического корабля на поверхность чужой планеты – настолько методичными были его движения. На причале мальчика встретили мужчина в темном костюме, с планшетом в руке, и женщина в белом халате, державшая наготове ридер. Мужчина в костюме молча закатал мальчику рукав и стал придерживать его руку. Его помощница – вероятно, врач – подсоединила провода к портам на персональном мониторе своего начальника. Последовала пауза. Врач проверяла показания. В толпе перешептывались, ожидая результата. Наконец женщина подняла голову и громко произнесла:
– Прошу приемных родителей подойти!
Агент по усыновлению отцепил канат. Синтия и Малкольм пошли навстречу мальчику. Тот устремился к ним. Все трое встретились в пустом пространстве между толпой и сходнями. Мальчик заговорил первым.
– Как поживаете? – спросил он и тепло улыбнулся. – Я – Проктор, ваш питомец.
Он протянул руку. Жест был не совсем естественным. Чувствовалось, что будущих питомцев специально учат этому.
– Ну вот мы и встретились, сынок, – сказал муж Синтии и, улыбаясь во весь рот, дружелюбно пожал мальчику руку. – Рад наконец-то увидеть тебя воочию.
– Привет, папа, – ответил мальчик, затем повернулся к Синтии и тоже протянул руку. – А ты, должно быть, моя мама. Я очень счастлив познакомиться с вами обоими.
Познакомиться с вами! Синтия чуть не засмеялась. Но причиной было не пренебрежение, а искреннее удовольствие. Какой же он вежливый! Как он стремится быть хорошим, понравиться им, превратить их супружескую пару в полноценную семью! И это имя – Проктор. Оно происходило от латинского «procurator» (об этом Синтия узнала потом; ее муж был сведущ в подобных вещах) и в переводе означало «служитель» или «управляющий». Человек, управляющий делами других. Как замечательно! Синтия не стала пожимать ему руку, а взяла ее в свои ладони, ощущая тепло и пульсацию жизни. Потом заглянула ему в глаза. В них было что-то такое… Что-то иное… душевное. «Интересно, каким он был в прежней жизни? – невольно задумалась Синтия. – Чем занимался? Кем были его друзья? Сколько у него было жен?»
Был ли он счастлив?
– Синтия, выпусти руку нашего мальчика.
Тогда она засмеялась и убрала руки. «А ты, должно быть, моя мама». Он был всего лишь мальчишкой, заново родившимся в этом мире. Пусть и ростом шесть футов, но все равно мальчишка. А она станет его матерью.
«Так и есть», – думает она, идя по лужайке, спускающейся к проходу. Небо светлеет. Звезды полностью исчезли, на горизонте появилась разгорающаяся полоска света. В тот день Синтия приняла Проктора в свое сердце. И не только она, Малкольм тоже. Этот суровый мужчина с его моральными принципами, этот любитель правил и протоколов… Казалось, над его жизнью взмахнули волшебной палочкой, и большая деревянная кукла, которой был Малькольм, от внезапного прилива любви превратилась в живого человека. Как замечательно, по-мужски, улыбался Малкольм, пожимая руку Проктору! Какой радостью сияли его глаза, когда он показывал мальчику комнату, в которой тот будет жить: кровать из тикового дерева, секретер, картины с изображениями кораблей на стенах, старый телескоп на треножнике, повернутый в сторону моря. А во время их первого семейного обеда муж делал все, чтобы их сын почувствовал себя дома, не знал, чем еще угостить Проктора, и терпеливо учил его пользоваться вилкой и ножом. В конце этого удивительного дня Малкольм на цыпочках вышел из комнаты сына и тихонечко прикрыл дверь. Увидев в коридоре Синтию, он приложил палец к губам: «Тише, не разбуди». Могла ли она не проникнуться искренними чувствами к такому мужчине?
И второй день, через несколько лет. Давным-давно Синтия услышала слова о любви и готовности отпустить того, кого любишь. Слов она не запомнила, только общий смысл. Потеря – это часть «бухгалтерии» любви, ее единица измерения. Подобно тому как фут состоит из дюймов, а ярд – из футов, любовь состоит из потерь. Проктор только что поступил в университет: то был год его триумфа, когда у него проявился особый дар. Он просил Синтию не ходить, чтобы он не нервничал, но она все равно пришла и забралась на последний ярус трибун, опоясывающих бассейн, рассчитывая остаться незамеченной. Воздух был теплым и влажным. Звуки, раздававшиеся под сводами бассейна, оглушали и сбивали с толку. Далеко внизу блестел идеально ровный прямоугольник неестественно-голубой воды. Синтия ощущала нараставшую тяжесть в груди, рассеянно следя за состязаниями в других видах плавания, пока очередь не дошла до ее мальчика. Заплыв на сто метров вольным стилем. Внешне Проктор выглядел так же, как остальные пловцы: облегающий костюм, очки, серебристая шапочка. Казалось, все они одинаковые, но только он был ее мальчиком и выделялся, как и в тот день, когда она впервые увидела его на палубе парома. Проктор стоял у кромки воды, делал разогревающие движения руками и вращал шеей. Наблюдая за ним, Синтия испытала странное чувство расширения, словно он был продолжением ее самой, колонией или форпостом. Он немного попрыгал, надул щеки и нервно выдохнул. Синтия поняла: сын погружается в себя, как человек, входящий в транс.
По сигналу судьи пловцы заняли места на стартовых тумбах и все как один низко нагнулись, коснувшись пальцами ступней. Зрители напряглись. Пловцы застыли. Секунды казались вечностью. Затем пропела труба; десять молодых, крепких тел взлетели в воздух и скрылись под водой.
У Синтии екнуло сердце.
Ее мальчик плыл по третьей дорожке. Он долго скользил под водой, прежде чем его голова появилась на поверхности. К этому времени Синтия уже стояла на ногах и орала как сумасшедшая: «Давай, давай!» Каждый взмах длинных рук Проктора толкал его вперед, словно сопротивления воды не существовало. Заплыв длился считаные секунды, но Синтии они показались бесконечными. Проктор достиг конца бассейна, перевернулся и поплыл обратно. Два взмаха – и он уверенно вырвался вперед. Вот-вот случится казавшееся невозможным. Синтия кричала во все горло, сердце летало, заряженное адреналином. На ее глазах сын переживал главный момент своей жизни.
Синтия даже не заметила, как окончился заплыв. Проктор коснулся стенки бассейна, а через мгновение оттолкнулся, чтобы взглянуть на табло, где появились его имя и цифры, показывавшие время. Цифры говорили о том, что он победил. Он ликующе вскинул руку и потряс сжатым кулаком, сияя от неподдельной радости. Тогда Синтия еще не знала, что он не только выиграл заплыв, но и установил новый рекорд для стометровки: на две десятых секунды быстрее предыдущего рекордсмена. Соперник Проктора, плывший по соседней дорожке, поздравил его с победой, ударив по растопыренной ладони.
Потом сын отошел, задрал голову и стал внимательно оглядывать трибуны. И вдруг Синтия поняла: его протесты были уловкой. Проктор с самого начала знал, что она придет в бассейн. Ей подумалось, что эта победа – подарок, который он сделал ей. Но едва она встала, чтобы крикнуть ему с высоты, как к кромке бассейна подскочила девушка, сидевшая в другом ряду. Проктор быстро вылез из бассейна, одним движением стянув с себя очки и шапочку. Девушка бросилась к нему и оказалась в его объятиях. Она висела на шее рослого Проктора, не доставая ногами до пола. Никто из них даже не замечал этого; оба были поглощены друг другом. А потом он крепко поцеловал ее, без всякого стеснения. Поцелуй был долгим; зрители на трибунах одобрительно кричали и свистели.
Разумеется, среди зрителей были и девушки. Странно, если бы Проктор не нравился им. Высокий, широкоплечий, улыбчивый. Во время разговора он всем своим видом показывал, что внимательно слушает собеседника, а не просто ждет своей очереди поговорить, чем обычно грешат парни. Иными словами, он обладал многими качествами, которые привлекают девушек.
Но эта девушка, судя по поцелую, была не просто зрительницей. Тогда почему дома Проктор ни разу не обмолвился о ней? Ответ был очевидным: такая мысль просто не пришла ему в голову.
Синтия поспешно покинула бассейн. Ее сильно трясло. Она чувствовала себя покинутой, оставленной. Ее мальчик – больше не мальчик; он занял свое место за столом жизни. Когда она выходила из здания, послеполуденное солнце ослепило ее, как луч прожектора. Ощутив резь в глазах, она полезла в сумку за солнцезащитными очками. Она всегда держалась слегка отстраненно, ведь конец был предопределен с самого начала, подобно тому как в первом такте симфонии содержится завершающая нота. Однако Синтия оказалась неподготовленной к событию, которое только что пережила, к тому, что чувствовала в эти минуты. Да, любовь сделала ее лгуньей! От этой мысли из глаз брызнули слезы. Синтия сбежала со ступенек крыльца, пересекла стоянку и двинулась по шумным городским улицам. Одна.
Теперь все это в прошлом; все это утрачено.
В конце причала ее ожидает ялик. Синтия спускается в лодку, вставляет весла в скобы уключин и отплывает. Солнце уже встало и растянуло свои розовые полоски над морской гладью. Ни малейшего дуновения ветерка. Пару минут она просто сидит, затем берется за весла и начинает грести, удаляясь от берега.
Причал, пляж, дюны, дом, где она прожила двадцать лет, – все уменьшается. Исчезают мелкие детали, пейзаж становится более обобщенным, а затем берег пропадает из виду. Через какое-то время полоса спокойной воды заканчивается. Океан вокруг лодки становится темным и необузданным. Солнце все сильнее греет ей шею. Ялик качается на волнах, то поднимаясь, то опускаясь.
Синтия ждет наблюдателя.
И он появляется. До ушей Синтии доносится негромкий гул, похожий на звук «в», если произносить его сквозь сомкнутые губы. Дрон со стрекозиными крыльями снижается, сбрасывает скорость и зависает над лодкой. Он весь похож на стрекозу, только механическую, ухитряется выглядеть одновременно естественным и рукотворным, а потому он не то и не другое. Синтия задирает голову и смотрит на дрон. На его сверкающем хромированном подбрюшье – стеклянный купол с камерой внутри.
Кто сейчас наблюдает за ней? Она представляет дежурного оператора в подвальном этаже Министерства общественной безопасности, сидящего перед целой стеной мониторов. Он дежурил всю ночь; в усталых глазах – болезненная сухость. Подбородок успел покрыться щетиной. Во рту – кислый привкус. Уложив ноги на стол, он разгадывает очередной кроссворд из сборника. И вдруг что-то заставляет его поднять глаза к мониторам. Что там такое? Женщина в весельной лодке, одна. Странно: ей вздумалось плавать в этот ранний час. И что за одежда на ней? Никак ночная сорочка? Оператор нажимает несколько клавиш. На втором экране, показывающем очертания побережья, появляется красная точка – местоположение дрона. Женщина в ночной сорочке отплыла от берега на три мили.
Оператор нажимает еще несколько клавиш. Система распознавания лиц выдает новую порцию данных. Он узнаёт имя женщины, имя ее мужа, ее адрес и возраст: пятьдесят один год. В прошлом она работала в Департаменте по правовым вопросам Коллегии по надзору. Активно участвует в деятельности Харбор-клуба, Юнион-лиги и Оперного кружка. За последние два года ей выписали шесть штрафов за неправильную парковку, все они оплачены. Далее следуют названия благотворительных организаций, которым она помогала, газеты и журналы, которые она читает, сумма на банковском счету, размер одежды и обуви (6, 8½), а также название ее любимого ресторана («Иль Форно» на площади Просперити; согласно данным ее кредитной карточки, она бывает там каждую неделю). Иными словами, оператору становится известно очень многое, однако ни одно из полученных сведений не дает ответа на вопрос, почему в этот июльский вторник в 6:42 (он проверяет время) женщина села в весельную лодку и удалилась от берега на три мили. Почему она в ночной сорочке. Почему одна.
Что это она делает?
Оператор трет глаза и придвигается ближе к монитору. Женщина достает из-под скамейки полотняный мешочек, быстро развязывает тесемки, извлекает три предмета и кладет их на скамейку возле себя. Металлический прут или штырь длиной около фута. Ножницы для резки проволоки. И нож в потертом кожаном футляре.
Оператор поднимает телефонную трубку.
Синтии хватает решимости на дальнейшие действия лишь потому, что она смотрит на происходящее глазами воображаемого дежурного оператора. Пока тот ждет ответа начальника и с возрастающим беспокойством смотрит на экран, она сует штырь себе в рот и закатывает рукав ночной сорочки, обнажая порт персонального монитора – маленький прямоугольник между локтем и запястьем. Затем берет нож. Оператор прикидывает на глаз длину лезвия. Дюймов шесть, с закругленным концом. Такими ножами чистят и потрошат рыбу. Синтия делает три глубоких вдоха, крепче сжимает рукоятку ножа и приставляет конец лезвия к ложбинке у края монитора. Дождавшись, когда лодка перестанет качаться на волнах, она вонзает лезвие в руку.
Из раны хлещет кровь. Синтию обжигает болью. У оператора нет звука, иначе он услышал бы сдавленные крики, сопровождающие вырезание монитора из тела. Какое счастье, что он ничего не слышит. Синтии немного жаль этого незнакомого человека, по чистой случайности вынужденного следить за ужасной сценой. Нож огибает монитор по периметру; сорочка, скамья и дно лодки обильно залиты кровью. Синтия мотает головой от боли. Кажется, она сломала себе зуб. Наконец лезвие уходит под монитор. Слышно, как рвутся нити датчиков, затем раздается глухое бульканье: монитор отделен от руки.
«Да возьми же трубку! – слушая длинные гудки, бормочет оператор. – Возьми трубку! Слышишь?»
Синтия дважды щелкает ножницами и бросает монитор за борт. Туда же летит вытащенный изо рта штырь. Перед глазами вспыхивают яркие точки, похожие на танцующих светлячков. Дышать становится тяжело. Собрав остатки сил, Синтия идет к носу лодки и снимает якорь с держателя.
Потом начинает обвязывать якорный канат вокруг лодыжки.
В этот момент начальник дежурного оператора наконец-то отвечает на звонок. «Что такое? – резко спрашивает он. – Что еще приключилось? Почему вы звоните мне в такую рань?»
Но оператор не отвечает. Он не в состоянии произнести ни слова.
Синтия выпрямляется. Окровавленная сорочка липнет к телу. Лодку сильно качает на волнах, и Синтия едва не падает. Руки и ноги не слушаются ее. Голова стала легкой, как воздушный шарик. И все же она находит силы, чтобы поднять якорь и прижать его к груди.
Она запрокидывает голову. Над ней, на фоне голубого утреннего неба, висит дрон.
О чем она сейчас думает? Дежурный оператор не знает этого и даже не может вообразить. Она думает о мужчине и мальчике, оставшихся дома, о том, что их семейная жизнь оказалась такой короткой. «Прощайте, – шепчет она. – Прощайте, мои дорогие. Мне не надо было любить вас, но я любила. Любила». Прижав якорь к груди, нежно, как мать – дитя, она закрывает глаза, изгибаясь, наклоняется назад и падает в воду.
Часть первая
Последний прекрасный день
1
Сон всегда был один и тот же.
Я плаваю в море. Удерживая дыхание, я плыву под водой, мчась сквозь этот текучий зеленовато-голубой мир. От рук и ног исходит ощущение чистоты и силы, мои взмахи мощны, но я это делаю без усилий. Далеко вверху, на поверхности, искрятся солнечные блики.
Оставляя за собой цепь пузырьков, я поднимаюсь на поверхность. Солнце заходит, протягивая красные и оранжевые полосы на фоне пурпурного небосвода. Меня влечет неведомая сила. Мои действия нельзя назвать произвольными или непроизвольными; они просто совершаются. Я удаляюсь от берега. Быстро темнеет, и я вдруг с ужасом ощущаю, что совершил ошибку. Все это – громадная ошибка. Я поворачиваюсь к берегу. Нигде ни огонька. Суша исчезла. Охваченный паникой, я отчаянно молочу по воде, напрочь потеряв ориентацию. Я один в безбрежном море.
– Проктор, тебе нечего бояться.
Рядом со мной плывет женщина. Ее движения размеренны. Она держит голову над поверхностью воды; так плавают тюлени. Я не вижу ее лица; голос мне незнаком. Однако в ней есть что-то, наполняющее меня великим спокойствием, словно все это время я ждал ее и она наконец появилась.
– Нам не придется долго плыть, – мягким голосом говорит она. – Я буду показывать тебе направление.
– Куда мы поплывем?
Она не отвечает и уплывает вперед. Я следую за ней. Ветра нет, течения тоже. Поверхность моря неподвижна, как камень; слышатся лишь негромкие всплески от наших гребков.
– Видишь? – спрашивает она, указывая на небо.
Там появилась яркая звезда, заметно отличающаяся от прочих. Она ярче других, лучше видна и имеет голубоватый цвет.
– Проктор, ты помнишь эту звезду?
Помню ли я? Мои мысли путаются; они похожи на короткие соломинки, несомые потоком воды. Они перепрыгивают с места на место. Я думаю то об океане и его равнодушных черных просторах, то о звезде, пронзающей небо, словно луч прожектора. Все это мне известно и в то же время нет; все знакомое – и совершенно чужое.
– Ты озяб, – говорит женщина.
Так оно и есть. У меня дрожат руки и ноги, а зубы выстукивают барабанную дробь. Она плывет рядом.
– Возьми меня за руку, – предлагает она.
Оказывается, я уже держу ее за руку. У нее теплая кожа, которая словно живет своей жизнью и оттого пульсирует. Потрясающее ощущение, сильное, как приливная волна. Мое тело окутывает другая волна – волна нежности. Возникает чувство родного дома, возвращения домой.
– Ты готов?
Она поворачивается ко мне. На мгновение я вижу ее лицо, но все происходит слишком быстро, и ее облик не успевает запечатлеться у меня в памяти. Потом ее губы приникают к моим, и она целует меня. Сквозь меня проносится вихрь ощущений. Кажется, будто разум и тело вдруг соединились с беспредельными силами. «Это и есть чувство любви, – думаю я. – Когда же мы разучились любить?» Женщина обнимает меня, прижимая мои руки к моей груди. В этот момент до меня доходит, что вода меняет свойства. Она становится менее плотной.
– Проктор, пора просыпаться.
Я лихорадочно бью руками и ногами, чтобы удержаться на плаву. Без толку. Кажется, будто я ударяю по воздуху. Что-то крепко держит меня, и я едва могу шевельнуться. Море исчезает, раскрываясь, словно пасть. Ужас сжимает мне горло, не позволяя закричать…
– Посмотри вниз, – шепчет мне на ухо женщина.
Я смотрю и одновременно ныряю. Мы оба ныряем в безграничную черную бездну.
Последнее, о чем я успеваю подумать: «Море полно звезд».
Меня зовут Проктор Беннет. А теперь о том, что я называю своей жизнью.
Я – гражданин островного государства Проспера. Острова нашего архипелага расположены далеко от материков. Удаленная от остального мира, Проспера живет в гордом одиночестве. Ее климат, как и все остальное, исключительно благоприятен: теплое солнце, прохладные ветры с океана и частые ласковые дожди. Первый остров имеет то же название, что и весь архипелаг, – Проспера[1]. Его очертания напоминают не слишком правильную окружность. Площадь острова – четыреста восемьдесят две квадратные мили. На нем живут все просперианцы. Береговая линия Просперы сверкает чистым белым песком, леса полны зверей и птиц, а почва в долинах исключительно плодородна. Кому-нибудь наш остров покажется первозданным раем, но это, конечно, не так. Второй остров называется Аннекс. Там живут те, кто обслуживает просперианцев: мужчины и женщины, чьи биологические и социальные показатели ниже наших, что, как я заметил, не мешает им быть вполне довольными своей участью. Площадь Аннекса вчетверо меньше. Он соединяется с нашим островом понтонным мостом, по которому весь этот разнообразный и необходимый обслуживающий персонал приезжает на Просперу и возвращается обратно.
Третий и последний остров архипелага сильно отличается от двух упомянутых выше. О нем мы почти ничего не знаем, за исключением того, что он существует. Официально он называется Детским островом, но за ним прочно закрепилось название Питомник. Это остров-крепость, почти со всех сторон окруженный мелководьем и высокими скалами, выступающими из воды. Единственный проход позволяет добраться до восточного побережья острова. По этому проходу и движется паром. Каждый просперианец за свою итерацию дважды совершает путешествие на пароме: в начале и в конце. О населении Питомника я ничего не знаю, хотя оно наверняка есть. Некоторые считают, что там живет сам Дизайнер, наблюдая за процессом регенерации, являющимся основой нашего образа жизни, ни на что не похожего.
Живя на изумительном острове, не зная нужды и прочих тягот, просперианцы посвящают себя высшим устремлениям. Творческое самовыражение и достижение личного совершенства – вот краеугольные камни нашей цивилизации. Мы – общество музыкантов и художников, поэтов и ученых. Добавьте к этому многочисленных дизайнеров, модельеров, создателей уникальных вещей и уникальных зданий. Одежда, которую мы носим, пища, которую мы потребляем, спектакли, концерты и выставки, которые мы посещаем, места, где мы отдыхаем и восстанавливаем силы, – все стороны нашей повседневной жизни являются предметом пристального внимания кураторов. Можно сказать, что и сама Проспера – произведение искусства, холст, на котором каждый гражданин стремится оставить свой неповторимый мазок.
Что с нами произошло? Как мы очутились на архипелаге? Вряд ли я отвечу на эти вопросы, поскольку мои познания скудны. Сейчас нелегко даже выяснить, в каком году все это началось. А если спросить нас, что́ мы знаем о нынешнем состоянии остального мира, ответ будет коротким: ничего. Архипелаг окружает Завеса – электромагнитный барьер, скрывающий нас от мира и мир от нас, поэтому мы избавлены от гнетущих новостей. Впрочем, несложно вообразить, в чем погряз мир за пределами Завесы. Войны, эпидемии, голод, экологические катастрофы, волны неуправляемой миграции, фанатизм всех цветов и оттенков. Цивилизация, развитие которой пошло вспять. Люди, что поклоняются соперничающим богам, ведут войну: все против всех. Все эти конвульсии угасающей цивилизации и побудили Дизайнера – давным-давно – построить наше тайное святилище. Мы почти никогда не говорим о подобных вещах, именуемых одним словом – «ужасы», поскольку не видим в этом смысла. Скажу лишь, что гений Дизайнера создал Просперу с единственной целью: оградить лучшую часть человечества от худшей.
Уезжать с Просперы, естественно, запрещено. Если остальной мир узнает о нас, само наше существование окажется под угрозой. Но кому в здравом уме придет мысль уехать отсюда? Время от времени появляются слухи о каком-нибудь глупце, решившем отправиться за Завесу. И всегда таким глупцом оказывается кто-нибудь из жителей Аннекса. А поскольку никто не вернулся обратно и тайна нашего существования сохраняется, можно предположить, что авантюры этих нарушителей спокойствия окончились крахом. Возможно, они утонули в океане. Возможно, не нашли себе нового пристанища, поскольку прежняя цивилизация полностью вымерла. Есть и такое, весьма распространенное мнение: беглецы достигли края земли и сгинули в небытии.
Теперь расскажу о себе. В нынешней итерации мне сорок два года. (Возраст просперианцев отсчитывается с шестнадцати лет. Итеранты, сходящие с парома, примерно соответствуют этому биологическому возрасту.) Мной заключен гетеросексуальный брачный контракт – на пятнадцать лет, с возможностью продления. После восьми лет совместной жизни могу сказать, что мы с Элизой вполне счастливы. Конечно, мы уже не те пылкие любовники, как в начале, когда нам было не разлепиться. Но со временем чувственная сторона брака становится не слишком важной, и если между партнерами не возникло осложнений, их отношения становятся очень комфортными. Именно так и произошло у нас. Дом, в котором мы живем, оплатили приемные родители Элизы. Такую роскошную постройку не возведешь на мое скромное жалованье государственного служащего. Мы живем на южном побережье Просперы. Дом стоит на каменном мысу. Элиза никогда не была так глубоко погружена в свою стихию, как в те два года, пока длилось строительство. Каждый день она часами общалась с целой армией архитекторов, дизайнеров и строительных рабочих, вникая в самые мельчайшие детали. Признаюсь, что мой интерес был не таким острым. У меня нет свойственного Элизе художественного чутья. Я был вполне доволен тем, что дом находится недалеко от города. Меня также донимало вмешательство ее приемных родителей, особенно матери, в нашу совместную жизнь. Но Элиза счастлива, что у нас такой дом, а я радуюсь тому, что она счастлива. Здесь протекает наша жизнь – под шелест ветра в пальмовых ветвях и шум белогривых волн, накатывающих на пляж.
Я работаю управляющим директором Шестого округа Департамента социальных контрактов, отдел правоприменения. Кто-то считает мою работу нервной и даже жутковатой. Меня часто называют паромщиком, и я с гордостью ношу это звание. Иногда колесикам эмоций для бесперебойной работы требуется смазка. Этим я и занимаюсь. Например, пожилые граждане, страдающие нарушениями психики – нередкими в последние годы итерации, – никак не соглашаются на заключение контракта. Порой возникают весьма непростые ситуации. Но большинство людей, даже если они сопротивляются мысли о переменах, удается убедить в правильности такого шага. Ведь им предлагают совершить путешествие в новую жизнь; избавиться от тягот прежнего существования и очистить «жесткий диск» памяти, чтобы родиться безупречно здоровым подростком с румяным лицом и незамутненным взглядом на мир. Казалось бы, кто не захочет родиться заново?
И тем не менее…
Порой в мозгу всплывают вопросы, и человек смотрит на жизнь под другим углом. Он думает об обслуживающем персонале, который у нас принято называть штатом помощников. Как разительно их жизнь отличается от нашей! У них нет итераций. Они рождаются так, как рождались наши предки, будучи при появлении на свет мокрыми, орущими, ничего не соображающими комочками. Они живут всего один раз, подстегиваемые неумолимым временем. Их дни проходят в усердной работе, результаты которой видны сразу (свежескошенная лужайка; начищенная кухня, где царит стерильность, как в операционной; поле, которое засеяли, затем убрали урожай и засеяли снова). Они рожают детей, те растут у них на глазах, а потом начинают самостоятельную жизнь. Так проходят пятьдесят, шестьдесят, семьдесят лет, наконец их жизнь обрывается, и они уходят в небытие.
А еще они верят в Бога, тогда как никакого Бога нет.
При абстрактном сравнении может показаться, что их жизнь куда ярче нашей. Я даже чувствую укол зависти. Но потом начинаю думать о постоянных трудностях и тяготах, сопутствующих ей. Любовь может окончиться разочарованием. Дети иногда отправляются в могилу раньше родителей. Быстрые биологические изменения разрушают тело. Добавьте к этому череду болезней. Людей из обслуги не ждет блаженство реитерации, новой жизни не будет, а нынешняя приносит сплошные потрясения и разочарования. Стоит подумать об этом, и зависть угасает.
Что остается? Бесконечность прекрасных дней и мечта, где я, в объятиях любви, устремляюсь к звездам.
Это было не так давно, в среду. Одна из июньских сред, и дело не в дате, а в том, что этот день пришелся на среду. Скомканные, мокрые от пота простыни; воображаемые ночные ужасы (море, звезды) растворяются; утренний свет со стороны моря наполняет спальню, словно золотистый газ. Я, Проктор Беннет – просперианец, муж, паромщик, – открываю глаза и сразу понимаю, что в доме пусто. Встаю, потягиваюсь, надеваю халат, сую ноги в шлепанцы и иду на кухню, где Элиза оставила для меня кофе в кофеварке. Дверь, ведущая в патио, открыта, и оттуда струится прохладный океанский воздух. Я наливаю кофе, добавляю молока и иду наружу.
Какое-то время я просто стою и смотрю на море. Я издавна привык начинать свой день с неспешного стояния, чтобы разум избавился от остатков сновидений в удобном для него темпе. Иногда сон исчезает мгновенно, словно лопнувший мыльный пузырь. В такие дни я недоумеваю: действительно ли я видел это или попросту вспоминал сновидения других ночей? Но иногда сон застревает в мозгу, становясь как бы вторым слоем реальности, и я знаю, что сцены из него еще долго будут окрашивать мои дневные эмоции.
Сегодня как раз такое утро.
Я всегда был сновидцем – человеком, который видит сны. Как правило, гражданам нашего мира это несвойственно. Есть распространенное мнение, что сны являются побочным продуктом промышленного загрязнения, когда-то накрывшего планету, хотя я бы не назвал этот продукт таким уж нежелательным. Если бодрствование доставляет нам столько удовольствия, почему мы должны испытывать потребность в историях из снов с их изматывающими поворотами? Я сказал, что просперианцы не видят снов, но это не совсем верно. Самые старые видят их. В своей профессиональной деятельности я часто сталкивался с последствиями этого. Беспокойные ночи, странные видения, постепенно наступающее расстройство мышления и, наконец, соскальзывание в лунатизм, который вызывает болезненные ощущения даже у стороннего наблюдателя. Раз уж я заговорил о своей профессии, добавлю: мы стараемся не допускать, чтобы процесс зашел слишком далеко, но это не значит, что мы предотвращаем все случаи лунатизма.
Мне удалось свести к минимуму роль снов в моей жизни, однако так было не всегда. Будучи юным питомцем, я страдал от сновидений такой силы, что они поднимали меня с кровати, заставляли бродить по дому в полубессознательном состоянии и совершать немыслимые и необъяснимые поступки. Я открывал все краны подряд. С каким-то ожесточением ломал светильники. Однажды сделал себе сэндвич с маслом и джемом и зачем-то выбросил его из окна. (За всем этим наблюдал мой отец. Мои приемные родители старались не вмешиваться, кроме тех случаев, когда я мог, по их мнению, покалечиться.)
Сейчас воспоминания о тех ночах вызывают у меня усмешку, а тогда мне было не до смеха. Кончилось тем, что мои ночные художества всерьез надоели родителям и мама повезла меня к врачу. С того момента, как я покинул паром, прошел всего год или два. Мир по-прежнему манил меня новизной. Все мои путешествия сводились к поездкам в Академию раннего обучения и обратно. Я еще толком не видел острова. Автобус вез нас вглубь Просперы, двигаясь по извилистому загородному шоссе среди возделанных полей и фруктовых садов. Маршрут окончился в каком-то глухом месте, около неприметного здания. К этому времени в автобусе остались только мы. Здание представляло собой бетонный куб. Правда, общее впечатление скрашивали цветущие кусты и мягкая зеленая лужайка, все еще влажная после ночного дождя. В приемной какая-то женщина спросила наши имена и предложила подождать, хотя никого, кроме нас, не было. Мое приподнятое настроение, вызванное новыми впечатлениями, постепенно переходило в беспокойство. Наконец мной овладела настоящая тревога. Я понимал, что мы приехали сюда из-за моих сновидений. Я вовсе не был в восторге от них. Меня глубоко тревожили разрозненные картины и вызываемые ими сильные эмоции. Но еще больше меня пугала мысль о том, что я разочаровал приемных родителей: мне очень не хотелось этого. Я сидел в комнате ожидания, и мои страхи густели, как остывший суп. Мелькнула пугающая мысль: я – обуза для родителей. Если я не перестану видеть сны, они вернут меня на Питомник. Поскольку я не оправдал их ожиданий, меня обменяют на более подходящего парня, как в магазине обменивают неудачно выбранный подарок.
Наконец дверь врачебного кабинета открылась. Нас встретила молодая женщина в белом халате: голубоглазая, с каштановыми волосами, скрепленными серебряной заколкой. Она представилась – «доктор Пэтти» – и пригласила нас войти. Кабинет был таким же унылым, как и здание. Ничего лишнего. Окон тоже не было. На стенах – ни одной картины или какой-нибудь декоративной безделушки. Только смотровой стол, обитый кожей, стеклянный шкаф с инструментами и стул для моей матери. Доктор Пэтти попросила меня снять рубашку и сесть на стол. Начался осмотр. Она проверила мой монитор, прослушала сердце и легкие, проверила глаза, состояние носа и рта. Потом перешла к цели нашего визита. «Значит, тебе снятся сны?» – спросила она. (Я кивнул.) «Как часто это происходит?» (Я не знал. Очень часто.) «Можешь ли ты вспомнить какие-нибудь особенности этих снов?» (Было ли мне страшно от них?) Все ответы врач заносила в мою карточку. Туда же она записала – с маминых слов – историю с выброшенным сэндвичем. Я сидел как на иголках, готовый расплакаться. Я считал себя настолько виноватым, что почти не сомневался в исходе: из кабинета доктора Пэтти меня отправят прямо на паром и моя жизнь кончится, едва успев начаться.
Однако страхи оказались напрасными. Доктор Пэтти отложила карточку и ободряюще посмотрела на меня. «Вряд ли есть основания для беспокойства», – заявила она. Конечно, в моем возрасте такие сны бывают очень редко, но аналогичные случаи известны. В первые годы новой жизни сознание может выбрасывать на поверхность осколки прежней итерации. Они проявляются по-разному, иногда в виде ночных происшествий, как у меня. Доктор Пэтти посоветовала мне думать о них не как о снах, а как о своеобразных отзвуках. Источника звука уже нет, а сам он остался, отражаясь в разуме до тех пор, пока не исчезнет.
Надо отдать ей должное: в дальнейшем все происходило примерно так, как сказала она. В последующие месяцы сновидения становились все более редкими, а затем и вовсе прекратились. К этому времени я уже поступил в университет и вообще перестал думать о них. Вся история казалась не более чем причудливым эпизодом первых лет итерации, поводом для шуток после второй порции коктейля или третьей рюмки вина. «Проктор, а расскажи-ка про сэндвич с джемом! Должно быть, родители подумали, что ты спятил!»
Во всяком случае, так мне тогда казалось.
Но мои воспоминания о том утре простирались дальше. Мы с мамой вернулись на автобусную остановку. Объяснения доктора Пэтти я понял лишь частично (отзвуки в голове?), но испытал невероятное облегчение. Врач признала меня нормальным, а значит, мне не грозит возвращение на Питомник. Эта мысль заметно повлияла на мое настроение, которое вновь стало приподнятым. Хотелось шутить и смеяться. Однако мама оставалась молчаливой и не разделяла моей радости. Мы уселись на скамейку. Я пытался расшевелить ее с помощью потока оптимистичных фраз, но безуспешно. Наконец она повернулась в мою сторону и окинула меня долгим, испытующим взглядом.
Мама, красивая женщина, была намного моложе отца. Гладкое лицо с едва заметными морщинками в уголках глаз и рта. Темно-каштановые волосы, блестевшие на солнце. Честно говоря, я почти ничего о ней не знал, даже не мог сказать, был ли отец ее первым мужем. (У отца до встречи с мамой уже было три брачных контракта.) При мне она ни разу не упомянула о своих приемных родителях, как и о ранних годах итерации. Ее окружала атмосфера какой-то мечтательной таинственности. Она была из числа тех женщин, о которых хочется узнать побольше. Почти все говорили, что она обладает особым свойством: способностью излучать счастье. Вряд ли она была счастлива сама: сейчас я сомневаюсь в этом. Просто само ее присутствие пробуждало в других добрые чувства. То был особый дар, и я готов это подтвердить.
Однако мамин взгляд там, на скамейке автобусной остановки, испугал меня.
– Ты ведь знаешь, что я тебя люблю? – спросила она.
День и так был полон странных событий, а эти слова… они показались мне самым странным из всего, что случилось. Никто из приемных родителей не говорил, что любит меня. Просперианцам несвойственна родительская любовь вроде той, что испытывают к своим биологическим детям жители Аннекса. Никто и не требовал такой любви. Возможно, со временем мы трое лучше узнали бы друг друга и наши семейные узы окрепли бы. Но я не видел оснований для того, чтобы родители любили меня.
– Ничего страшного, – добавила она, не дождавшись моего ответа; я не представлял, что ей ответить. – Я не собираюсь тебя смущать. Просто хотела сказать тебе об этом.
Какое там смущать! Я был ошеломлен. Почему мама заговорила со мной в столь доверительной манере и так, словно я уже взрослый? Да, мой рост достигал шести футов, но что я знал о жизни?
– Проктор, мне нет дела до того, что говорят другие. Если тебе снятся сны – это совсем неплохо.
– Ты так думаешь?
– По правде говоря, я считаю, что это замечательно. – Она наклонилась ко мне. – Поделюсь с тобой секретом. Ты не один такой.
– Не один? – растерянно переспросил я.
– Не один. Если хочешь знать, многие видят сны. Просто они не знают об этом.
Я задумался над ее словами. Мне стало любопытно, и я спросил:
– А ты? Ты видишь сны?
Она прищурилась, глядя вдаль, точно ответ на мой вопрос лежал где-то там.
– Иногда, – сказала она. – По крайней мере, я так думаю. Я просыпаюсь с этим… ощущением. Словно я куда-то путешествовала.
Я понял смысл ее слов: ощущение путешествия, перемещения из привычного мира в другой.
– Как ты думаешь, это хорошие сны? – спросил я маму.
– Не знаю, – слегка пожав плечами, ответила она и снова перевела взгляд на меня. – Проктор, очень важно слушать то, что тебе говорят во сне.
– Но я не помню тех, кто мне снится. И их слов тоже.
– Может, так оно и есть. Может, ты не вспомнишь это так, как вспоминаешь что-нибудь наяву. Но даже если не вспомнишь, эти слова останутся в тебе, в твоем сознании. Они – часть того, кем ты являешься.
– Я никогда не думал так о снах.
Мамино лицо стало еще серьезнее.
– То, о чем я говорила ранее, – не просто слова. Надеюсь, тебе суждено познать любовь и ты полюбишь кого-нибудь так же, как я люблю тебя. Всегда помни об этом. Хорошо?
Тогда я не подозревал об истинном смысле ее слов. «Настанет день, и я тебя покину» – вот что хотела сказать мама.
Шаги за спиной. Элиза возвращается из своей мастерской над гаражом. Мой кофе остыл. Я едва сделал пару глотков из кружки. Вхожу в дом. Элиза деловито ставит портфель на обеденный стол, быстро идет на кухню и открывает холодильник.
– Вот ты где, – говорит она, обращаясь непонятно к кому.
Ее кожа сияет, глаза сверкают, движения энергичны. Чувствуется, что утро было для нее продуктивным. Для этого дня она выбрала брюки стрейч и просторную блузку из хлопка. Косметики на лице чуть-чуть, да и та ей не нужна. Единственное украшение – серебряные браслеты, по нескольку на каждой руке. Элиза достает из холодильника то, что станет ее завтраком: морковь, сельдерей, листовой салат, витамин В и лимон.
– Тебе нужно что-нибудь съесть.
На этот раз ее слова обращены ко мне.
Даже по высоким стандартам Просперы моя жена – в высшей степени привлекательная женщина. Перед тем как стать кутюрье, она была очень успешной моделью. Особую известность ей принесло участие в кампании «Будь особенной», проведенной Департаментом образа жизни. Ее лицо украшало страницы журналов, ее здоровая искрящаяся улыбка виднелась на всех билбордах Просперы. Элизу до сих пор узнают: клиенты, гости на вечеринках и даже наш сантехник. Когда ее видят, у людей вспыхивают глаза. Бывают моменты вроде нынешнего, когда и у меня при взгляде на нее перехватывает дыхание.
– Проктор, ты меня слышишь?
Я выныриваю из транса.
– Прости, – бормочу я и поднимаю кружку. – Кофе великолепен. А есть что-то не хочется. На работе перекушу.
Элиза складывает в блендер продукты, предназначенные для завтрака.
– А что ты тут делал прошлой ночью?
– Делал?
Блендер вдруг оживает, оглашая кухню ревом, потом так же резко останавливается. Наступает пронзительная тишина. Элиза переливает содержимое блендера в высокий стакан.
– Я слышала, как ты чем-то громыхал. – Она пробует свою питательную смесь и покачивает стакан. – Часа в три ночи.
И так понятно, что ее слова вызывают у меня тревогу. Могу ли я соорудить правдоподобное объяснение? Сказать, что услышал шум и пошел проверить? Проснулся посреди ночи голодным и совершил набег на кухню? Меня разбудил дождь и я встал, чтобы закрыть окна? Насколько помню, этой ночью я спал как убитый.
– Должно быть, это из-за вчерашнего вина. В нем столько сахара. Заснуть не мог.
– Да, ты вчера перебрал. – Элиза проглатывает завтрак и ставит стакан в мойку. – Идем. Хочу кое-что тебе показать.
Мы идем в обеденную зону. Элиза достает из портфеля и раскладывает на столе четыре больших эскиза, выполненные пастелью. На каждом изображена женская фигура в платье для коктейлей. У платья высокая талия, короткие рукава и воротник-бабочка. Подол сильно плиссирован.
– Для нового сезона. – Элиза отходит от стола и встает, скрестив руки на груди. – Что ты думаешь?
Честно говоря, я ничего не думаю об этом платье. Эскизы жены абстрактны; мне не хватает воображения, чтобы их оживить. Как бы такое платье смотрелось на живой, а не на нарисованной женщине? Очень трудно сказать.
– Думаю, это просто потрясающе. – Я включаю улыбку внимательного мужа. – Наверное, лучшие из твоих фасонов.
– Которое?
– Что значит «которое»?
– Проктор, они сильно различаются между собой.
Да, мне так просто не отвертеться. Я внимательно рассматриваю эскизы, добросовестно выискиваю различия, но почти не нахожу их. Наконец я наугад тычу в один из рисунков:
– Вот это.
Элиза недоверчиво щурится:
– Почему?
Я впиваюсь глазами в выбранный мной эскиз:
– Думаю, из-за воротника. Он кажется мне более сдержанным.
– Проктор, все воротники одинаковы. Это единственная одинаковая деталь.
В воздухе повисает напряжение. Когда оно проходит, Элиза сердито начинает собирать эскизы в стопку.
– Возможно, я ошибся, – говорю я. – Давай взгляну еще раз.
Элиза мотает головой и, не взглянув на меня, запихивает эскизы обратно в портфель.
– Нет, когда ты прав, ты прав. Это полная чепуха.
– Элиза, я такого не говорил.
– Мне и без слов понятно. О чем я только думала? Даже не верится, что я все утро ухлопала впустую.
Говорить ободряющие слова и пытаться переубедить ее бесполезно. Прожив с ней почти десять лет, я понял, что подобные разговоры свойственны любой творческой натуре и не надо принимать их на свой счет. К полудню настроение жены опять поднимется, и она с воодушевлением возьмется за новые эскизы. Постоянная борьба с собственной неуверенностью – часть творческого процесса, она усиливает ликование Элизы, когда все идет как надо. (Наверняка так будет и в этот раз. Ее дизайнерские платья продаются в лучших магазинах, по очень высоким ценам.)
– Ну что ж… – почти безнадежно вздыхает она. – Пора переодеваться. Через час у меня фитнес, а в полдень – встреча с покупательницей. Даже не знаю, что ей показать. – Элиза настороженно смотрит на меня. – Знаешь, Проктор, иногда я всерьез беспокоюсь за тебя.
– За меня? С чего это?
– Даже не знаю, как это лучше выразить. С какого-то времени у тебя… у тебя словно что-то сбилось. Просыпаешься среди ночи, почти ничего не ешь, не следишь за собой.
– Со мной все нормально. Честное слово. Просто на работе дел по горло.
– Возможно, проблема именно в твоей работе. Наверное, настало время подумать о другом роде занятий.
И этот разговор мы ведем далеко не в первый раз.
– Я тебе говорил и могу повторить: мне нравится моя работа. Я нужен людям.
– И потому твой показатель – семьдесят семь процентов. Не пытайся это скрыть. Вчера, когда ты уснул, я проверила ридер. Ты оставил его в ванной.
Она говорит о показаниях моего персонального монитора, который есть у каждого просперианца: небольшое устройство на внутренней стороне руки, между локтем и запястьем. Проводки (каждый в десять раз тоньше человеческого волоса), пролегающие вдоль костей, соединяют его с комплексом датчиков в основании коры головного мозга. Монитор – главный инструмент для наблюдения за потоком жизни и ее превратностями. Это касается не только физического здоровья, но и множества других показателей, которые в совокупности отражают уровень нашего благополучия. Нам рекомендуют каждый вечер проверять этот уровень, выражаемый в процентах, хотя те, кто очень ответственно относится к своему здоровью, таскают ридеры с собой. Когда мне перевалило за тридцать, мой показатель стабильно держался на отметке восемьдесят пять (плюс-минус пара процентов), однако с недавних пор я стал замечать, что он стал падать, причем постоянно, и уже не доходит до прежнего уровня.
– Ты ведь не просто так оставил монитор, – продолжает Элиза. – Сдается мне, ты хотел, чтобы я его увидела.
– Не волнуйся. Показатель повысится. Я просто устал.
– И я о том же. Эта работа съедает тебя. Ты в таком состоянии, что больно смотреть.
– Чем, по-твоему, я мог бы заняться?
Лицо жены озаряется улыбкой. Она явно хочет меня подбодрить.
– Как насчет живописи? Думаю, у тебя это хорошо получалось. Или писательство. Ты как-то говорил о написании книги.
– Элиза, я никогда не говорил о написании книги.
Она шумно вздыхает. Какой же я несговорчивый муж!
– Ну тогда что-нибудь другое. А то все эти старики… Честное слово, дорогой, не знаю, как ты выдерживаешь их день за днем. – Элиза внимательно смотрит на меня. – Обещай мне, что покажешься Уоррену. Договорились? Тебе нужно просто пройти осмотр. Убедиться, что снижение твоих показателей не вызвано еще чем-нибудь.
Уоррен – мой друг с юных лет. Сейчас он занимает высокую должность в Министерстве благополучия. Назвать его врачом – все равно что назвать меня дорожным полицейским. Профессии родственные, но не тождественные.
– Элиза, ничем это не вызвано.
– Пусть он подтвердит твои слова. Проктор, я обеспокоена твоим состоянием. Тяжело видеть тебя таким. Сделай это хотя бы ради меня. Сделаешь?
Врачебное заключение о том, что я полностью здоров, по крайней мере, положит конец разговорам на эту тему.
– Думаю, это мне не повредит.
– Значит, ты покажешься Уоррену?
– Ладно, – киваю я. – Покажусь.
– Вот и хорошо. – Элиза торжествующе улыбается. Кто бы сомневался, что она в конце концов добьется своего! Она награждает меня торопливым поцелуем в губы. – И ради всего святого, Проктор, съешь что-нибудь на завтрак.
Она скрывается в спальне и незаметно выпархивает из дому. Сказано все, что можно, и мы оба знаем: ситуация вряд ли изменится. Да Элизе этого и не надо. Все заранее отрепетировано: Элиза проявляет заботу обо мне и, высказав свои мысли вслух, идет заниматься своими делами. По моему опыту, общение между людьми в немалой степени состоит из подобных обменов фразами. Это не столько разговор, сколько параллельное признание: оба по очереди произносят свои внутренние монологи, не слушая друг друга. В моем утверждении нет цинизма или намека на собственное превосходство. В этом я ничем не отличаюсь от других.
Но за разговором о моем здоровье кроется другая тема. Мы не обсуждаем ее, но с некоторых пор она начала угрожать нашему союзу: это вопрос об усыновлении (или удочерении) питомца. В отличие от обслуги с Аннекса, просперианцы не могут рожать детей. Стерильность – это побочный продукт реитераций. Она вызвана необходимостью поддерживать стабильную численность населения (как-никак мы живем на острове) и является весьма благотворной особенностью нашего образа жизни. Мы свободны в своих сексуальных связях и не тревожимся о последствиях; к тому же наши женщины не знают опасностей, связанных с деторождением, – таких, как порча фигуры. Но нас поощряют взять приемного сына или приемную дочь, и после восьми лет совместной жизни большинство супругов обычно задумываются об этом.
Однако у нас с Элизой все буксует. Обычно настойчивость проявляют жены, а мужья соглашаются, охотно или не очень. У нас же все наоборот: желание ввести в дом приемного сына или дочь исходит от меня. Я был удивлен тем, насколько сильным оно оказалось. Ничего подобного со мной раньше не случалось. Я помню, как оно возникло, и не потому, что у меня появился мотив, а как раз потому, что никакого мотива не было. Приятный субботний день. Я нежился в шезлонге, установленном в патио, Элиза куда-то уехала. И вдруг меня охватило чувство неполноты, настолько специфическое, что я сразу понял, в чем дело. В нашем доме кого-то недоставало, а именно – третьего. Это настолько взбудоражило меня, что я был готов немедленно поехать в агентство по усыновлению и заполнить необходимые документы. Когда Элиза вернулась, я рассказал ей о внезапно возникшем чувстве, рассчитывая, что мой энтузиазм захватит и ее, однако она едва обратила на это внимание. Ее голова была занята чем-то другим. «Интересно, – бросила она и, не останавливаясь, прошла из патио на кухню, а оттуда в гостиную. (Я пошел следом, силясь понять, почему она так себя ведет.) – Я никогда об этом не думала. И потом, Проктор, разве мы выкроим время на питомца?» Запомнив ее слова, я через день снова завел речь об этом, еще через несколько дней – в очередной раз. Элиза всякий раз приводила какие-то туманные отговорки. Наконец я решил больше не беседовать с ней о питомце, надеясь, что она сама вспомнит об этом. Пока что Элиза не вспомнила, и я начинаю думать, что уже не вспомнит.
Между тем ее волнует низкий показатель моей жизненности… А утро продолжается. Должность управляющего директора позволяет более или менее свободно распоряжаться своим временем. Я могу приехать на работу попозже и уехать пораньше. Пользуясь этой свободой, я надеваю купальный костюм, беру в ванной полотенце и по длинной лестнице спускаюсь на пляж. Утренней дымки как не бывало, хотя солнце светит еще несильно, имея приятный розоватый оттенок. Вода – неподвижное зеркало. Так всегда бывает по утрам, пока суша не разогреется и с юга не подует ветер. Тогда появятся волны.
Я вхожу в воду и ныряю с головой.
Знаю, о чем вы думаете. Вам кажется, что я намеренно решил поплавать, чтобы сделать свой сон более ясным, припомнить его подробности. Например, рассмотреть лицо моей таинственной женщины. Отчасти вы будете правы. Меня действительно снедает любопытство. Но я всегда был водным существом. С самого начала итерации я полюбил океан, а в университете входил в команду по плаванию. Разумеется, я уже не тот пловец, каким был в студенческие годы. Те дни прошли. Пусть нынешняя молодежь соревнуется и ставит рекорды. Однако вода по-прежнему остается для меня родной стихией. (Довольно странно, что у Элизы все наоборот. Жена откровенно ненавидит воду. За все годы нашей совместной жизни она, кажется, ни разу не уселась на край бассейна, чтобы поболтать ногами в воде.)
Я отплываю от берега. Мышцы разогреваются, разум сосредоточивается на ритмичных движениях рук и ног, а также на дыхании. Подо мной мелькают большие стаи рыб – серебристые точки в голубой воде. Донное течение шевелит стебли водорослей. Я двигаюсь сквозь них, как сквозь толпу. Отплыв на четверть мили, я меняю направление и еще четверть мили плыву параллельно берегу, после чего выбираюсь на пляж и обнаруживаю, что я не один.
На песке сидит девушка и наблюдает за мной. Молоденькая: год-два после схода с парома. Худенькая, игривая блондинка с короткой стрижкой под мальчика (это название мне знакомо – Элиза недолгое время стриглась так). На девушке – шорты и мужская рубашка, которая ей откровенно велика. Ловлю себя на мысли, что знаю эту девушку; точнее, знаю о ней. Когда и откуда я узнал, уже не помню. Но так или иначе, знаю – из-за шрама.
Новые итеранты не сходят с парома совсем уж безмозглыми. Хотя их эмоции притуплены, они обладают запасом слов, достаточным для повседневной жизни, умеют выполнять четыре арифметических действия и знакомы с основными бытовыми навыками. Почти все могут сказать, к примеру, который час, самостоятельно одеваются и завязывают шнурки, выполняют простые работы по дому. И все это – без подсказок взрослых. Иные владеют более сложными навыками, такими как езда на велосипеде или совершение телефонных звонков (хотя им некому звонить). Они быстро обучаются тому, чего не знали, невероятно наблюдательны и обладают потрясающей способностью к подражанию. Эти мальчишки и девчонки забрасывают взрослых вопросами и поглощают информацию так же быстро и жадно, как голодный, оказавшийся за пиршественным столом, поглощает пищу. Новые итеранты также сохраняют то, что, в общем, можно назвать личностью. У них есть вкусы и предпочтения, распространяющиеся на одежду, еду, друзей. Порой они бывают на удивление категоричными. Любят говорить о себе, как взрослые зануды на вечеринке. Очень самоуверенны и часто ведут себя вызывающе, хотя при этом у них бывают удивительные всплески радости. В целом они очень похожи на детей, только большого роста.
Но, как и у настоящих детей, у них нет здравого смысла. Они – отчаянные любители рисковать и превратно судят об опасностях. Просто чудо, как они ухитряются не утонуть, не попасть под машину. Куда бы вы ни пришли, там обязательно будет измученный недосыпанием приемный родитель, и вы услышите леденящую кровь историю о дурацкой выходке чада, едва не стоившей ему жизни. Обычно эти истории имеют хороший конец и какую-нибудь изюминку, вызывая безудержный хохот у других отцов и матерей, тоже измученных. Но так бывает не всегда.
Итак, эта знаменитая девица со шрамом.
Едва наши глаза встречаются, как я сразу чувствую, что мое присутствие напрягает ее. Ей нравится быть одной, погруженной в собственные мысли. Но пляж пуст; наверное, мы – единственные люди на этом песчаном пространстве. На несколько миль в обе стороны – ни души. Это не корабли, тихо расходящиеся в ночи, а суда, идущие на прямое столкновение. Поэтому нужно хотя бы поздороваться.
– Привет! – весело говорю я. – Доброе утро!
Она не отвечает, но и не отворачивается. Я подхожу ближе. В ней ощущается какая-то отстраненность. Правда, в первые годы итерации многие выглядят угрюмыми и нелюдимыми. Знаю по себе. И шрам у нее не такой страшный, как я думал: розоватый рубец, начинающийся под левым глазом и тянущийся до уголка рта. (Поранилась при падении? Обожглась? Уже не помню.) Подобрать маскирующий карандаш, и будет почти незаметно. Как ни парадоксально, шрам лишь подчеркивает совершенные пропорции лица (большие темные глаза, красивый вздернутый нос и четко очерченный подбородок, который поднят с поистине королевским величием). И в то же время он напоминает каждому, кто смотрит на девушку, о том, как легко изуродовать красоту. В более широком смысле это напоминание о рискованности и непредсказуемости самой жизни, пусть просперианцы и пытаются уверять себя в обратном.
– Не возражаешь, если я немного передохну? А то, знаешь, подустал, пока плавал.
Я стою в нескольких футах от девушки. Она поводит худенькими плечами. Ее поза остается прежней: ноги согнуты и прижаты к груди, руки обхватывают колени.
– Вокруг никого, – добавляю я, надеясь успокоить ее. – И утро такое чудесное.
Девушка смотрит не на меня, а на воду, щурясь от утреннего солнца.
– Вы далеко заплыли. Я наблюдала за вами.
– Не так уж и далеко.
Мысленно прикидываю время. Скорее всего, начало десятого. До меня только сейчас доходит, что эта любительница одиночества прогуливает школу и должна сидеть не на пляже, а на уроке. Впрочем, меня это не касается. Возникает ощущение, что она не прочь переместиться еще куда-нибудь.
– А я совсем не умею плавать, – говорит она, чтобы поддержать разговор. – У нас дома есть бассейн, но им никто не пользуется.
– Очень плохо. Но не все любят воду. – Я сажусь рядом. – Кстати, меня зовут Проктор.
Она вновь пожимает плечами – мастерски, как все молодые парни и девушки. Своего имени она, естественно, не называет.
– Почему это вам так нравится? – спрашивает она.
– Что именно?
– Плавание. Вы должны его любить, иначе не стали бы плавать.
Теперь моя очередь пожимать плечами.
– Я всегда любил плавать. Это меня успокаивает.
– А о чем вы думаете, когда плаваете?
Мне нравится эта девчонка с ее прямолинейностью.
– Знаешь, в воде я вообще ни о чем не думаю. Наверное, в этом и есть весь смысл.
Девушка думает над моим ответом, затем снова смотрит вдаль.
– Должно быть, это здорово, – говорит она. – Я насчет того, чтобы не думать.
Все хуже, чем я предполагал. Время от времени каждый из нас попадает в такое положение. Я попадал, причем на этом же участке пляжа.
– Тебе обязательно надо попробовать, – предлагаю я, стараясь повысить ей настроение. – Если хочешь, я выберу время и поучу тебя плавать.
Девчонка молчит; кажется, она вообще не услышала меня. Проходит еще какое-то время, и вдруг:
– Как по-вашему, что там находится? – Она указывает подбородком на линию горизонта. – Вы же вроде все знаете.
Я поворачиваю голову к воде. Море, небо и прямая горизонтальная линия, разделяющая две стихии. Круг, объемлющий мир.
– Об этом невозможно узнать.
– Но… хоть что-то.
Глаза девчонки становятся все задумчивее, словно она пытается проникнуть в какую-то тайну. Жаль, но мне нечего ей ответить.
– Вы же один из тех, кто возит людей на пароме, – вдруг говорит она. – Паромщик.
Должно быть, ее приемные родители что-то говорили обо мне.
– Ты права.
– Это грустно?
В ее вопросе нет упрека, одно только любопытство.
– Совсем не грустно, – отвечаю я. – Большинство людей, когда приходит их время, рады подняться на борт парома.
– Потому что они состарились.
– Верно. Но главным образом их вдохновляет мысль о том, что произойдет. Им предстоит войти в совершенно новую жизнь.
– Ну а вы?
– В каком смысле?
– Каково это – провожать их? Вы сами грустите?
Я не сразу нахожу ответ, так как не часто ломаю голову над подобными вопросами, а над этим вообще никогда не задумывался. Я выполняю свой долг, приношу пользу обществу. Я умею это делать. Люди хорошего мнения обо мне. Здесь важны чувства ретайров[2], а не мои. Именно по этой мерке я оцениваю свою жизнь.
– Я бы так не сказал, – наконец отвечаю я.
– Я вам не верю, – говорит она, вперившись в меня.
– Почему?
– Вы помедлили с ответом.
Я теряюсь от ее прямолинейности. И в то же время она права.
– Ты задала сложный вопрос. На такой не ответишь «да» или «нет».
Скоро настанет середина утра. Солнце светит ярче. От воды поднялся ветерок. Появились мелкие шипящие волны.
– Простите, что устроила вам допрос, – говорит девушка. – Это было грубо с моей стороны.
– Тебе не за что извиняться. – Желая подбодрить ее, я улыбаюсь. – Ты задавала хорошие вопросы.
Она зачерпывает горсть песка и начинает просеивать его сквозь пальцы.
– Вы ведь знаете, что в это время я должна быть совсем не здесь.
– Мне так показалось. По правде говоря, я тоже должен быть совсем не здесь.
– Серьезно?
– Просто утро слишком приятное, чтобы торопиться в рабочий кабинет. А тебе, наверное, пора возвращаться. Приемные родители, думаю, уже волнуются.
Девица едко усмехается:
– Очень сомневаюсь. Поверьте, меньше всего они думают обо мне.
– Уверен, это не так.
– Представьте себе, это так. – (Последние песчинки просачиваются сквозь пальцы.) – Вам придется мне поверить.
Проходит еще минута-другая. Мы сидим бок о бок и смотрим на плещущиеся волны. Я чувствую себя не в своей тарелке. Я почти не знаком ни с кем из молодых людей. И не знаю, что́ посоветовать юной бунтарке, помимо обычных банальностей – «Смотри на светлую сторону» или «Завтра будет новый день». Правильные фразы, но пустые. И она сразу почует, что я говорю неискренне.
– Вот что, – говорю я, нарушая молчание. – Мне пора идти. – Я встаю и стряхиваю с себя песок. – Было очень приятно поговорить с тобой…
– Кэли.
Ее имя происходит от латинского «caelus», что означает «пришедшая с небес». Какой славный сюрприз! Оказывается, я еще что-то помню из своего краткого и весьма скучного курса древних языков. Мне кажется, имя подходит ей, если это можно сказать об именах.
– Было очень приятно поговорить с тобой, Кэли. Не засиживайся здесь слишком долго. Слышишь? Хоть ты и не считаешь, что родители беспокоятся о тебе, ты им небезразлична.
Услышав последнюю фразу, Кэли таращит глаза и при этом улыбается. Ее забавляет мое «отцовское» поведение.
– Ладно… если вам от этого будет легче. – Снова пауза. Мы оба не знаем, о чем еще поговорить. – Я ведь еще увижу вас?
Странно. Время от времени мы неожиданно встречаем человека, к которому сразу же проникаемся симпатией. Кто знает, почему это происходит? Но сейчас я испытываю именно такое ощущение. Словно в это июньское утро я обрел друга.
– Можешь не сомневаться.
Я иду по пляжу не оглядываясь. Мне кажется, что если я оглянусь, то разрушу доверие, установившееся между нами. Успеваю пройти шагов двадцать, после чего она окликает меня:
– Вы серьезно? – (Я оборачиваюсь.) – Насчет того, чтобы учить меня плаванию.
Вопрос успокаивает меня. Значит, она думает о будущем и ей не все безразлично.
– Конечно серьезно, – отвечаю я. – Как и обещал.
Кэли кивает и снова смотрит на океанский простор.
– Знаете, я думаю, мне это понравится, – говорит она. – Я считаю, что каждому надо бы уметь плавать.
Я спускаюсь по лестнице. Дойдя почти до самого низа, поднимаю голову и вижу нашу экономку Дорию. Она энергично машет руками:
– Мистер Беннет! Мистер Беннет!
Я прибавляю шагу:
– Что случилось?
Дория – невысокая полноватая женщина средних лет, определеннее сказать трудно.
– Вас дожидается какой-то мужчина.
– Мужчина? Кто?
– Не сказал. Ждет в доме.
Наверняка кто-то с работы. Приехал напомнить мне о служебных обязанностях. Вздохнув, заскакиваю в ванную, бросаю полотенце и захожу в гостиную.
Мой посетитель стоит посередине гостиной, точнее, в самом центре комнаты, словно боится прикоснуться к чему-либо. В руке – кожаный портфель с логотипом отдела. Совсем молодой, выбритый с предельной тщательностью. Безупречная осанка, на лице написаны искренность и энтузиазм. Темный костюм, строгий галстук. На ногах – ботинки со шнуровкой, начищенные до зеркального блеска.
– Директор Беннет?
– Он самый.
– Джейсон Ким. – Он подходит ко мне и с какой-то щеголеватостью протягивает руку. – Меня направили к вам на стажировку. – (Я совершенно сбит с толку. Дни, когда я возился со стажерами, давно миновали.) – Позвольте признаться, директор Беннет: для меня это большая честь! – выпаливает он.
– Простите, мистер… Ким? Я правильно услышал?
– Да, сэр. Прошу называть меня просто Джейсоном. Мне этого достаточно.
– Боюсь, произошла какая-то ошибка. Мне никто не сообщил о вас.
Он достает письмо о назначении на должность. Я сразу же смотрю на подпись внизу. Моя.
– Когда мне сказали, что я прикреплен к вам, я поверить не мог. Перечитал все ваши отчеты о нештатных ситуациях. Какое мастерство!
Похоже, я оказался жертвой своей избыточной щедрости. Несколько месяцев назад, когда приток новых кадров замедлился, я составил и послал по инстанциям памятную записку, предложив, чтобы старшие должностные лица брали новичков на стажировку. Я знал, что моя идея будет встречена без энтузиазма, и ни на что не рассчитывал. И уж точно не горел желанием лично натаскивать стажеров. Что касается моей подписи, то каждый день я подмахиваю десятки документов, даже не взглянув на их содержание.
– Каким будет ваше первое распоряжение?
Я возвращаю ему письмо.
– Видите ли, Джейсон, у меня было хлопотное утро. (Я словно забыл, что стою перед ним в купальном костюме.) Почему бы нам не встретиться у меня в кабинете? Там я познакомлю вас с основными правилами нашей работы. Приходите часика через два.
– Боюсь, сэр, это невозможно. – Он снова лезет в портфель и достает голубой конверт. – Ваша секретарша просила передать.
Я сразу понимаю: в конверте лежит бланк ретайр-контракта. Паром с ретайрами всегда отплывает в час дня. Кто-то в последнюю минуту вздумал стать одним из них. Так бывает довольно часто: человек решается на ретайрмент[3] и старается сразу же осуществить задуманное. Лучше всего ускользнуть тихо и незаметно. Наверное, когда подойдет мое время, я поступлю аналогичным образом. Что сделано, то сделано, даже если за бортом парома остается вся прежняя жизнь.
Удивляет другое. Почему-то этот контракт попал прямо ко мне, а не к кому-нибудь из моих подчиненных. И не просто попал: его привез мне на дом восторженный, брызжущий энтузиазмом новичок, только вступивший во взрослую жизнь. Мне кажется, что от него пахнет типографской краской, как от новенькой долларовой бумажки.
– Прошу вас подождать меня в машине.
Он смотрит на часы:
– Директор Беннет, время…
– Я знаю о времени, сынок. – Почему-то я больше не могу говорить этому парню «вы». – И вот тебе первое правило. Ты слушаешь?
Он вытягивается в струнку:
– Да. Внимательно слушаю.
– Правило номер один: если я что-нибудь говорю, делай так, как тебе сказано. В этом нет ничего личного и сложного. Следуй этому правилу, и мы прекрасно сработаемся. – (Он почтительно кивает.) – Возвращайся в машину и жди.
Входная дверь с щелчком закрывается за ним. Меня вдруг охватывает усталость. Я не ждал, что сегодня мне придется натаскивать этого щенка. Но и нестись впопыхах к парому мне тоже не улыбается. Возможно, придется столкнуться с неприятной сценой: порыв, охвативший ретайра, исчезает и сменяется паникой. Если контракт подписан, отменить его невозможно, и ретайру остается лишь подчиниться, добровольно или принудительно. У нас есть специально обученные люди, и далеко не всегда им удается обойтись без применения силы.
Ретайр-контракт могли направить мне по двум причинам, и обе не из приятных, в особенности первая: показатель жизненности ретайра упал ниже десяти процентов. Тут в действие вступает Постановление о принудительном ретайрменте. С этим всегда непросто. Возможно, ретайр физически слаб или психически неадекватен. Возможно, членам семьи ретайра тяжело прощаться с ним (или с ней). Добавьте к этому финансовые интересы питомцев. В таких случаях всегда требуется присутствие высокопоставленного паромщика – порой даже управляющего директора.
Вторая причина: я знаю этого человека.
Я не тороплюсь вскрывать конверт – кладу его на кофейный столик и начинаю готовиться к рабочему дню: принимаю душ, бреюсь, надеваю костюм (тоже темный) и начищенные ботинки с перфорированными носками. Часы показывают пять минут одиннадцатого. Подойдя к окну спальни, я осторожно отодвигаю портьеру. Мой подопечный стоит, прислонившись к переднему крылу машины – служебного седана. Перед поездкой сюда ее тщательно вымыли. Тропическое солнце жарит вовсю, и бедный парень обильно потеет в своем новеньком костюмчике. Он смотрит на часы (наверняка уже в двадцатый раз) и надувает щеки, с неудовольствием убеждаясь, что скорость течения времени не зависит от его желания.
Я возвращаюсь в гостиную и открываю конверт.
Проигрывая в памяти события того дня, задаю себе вопрос: знал ли я?
Не только имя ретайра. Что касается имени, мне следовало догадаться если не сразу, то потом. Знал ли я все остальное? Была ли дрожь, какую я испытывал, вскрывая клапан конверта, предчувствием всего, что должно произойти?
Разум работает великолепно; он способен на удивительные подвиги. Это единственная в природе машина, которая способна думать о чем-либо, зная о существовании противоположности этому. Причина – яркая, беспокойная поверхность жизни. Разум отвлекает нас, словно фокусник, который взмахивает волшебной палочкой и достает из-за пазухи кролика. Мы говорим: «Вот прекрасное солнечное утро. Вот чудесное море. Вот мой красивый дом, моя любящая жена, моя чашка утреннего кофе и мой бодрящий утренний заплыв». Глубже этого мы не заглядываем, поскольку не хотим, да нам и не нужно. В этом и состоит трюк: нас обманом заставляют поверить, будто мир устроен так, а на самом деле он совершенно другой.
Снова спрашиваю себя: знал ли я?
Разумеется, знал. Знал, черт бы меня побрал со всеми потрохами.
2
Мы добираемся до места к половине одиннадцатого. Под шинами хрустит гравий; дорога изобилует выбоинами, так что мы едем медленно. Еще немного, и впереди появляется дом: просторная, крытая черепицей постройка на краю дюн, обветшалая, но великолепная. Мой подопечный, сидящий за рулем, негромко присвистывает. В этом звуке сквозят восхищение и одновременно – ирония.
– Неплохое местечко, – говорит он.
Он прав. Таких домов в нынешнюю эпоху стерильных линий и чистой функциональности осталось совсем немного. Я велю стажеру ждать в машине. Ему это явно не нравится, однако правило номер один есть правило номер один. Имени ретайра я ему не назвал; едва прочитав контракт, я сразу же спрятал бумагу в карман. Возможно, он и так знает. То, что Джейсон приехал ко мне именно сегодня, а не в другой день, отнюдь не совпадение. И кто из нас нянька, а кто – младенец?
– Я не шучу. Даже если увидишь, что из окон валит дым, не смей покидать машину.
Я вылезаю и иду к дому. Время не пощадило его. Краска на стенах отходит целыми пластами; там, где океанские ветры попортили крышу, так и не появилось новых черепиц. Треснувшее оконное стекло на втором этаже заклеено липкой лентой. Крыша крыльца – в совсем плачевном состоянии: она более чем наполовину покрыта синтетическим брезентом, подпертым кирпичами. Слева от меня, в полусотне ярдов, из-за плюща проглядывает теннисный корт, вернее, то, что от него осталось. За садом годами никто не ухаживал, и он превратился в заросли. Все это производит угрюмое впечатление, и тем не менее передо мной – дом, куда более тридцати лет назад отец привел свою молодую жену. Здесь они жили вместе, пока их совместная жизнь не окончилась странным образом. Здесь прошли годы моей юности. С этим домом у меня связано множество воспоминаний, приятных и не очень.
Поднимаюсь на крыльцо, и тут входная дверь открывается. Мой отец, как всегда, тщательно одет – в данном случае по-морскому: темно-синий блейзер, идеально отглаженные белые брюки и кожаные палубные туфли. Из нагрудного кармана блейзера выглядывает треугольник носового платка с эмблемой яхт-клуба, где он долгие годы был председателем гоночного комитета. (Возможно, официально он по сей день числится председателем, но выяснять я не стану.) Несмотря на почтенный возраст – сто двадцать шесть лет, – он выглядит внушительно. В нем безошибочно угадывается собственник.
– Привет, Проктор. – Он смотрит поверх моего плеча на машину, затем снова на меня. Его волосы, такие же белые и аккуратные, как и брюки, еще не успели просохнуть после душа. Они зачесаны назад. На розоватой коже головы видны следы от гребня. – Спасибо, что приехал так быстро.
Мы, как старые друзья, обмениваемся рукопожатиями. Я замечаю, что его рука слегка дрожит – незначительное неврологическое нарушение, типичное для преклонного возраста. В последний раз мы встречались три года назад – совершенно случайно, в ресторане, где мы с Элизой обедали в компании друзей. (Возможно, я вообще не приблизился бы к нему, если бы Элиза не заставила меня подойти и поздороваться.) Наше отдаление было вызвано отнюдь не ссорой, а обоюдным сознанием того, что нам лучше не общаться. Должен отметить, что отец не из тех, кто открыто выражает свои чувства. После трагической гибели матери я не помню, чтобы он пролил хотя бы одну слезу или утешил меня ласковым словом. Тогда его поведение казалось мне граничащим с жестокостью, но с годами категоричность суждений ослабевает, и сейчас я не рискну утверждать, что он был равнодушен к матери. Как раз наоборот. Он питал к ней глубокую и нежную привязанность. Большинство мужчин давно бы заключили новый брачный контракт. А он все эти двенадцать лет прожил один.
– Входи же в дом.
Он отступает, пропуская меня. Внутри все осталось таким же, как прежде, вплоть до запаха – смеси пыли и плесени, порождаемой близостью моря. Своеобразная «ароматическая бомба», способная, если я захочу, стремительно забросить меня в прошлое. Но я не намерен отправляться туда. Я иду вслед за отцом в гостиную, так плотно заставленную тяжелой мягкой мебелью, что она кажется тесной. Окна открыты. Белые занавески, пожелтевшие от времени, качаются на ветру, словно призраки. Мы оба молчим; каждый подыскивает слова. Снаружи доносится слабый плеск волн.
– Чая хочешь? – спрашивает отец. – Я как раз собирался заваривать.
Я помню о том, сколько времени у нас в запасе. Если рассиживаться, можно опоздать на паром. Но посидеть за столом мы успеем. Чай, шампанское, крепкий виски – паромщик не отказывается от таких предложений. Для ретайра это своеобразный ритуал. Таков основной принцип нашей профессии: дать ретайру все, что ему (или ей) нужно прямо сейчас. В последние часы перед отплытием большинство людей испытывают нерешительность. Их сомнения вполне естественны и понятны. Не так-то легко оставить позади все привязанности – людей, вещи и места, что служили балластом на корабле жизни.
– Да, спасибо, – отвечаю я на отцовское предложение. – Чашка чая будет очень кстати.
Отец уходит на кухню. Я сажусь на диван и открываю конверт. Помимо моего отчета, есть еще два документа, требующие внимания: контракт добровольного ретайрмента, согласно которому отец вручает себя нынешнего заботам Питомника для реитерации, и имя наследника. Обычно все средства и имущество переходят супруге или супругу; если же ретайр овдовел, как мой отец, то и другое достается Центральному банку. Питомцы в число наследников не входят. Такая политика способствует тому, что богатства Просперы – а они весьма значительны – не сосредоточиваются в определенных семьях. Однако ретайру разрешается оставить в наследство одну вещь, если ее стоимость не превышает двухсот тысяч долларов. Как паромщик, я обязан проследить, чтобы его завещание было исполнено.
С кухни доносится свисток закипающего чайника. Вскоре отец возвращается с серебряным подносом в руках. Он опускает поднос на стол. Руки его дрожат, так что чайные ложечки звякают, а чашки громко ударяются о блюдца.
– Хочешь, налью? – предлагаю я.
Отец отмахивается; он слишком горд, чтобы принять мое предложение. И потому я вынужден с нарастающим беспокойством следить, как отец, собрав все свое внимание, наполняет чашки сам. Любой человек сразу бы заметил, как неуклюжи его движения. Но есть еще нечто неосязаемое – я распознаю его благодаря профессиональному опыту. Это замечаешь по глазам: своеобразное метафизическое возбуждение, словно ретайр пытается заглушить звук, который слышит только он, или старается не замечать сонма висящих над ним духов.
Меня начинают будоражить тревожные мысли.
У каждого просперианца есть свое число: сто двадцать, сто тридцать, в редких случаях – даже сто пятьдесят. Оно означает количество лет, в течение которых мозг конкретного человека способен исправно работать, пока не выйдет из строя. Достижения генетики дарят нам десятки лет здоровой, деятельной жизни. Мы полностью избавлены от материальной нужды и работаем в свое удовольствие. Общественное устройство предоставляет нам широчайшие возможности для развития и самовыражения. Романтические отношения, секс, не отягощенный последствиями, – все это благотворно влияет на нас, делая годы итерации яркими и насыщенными. Но никакие возможности, никакие успехи медицины не отменяют непреложного факта: груз времени неумолимо давит на нас. Время воздействует на мозг: каждая радость и печаль, каждая минута каждого дня давят на него, заставляя накапливать и сортировать данные. (Я люблю шоколад… сегодня среда… моего приемного сына зовут Проктор… моя жена Синтия привязала к ноге якорь и бросилась в море…) И наконец мозг больше не выдерживает лавины данных, внутри его начинается путаница.
Невозможно узнать заранее, когда это случится. Как говорят, «когда случится, тогда и узнаешь». Отец вызвал меня не со скуки. У него нет ни физических, ни психических расстройств. Его не мучают боли. Нельзя сказать, что он просто устал от жизни. Я оказался здесь, поскольку мир, в котором до сих пор жил отец, перестал быть удобным для него. Если сравнить реальность с легким, приятным дождем, то для отца она превратилась в яростно хлещущие потоки воды. Насыпать сахар в чай – все равно что противостоять ревущему урагану. Только предельная сосредоточенность позволяет ему сохранять какое-то подобие душевного равновесия, но эти усилия изматывают его.
Наконец чай успешно разлит по чашкам. Мы оба делаем по глотку, показывая, что отцовское сражение с чайником и чашками стоило того.
– Ты не возражаешь, если мы начнем? – спрашиваю я.
Отец молча кивает. И вдруг я остро осознаю, как странно все это. Работая паромщиком почти двадцать лет, я тысячи раз участвовал в подписании ретайр-контрактов. Дюжину ретайров я мог бы причислить к своим друзьям, еще полсотни – к знакомым. Остальные были совершенно чужими людьми. Я и представить себе не мог, что однажды мне придется заниматься этим со своим отцом.
– Можно проверить твой монитор?
Отец сбрасывает блейзер и закатывает рукав. Я достаю из портфеля ридер и подключаю к монитору. Слышится легкий писк, и дисплей ридера начинает заполняться данными.
– Я тебе рассказывал, что недавно играл в теннис? – спрашивает отец. – Разумеется, не здесь. В клубе. Здешний корт… да ты и сам видел. Просто ужас. А помнишь наши игры?
Это приятное воспоминание, и я охотно поддерживаю разговор:
– Конечно помню. Такое не забывается.
– Помню, как ты впервые обыграл меня. До того никогда не видел тебя обезумевшим от счастья.
Вызываю в памяти тот день. Победа казалась мне чем-то невероятным. Я даже помню счет: шесть – два в первом сете, шесть – три во втором. Былая радость проносится в уме как вспышка молнии.
– Думаю, ты позволил мне выиграть, – говорю я отцу.
– Ты так считаешь? – Отец кривит губы. – Наверное, позволил. А у нас в клубе появился великолепный новый профи. Хавьер. Знаешь его?
– Да вроде нет.
– Чудо, а не парень. Просто подарок. А какая подача! Скорость как у ракеты.
Речь идет о «Харбор-клубе». Я тоже играю там и не знаю никого по имени Хавьер.
– А потом я взял «Холидей» и поплыл вокруг мыса, как мы плавали когда-то.
Голос отца звучит отстраненно; его глаза увлажнились и смотрят рассеянно. К слову, «Холидей» – гоночный шлюп длиной в двадцать два фута – давно пошел на слом из-за какого-то повреждения. Возможно, отец плавал на другой лодке и попросту перепутал названия. Может, он вообще не плавал, а весь день просидел в гостиной, глядя в окно и предаваясь воспоминаниям.
– Это был прекрасный день, – продолжает отец. – И тогда я принял решение. Сказал себе: «Малкольм, следующий прекрасный день будет для тебя последним, и затем ты отправишься на паром».
– Думаю, ты поступил здраво.
Как ни печально произносить эти слова, они вполне уместны.
– Другие тоже так поступают?
Многие люди задают схожие вопросы. «Я правильно поступаю? Я не отличаюсь от других? Это нормально?» Не надо забывать, что все-таки мы – стадные животные.
– Иногда. Тут нет единого правила.
– Ты не возражаешь? Против того, что я позвал тебя?
– Ничуть. Я рад, что ты это сделал.
Ридер подает мелодичный сигнал – считывание данных завершилось. На экране появляется показатель жизненности отца: шестнадцать процентов. Мы оба молчим. Да и что тут скажешь? Я вытаскиваю кабель из отцовского монитора, выключаю ридер и убираю его обратно в портфель. У себя в кабинете я скачаю все данные для отчета.
– Так странно: из этой жизни ничего не останется, – говорит отец.
– Зато появятся новые воспоминания, – говорю я и заставляю себя улыбнуться. – Сосредоточься на этом. Подумай, как здорово будет снова ощутить себя молодым. Вся жизнь впереди.
Это основные темы моих разговоров с ретайрами. Возможно, сейчас я просто повторяю предложения со сто первой страницы какого-нибудь учебника под заглавием «Человеческая динамика переходного периода». Фразы звучат слишком казенно, но это не делает их менее верными. (У моего подопечного, оставленного в машине… черт, успел забыть его имя… наверное, есть целый набор карточек с подобными сентенциями, и он просматривает их во время обеденного перерыва.)
– Дому новая итерация не светит, – пытается пошутить отец. – Жаль, что я совсем не следил за ним.
– Как знать. Может, кто-нибудь отремонтирует его и будет здесь жить.
– Мне это уже не кажется важным. Наверное, так все и начинается. Ты просто перестаешь волноваться из-за подобных вещей, и все.
– Иногда так, иногда совсем наоборот. Что ты считаешь для себя наилучшим, то и правильно.
Снова пауза и ощущение пустоты.
– Говорят, это все равно что погрузиться в сон, – говорит отец.
– Правильно.
– Ты в это веришь?
И этот вопрос тоже звучит часто.
– Дело не в том, верю я или нет. Это так, только и всего.
– Lex non requirit verificari quod apparet curiae. – Отец вопросительно смотрит на меня. – Что, ничего не понял?
– Моя латынь подзаржавела. Сделай одолжение, переведи.
– «Закон не требует доказательств того, что очевидно для суда».
– Ах вот оно что.
– Мысль, которая, как мне кажется, имеет некоторое отношение к сегодняшнему дню, хотя она посетила меня только сейчас. – Его лицо теплеет. – Знаешь, я всегда жалел, что ты недостаточно серьезно относился к этой стороне своего образования.
Здесь он прав. К учебе я относился в лучшем случае равнодушно. Не сказать чтобы книги совсем не вызывали у меня интереса. Просто собственные мысли занимали меня куда больше.
– Прости, забыл спросить: как Элиза?
– Благодарю, вполне себе. По горло в делах. Готовится к новому сезону.
– Обязательно передай, что я о ней спрашивал.
– Обязательно передам… Послушай, время поджимает. Может, перейдем к контракту?
Отец думает над вопросом, затем кивает:
– Конечно.
Здесь следует упомянуть о том, что мой отец – юрист. Точнее, был юристом. До смерти моей матери он занимал должность главного юрисконсульта Коллегии по надзору. Вполне вероятно, что нынешний вариант ретайр-контракта, который ему предстоит подписать, составлен им самим. Едва ли отцу требуются мои пояснения и подсказки. Однако протокол есть протокол. Я должен зачитать ему текст контракта и получить его устное согласие с изложенным. Затем он должен подписать контракт, обязательно черными чернилами. (У меня есть наготове нужная ручка: я повсюду ношу ее с собой. Нет ничего хуже, чем лихорадочно искать такую ручку в доме ретайра. К тому же ее может там не оказаться.) После отцовской подписи я должен поставить свою, поскольку являюсь не только паромщиком, но и официальным свидетелем.
Мы проходимся по пунктам контракта. Некоторым ретайрам это дается нелегко. Сугубо личное решение, касающееся их судьбы, предстает перед ними в виде юридических терминов и формулировок. Но отец чувствует себя как рыба в воде. Он любит язык закона и прекрасно владеет им. По мере того как я зачитываю ему пункт за пунктом, выражение его лица меняется. Появляется удовлетворенность, даже ностальгия. На несколько минут отец вновь оказывается в своей стихии.
Я добираюсь до конца и спрашиваю:
– Ты согласен со всеми условиями в том виде, в каком они представлены здесь?
– Да.
Отец берет ручку и быстро ставит свою подпись. Я делаю то же самое.
Это оказалось проще, чем я думал.
Остается последний пункт этой невеселой программы.
Я – его единственный наследник; больше у него никого нет. Какая странная и грустная ирония: много старых друзей, несколько брачных контрактов, обширный круг знакомств, разветвленные деловые связи – а теперь рядом с ним стою только я, словно припозднившийся гость, которому невдомек, что хозяин уже собирается ложиться спать.
– Что ты хочешь мне оставить? – спрашиваю я.
Отец говорит, что ему проще показать, чем объяснять, и выходит из дому. Я иду следом. Мостки из посеревших досок ведут нас через дюны и заросший травой эстуарий к пляжу. Я все острее чувствую, как время дышит нам в затылок; когда сядем в машину, придется гнать во весь опор. У кромки воды, на сваях, стоит лодочный ангар – цель нашего похода.
После смерти моей матери отец ушел с должности главного юрисконсульта, и отнюдь не из-за горя. Он всегда с большим вниманием относился к закону: и ко всей этой хитроумной юридической механике, и к этической стороне своей профессии. Останься он работать, думаю, это смягчило бы удар, но человек в его положении не мог допустить даже намека на скандал. Почти два года он вообще ничем не занимался – только бродил по дому в пижаме и разгадывал кроссворды, так что все тревожились относительно его душевного здоровья. Однако он не мог вечно предаваться безделью, и через какое-то время хобби, отвлекавшее от работы, превратилось в работу. Отец стал изготавливать деревянные лодки, которые почти сразу стали цениться – не только за надежность и прекрасные ходовые качества, но и за изысканную отделку. Бушприты, украшенные затейливой резьбой, сверкающие палубы и бимсы из тика, штурвалы, обтянутые кожей, медные детали, начищенные до блеска. Я испытал потрясение, но в хорошем смысле. Человек, которого я знал как сухого интеллектуала, преобразился в рукастого ремесленника; в человека, создающего вещи, которыми можно пользоваться. Такая метаморфоза показывает: люди гораздо сложнее, чем принято думать, и даже трагедия (а иногда только она) может продемонстрировать наше истинное «я».
Окна ангара, превращенного отцом в мастерскую, выходят на океан. К воде ведет широкий пандус. Мы входим через боковую дверь. Внутри стоит густой запах яхтенного лака и опилок. Отец нащупывает выключатель. Вспыхивает свет, и я вижу ее.
Лодку, конечно лодку. Но какую! Даже я, разбирающийся в дизайне лодок намного хуже отца, сразу понимаю: передо мной – лучшее, что он создал. Лодка не поражает размерами. Длина – футов двадцать пять, может, чуть больше. Бимс – футов семь-восемь. Одномачтовая, с гафельным парусом, широким кокпитом и небольшой каютой. Идеально подходит для морских прогулок вроде тех, что мы когда-то совершали втроем, плавая к мысу на пикник или отправляясь полюбоваться красками заката. (Вечерние плавания родители называли «коктейльными круизами». Для себя они брали термос с джином и тоником, а для меня – апельсиновый сок.) Воспоминание становится ярким, как сон наяву. В лицо дует ветер. Поскрипывает парус. Рука держится за просоленный конец гика-шкота и ощущает твердую кромку корпуса. Совсем рядом плещутся волны, вечернее солнце дарит нам свое тепло. Родители расположились на корме: отец за штурвалом, мама сидит рядом, устроившись у него под мышкой. Ветер треплет ей волосы. Она смеется отцовской шутке и откидывает прядь, попавшую в рот. Почему одни картины навсегда остаются на стенах памяти, а другие соскальзывают во временну́ю пропасть?
Я подхожу к стапелю. Отцовская лодка стоит на нем, сверкая, как драгоценный камень на бархатной подставке. Возникает сильное желание дотронуться до нее. Не удержавшись, я провожу пальцами по корпусу. Даже канаты выглядят сплетенными вручную.
– Сколько времени ушло на ее постройку?
– Два года.
Рядом со своим удивительным творением отец меняется. Он больше похож на себя прежнего, на краткий миг не выглядит покорным судьбе. Мне без всяких подсказок открывается истинный смысл отцовских слов. Я понимаю, чего на самом деле он ждал. Это и был последний прекрасный день – день, когда он закончил постройку своей красавицы.
Я огибаю корму и на другой стороне корпуса вижу дощечку с названием корабля: «Синтия».
– К сожалению, мне не хватило времени, чтобы прибраться, – сетует отец. – Ненавижу оставлять после себя хлам.
Я понимаю, что сделал отец. Вещь, оставленная мне в наследство, предназначена вовсе не для меня. Я – не более чем хранитель. Тело матери тогда не нашли – только лодку, качавшуюся на приливных волнах, без якоря, с забрызганными кровью скамейками. Никакой записки. Последнее ударило по отцу больнее всего. Ее смерть породила пустоту, которую нельзя было заполнить ничем, даже последними словами. Это стало нарушением естественного порядка вещей. И в одиннадцатый час своей жизни отец попытался это исправить. Его лодка, его «Синтия». Так он вернул ее обратно в наш мир.
– Обещай, что будешь плавать на ней.
– Обязательно буду. Можешь не сомневаться.
Отец умолкает. Он стоит, переминаясь с ноги на ногу, засунув руки в карманы.
– Я знаю, что был не самым заботливым отцом. Особенно после… – Он пожимает плечами. – Ну, это дело прошлое. Что было, то было.
Меньше всего мне хочется говорить на эту тему сейчас. Да и вообще когда-либо.
– Не вини себя. Все позади.
– Просто хочу, чтобы ты знал, как я сожалею. – Отец протяжно вздыхает. – Это все моя вина. У нее были… свои особенности. Ты, сынок, о них не знал.
За спиной отца открывается дверь. Это мой подопечный. Он тяжело дышит. Наверное, бегал по всему дому, разыскивая нас. Я готов задушить парня на месте.
– По-моему, я велел тебе ждать в машине.
– Прошу прощения, сэр. Мне показалось, что я просто обязан напомнить вам о времени.
Бросаю взгляд на часы. Начало первого. Ехать до парома минут сорок; при интенсивном движении – больше. Меня словно ударяют в грудь. Мой отец уходит из нашего мира; мой отец почти ушел. И когда он уйдет, когда я буду стоять на причале и смотреть на отплывающий паром, я останусь последним из нашей семьи. Все воспоминания о событиях прошлого будут моими, и больше ничьими.
– Дай нам еще несколько минут, – говорю я стажеру.
Но он продолжает стоять с упрямством заборного столба. От меня сейчас можно ждать чего угодно, вплоть до того, что я наброшусь на парня с кулаками. Положение спасает отец. Понимая мое состояние, он поворачивается к стажеру и протягивает руку:
– Давайте знакомиться. Я – Малкольм Беннет.
Эти слова повергают парня в шок. Выходит, он не знал, за кем мы едем. Пока они пожимают руки, глаза моего подопечного мечутся. Он попеременно смотрит на нас, затем мямлит:
– Так вы…
– Совершенно верно. А вы, как вижу, работаете с моим сыном.
– Да, сэр. Я – его стажер.
– Вам повезло. А звать вас как?
– Ой, простите. Забыл представиться. Джейсон Ким.
– Спасибо, мистер Ким, что напомнили нам о времени. А то мы углубились в воспоминания и совсем позабыли о нем.
– Вот-вот. – Мой подопечный тяжело сглатывает. – В смысле, так оно и есть.
– Отлично.
Отец обезоруживающе улыбается парню. Его улыбка – как луч прожектора, направленного в лицо стажера. Я сразу понимаю его замысел. Кто-то должен взять все в свои руки и сделать так, чтобы мы оказались в машине. Я сейчас не способен на это. Еще немного, и я уронил бы себя в глазах коллеги, который моложе меня на двадцать лет. Этого отец допустить никак не может и приходит мне на выручку. Очень трогательно и очень грустно.
Продолжая улыбаться, отец поворачивается ко мне:
– Спасибо, Проктор, что уважил старика. Приятно было вот так поговорить.
Я могу лишь кивнуть.
– Ну что? – Отец растирает ладони, словно они озябли. – Поехали?
Мы с отцом едем на заднем сиденье. Таков протокол: паромщик ни на мгновение не оставляет ретайра своим вниманием, хотя я сделал бы это и без протокола. На дорогах почти пусто, словно мир понимает всю серьезность нашей миссии и создает нам наилучшие условия для проезда. Мое сердце успокаивается. Отец смотрит в окно. Мне кажется, что он прощается с миром. Разумеется, на время, поскольку он снова увидит этот мир юными, жадными до впечатлений глазами. Он сидит, изящно скрестив ноги, стараясь не помять идеально отглаженных брюк. Руки перестали нервно двигаться и спокойно лежат на коленях. Время от времени он делает глоток воды из бутылочки (мы всегда держим в машине запас воды), и это единственные его движения.
Со стороны моря наползают облака, делая солнечный свет не таким резким и убирая все тени. Мы въезжаем в город. Приходится снизить скорость, но, если не случится чего-либо из ряда вон выходящего, мы доберемся вовремя. Нас окружают здания: жилые, административные, торговые комплексы. Появляются пешеходы. Кто-то одет по-деловому и спешит туда, где ему надо быть. Кто-то выбрался на пробежку и наслаждается согласованными движениями ног и рук, отирая пот с лица. На автобусной остановке мы видим стайку юных итерантов в форме Академии раннего обучения. Девочки одеты в блузки свободного покроя и клетчатые юбки, мальчики – в шорты цвета хаки и синие рубашки с короткими рукавами. У тех и других на нагрудных карманах вышита эмблема их школы. Все смеются и о чем-то болтают. Парни пихают друг друга локтями и смущенно поглядывают на девчонок, те посылают ответные взгляды. Эти извечные «танцы глаз», юношеское любопытство и пробуждение желаний. Так было всегда.
– Дождь собирается, – произносит отец.
Это его первые слова после отъезда из дому.
Он прав. Облака густеют. Небо над городом становится серым. Мы въезжаем в правительственный квартал Просперы. Машина движется мимо площади Просперити с обширной зеленой лужайкой, концентрическими дорожками и фонтаном в центре. Это большое каменное сердце города. В воздухе жужжат дроны, покачиваясь на ветру и наблюдая за всем, что происходит. Площадь с двух сторон окружают здания министерств: благополучия, труда, финансов, внутреннего благоустройства, общественной безопасности и социального обеспечения, где находится Департамент социальных контрактов. В верхней части площади, словно старейшина, председательствующий на праздничном собрании, стоит здание Коллегии по надзору: величественное, выстроенное в неоклассическом стиле, с внушительными колоннами и мраморной лестницей, ведущей к входным дверям. Ступеней на лестнице так много, что даже самый выносливый человек, достигнув верха, непременно останавливается, чтобы успокоить дыхание. Именно здесь, в просторных кабинетах и залах заседаний, работники Коллегии по надзору занимаются своей важной, скрытой от посторонних глаз деятельностью. Именно сюда на протяжении шестидесяти лет каждый день, ровно в половине восьмого, приезжал мой отец, чтобы скрупулезно анализировать и совершенствовать законы Просперы.
– Теперь уже скоро, – сообщает мой стажер.
Паромный причал находится на западном конце П-образной гавани. Последний отрезок пути пролегает по широкой магистрали, которая так и называется – Прибрежное шоссе. Справа – многоквартирные дома и многочисленные рестораны, слева – оживленная яхтенная марина. Пляж пуст, если не считать нескольких запоздалых купальщиков. Не желая попасть под дождь, они спешно сворачивают полотенца, складывают стульчики и идут к своим машинам. В лобовое стекло нашего автомобиля ударяет сильный порыв ветра. Тишина в салоне становится гнетущей, но я ничего не могу поделать. Да я и не вправе вмешиваться. Сейчас все подчинено желаниям отца.
И как раз в этот момент начинается самое ужасное. Отец принимается бормотать.
Он произносит странные слова, комкая их, – возможно, даже не слова, а звуки, выражающие его замешательство. Беспокойно озирается по сторонам, вертя головой, словно птица. Мне приходилось наблюдать нечто подобное у ретайров, чей уровень жизненности упал ниже десяти. Обычно такое случается на подъезде к причалу, когда паром уже виден издали. Груз событий судьбоносного дня становится непомерным для защитных психологических барьеров, возведенных ретайрами. Ментальные баррикады, которые они строили, чтобы сохранять душевное равновесие и сосредоточиваться на сиюминутной реальности, начинают рушиться. Это все равно что смотреть на плотину, не выдержавшую напора воды.
– Отец, посмотри на меня.
Он дышит очень часто; с губ срываются утробные звуки. Одна рука вцепилась в ремень безопасности, другая легла на ручку дверцы. Мой стажер видит это в зеркале заднего вида и спрашивает:
– У вас там все в порядке?
– Малкольм Беннет, посмотри на меня, – требую я.
Я касаюсь отцовского подбородка и поворачиваю отца лицом к себе. Его широко распахнутые мокрые глаза полны ужаса. Но уже через мгновение с ним что-то происходит. На лице вспыхивает улыбка. Такой улыбки у отца я еще не видел: прекрасная и по-детски непосредственная. Кажется, будто с внутренней стороны глаз вспыхнул яркий веселый свет.
– Проктор! – восклицает он. – Проктор, это в самом деле ты?
– Может, остановиться? – спрашивает стажер. – С вашим отцом что-то не так.
– Поезжай дальше.
– Проктор, как я рад тебя видеть! – сообщает отец и обеими ладонями обхватывает мою руку, держащую его за подбородок. Его взгляд пронзает меня, как лазерный луч. Он наклоняется вперед и, понизив голос, спрашивает: – Мы уже приехали?
– Почти.
Отец кивает:
– Очень хочется прибыть туда поскорее.
– Скоро приедем. Ты смотри только на меня, и все будет хорошо.
– Мне холодно, – объявляет отец и начинает дрожать. – Что-то я озяб.
Машина останавливается. Стажер проворно выбирается наружу и останавливается возле отцовской дверцы. На стоянке полным-полно черных лимузинов. Я по-прежнему смотрю только на отца, дабы он не ускользнул от моего взгляда, и поэтому скорее ощущаю, чем вижу толпу собравшихся. Сюда съехались родные, друзья, знакомые, бывшие сослуживцы, чтобы проститься с теми, кто им дорог, и проводить их в новую итерацию. Над толпой возвышаются рослые охранники в синей форме и высоких кожаных ботинках.
– Сейчас мы выйдем из машины, – объясняю я отцу. – Помочь тебе выбраться?
Его лицо мрачнеет. Он тяжело качает головой:
– Этот мир – совсем не тот мир.
Положение – хуже не придумаешь. Я теряю его; он погружается в безумие.
– Отец, не поддавайся. Я же здесь, рядом с тобой.
– Ты – это… не ты.
Стажер с излишней поспешностью открывает дверцу. Подстегиваемый паникой, отец покидает машину раньше, чем я успеваю схватить его за руку. Он с удивительной силой распахивает дверцу, опрокидывает стажера на бетон стоянки и убегает.
– Че-еее-рт!
Я выскакиваю наружу и вижу, как отец скрывается в толпе, заполнившей причал. А этот чертов Джейсон сидит и очумело таращится на меня.
– Простите меня, директор Беннет. Он застал меня врасплох.
– Раззява! Идиот конченый!
Я бросаюсь догонять отца. Происшествие возле нашей машины не осталось незамеченным. Трое охранников тоже бегут за ним. Из толпы доносятся испуганные крики. Для наших граждан нет ужаснее сцены, чем та, что разворачивается у них на глазах. Это сродни осквернению храма. Я толкаюсь, пихаюсь и ору, чтобы меня пропустили. На причале находятся и другие паромщики – мужчины и женщины, мои коллеги, с которыми мне еще не раз придется столкнуться в коридорах нашего ведомства. Сейчас они торопливо загораживают собой других ретайров или оттаскивают их в сторону, прося не смотреть на причал.
Отец добегает до конца причала. Дальше только вода. Никуда не спрятаться, нигде не укрыться. С ревом запускаются двигатели парома, вздымая клочья пены. Паром полностью автоматизирован и способен двигаться даже без рулевого. Что бы ни случилось, он отчалит ровно в час дня.
Я не успеваю подбежать к отцу первым, это делает один из охранников: молодой, сильный, полный служебного рвения. Под синей форменной рубашкой перекатываются накачанные мускулы. На кожаном поясе позвякивают атрибуты его должности: наручники, электрошокер и длинная выдвижная дубинка. С какой стати этому парню замечать, что я сдернул с пиджака свой жетон паромщика и размахиваю им над головой, что я – управляющий директор? Ему нет дела до моих приказов остановиться. Он, словно пес, сорвавшийся с поводка, целиком находится во власти своих инстинктов. Охранник вырывается вперед, догоняет моего отца, а когда тот поворачивается к нему, ставит ему подножку и падает вместе с ним. Еще через мгновение охранник выхватывает электрошокер и приставляет к горлу жертвы.
Слышится отвратительный треск.
По телу отца пробегает судорога; оно нелепо изгибается и оседает на бетон, словно проткнутый воздушный шарик. То, что происходит дальше, – всплеск безрассудного насилия. Мне не удержаться, хотя я и сознаю, что потом буду мучиться из-за этого. Каждое мое движение фиксируется камерами дронов, зависших над причалом. Я нагибаюсь, хватаю охранника за ремень, оттаскиваю от отца и делаю локтевой захват, зажимая горло ретивому молодцу, надавливая ему на сонную артерию. Охранник пытается сопротивляться, царапает мне руки, но я застал его врасплох. К тому же я не слабак. Его жизнь ничего не значит для меня. Если ему суждено умереть, так тому и быть. Боковым зрением замечаю, что двое других охранников стоят неподвижно. Наверное, все-таки увидели мой жетон (сейчас он где-то валяется). А может, оба слишком ошеломлены, чтобы вмешиваться.
Здравомыслящему началу во мне удается одержать верх. Я отпускаю охранника, тот сползает на бетон и вырубается. Меж тем смятение не помешало ретайрам подняться на борт парома. Раздается зычный гудок – сигнал трехминутной готовности. Я опускаюсь на колени перед отцом. Его глаза открыты и непрестанно моргают. На лбу, вдоль кромки волос, проступила кровь. Один рукав блейзера оторван у плеча. По брюкам расползается пятно мочи. Каким тщедушным и надломленным выглядит он сейчас! В последнюю минуту у него отняли человеческое достоинство. Осталась лишь хрупкая, ветхая, изломанная оболочка. Он шевелит губами, силясь что-то произнести. Я наклоняюсь ниже.
– Ораниос, – произносит отец.
Слово совершенно незнакомо мне. Наверное, это даже не слово, а набор слогов – бред угасающего сознания.
– Отец, посмотри на меня.
Я подсовываю руку под его затылок, другой поддерживаю ему подбородок, поворачивая отцовское лицо ко мне и сознавая природу этого жеста. Мы поменялись местами: я стал родителем, а он – ребенком. Еще одно унижение, от которого я не смог его уберечь. Снова звучит гудок, на этот раз дважды. Остается две минуты.
– Разве ты не видишь? – спрашивает он. – Это все… Ораниос.
Я поднимаю голову. Мой стажер подошел к застывшим охранникам. На лице – полное непонимание и шок. Мне никак не вспомнить его имя, хотя менее часа назад он представлялся моему отцу. Парню явно не по себе, но мне сейчас не нужна его помощь. Я осторожно поднимаю отца на ноги, кладу его левую руку себе на плечо и наполовину тащу, наполовину несу его к парому. Я чувствую себя тошнотворно; руки и ноги превратились в желе.
– Ораниос, – бормочет отец. – Ораниос, Ораниос, все Ораниос…
Мы добираемся до сходней. С палубы на нас глазеют ретайры. Стоит зловещая тишина; кажется, даже небо, готовое пролиться дождем, насмехается надо мной. Я несу отца на борт. Поднялся ветер; волны ударяют в корпус парома, отчего канаты скрипят в местах крепления. Палуба качается. Я усаживаю отца на скамейку и опускаюсь перед ним на корточки. Кто-то протягивает мне бутылку с водой. Я отвинчиваю крышку и подношу бутылку к губам отца. Ему удается сделать маленький глоток; вода капает с подбородка.
Три коротких гудка. Еще полминуты, и паром отчалит. Полминуты, за которые надо сказать последние слова. А я не знаю, о чем говорить.
– Проктор!
– Да, отец. Я здесь.
– Мне страшно.
Отец дрожит. Двигатели пока работают на холостом ходу. Я беру отца за руку и держу. Начинается обратный отсчет. Десять. Девять. Восемь.
– Понимаю, – говорю я.
– Я не хотел… не хотел ее забыть.
Секунды, которые совсем не напоминают секунды. Они растягиваются вокруг нас, словно мехи громадного космического аккордеона, внутри которых заключено бесконечное пространство. Во всяком случае, мне так кажется. Это пространство откровений, и я получаю свое: есть только один способ помочь отцу, сделав то, чего я никогда не делал. Я целую его в лоб.
– Я люблю тебя, – говорю я ему.
Семь. Шесть. Пять. Двигатели переходят на рабочий ход. Сходни автоматически втягиваются в корпус. Мне придется прыгать.
– Прости, но мне пора.
Четыре. Три. Два.
Один.
Паром отчаливает.
Течение времени – нечто загадочное. Кажется, я только что стоял на палубе парома, а сейчас уже стою на причале. Паром тает в сером пространстве воды и неба. Провожающие расходятся, пока на причале не остается никого, кроме меня. В какой-то момент я сознаю, что объект наблюдения скрылся из поля зрения. Паром со всеми пассажирами ушел в запредельную даль.
С другого конца причала в мою сторону движутся четверо. Первый – мой стажер, чье имя я вдруг вспоминаю: Джейсон. За ним идут двое охранников, по очереди помогая третьему, которого я едва не задушил. Сунув руки в карманы, я жду, когда они приблизятся.
Джейсон держит мой жетон. Подойдя, молча отдает его мне. Охранники проходят мимо, явно надеясь, что я их не остановлю. Напрасно. Я велю им остановиться.
У меня нет желания вредить им. Острота момента прошла. Но и оставлять инцидент безнаказанным я тоже не хочу.
– Касается всех троих.
Они виновато смотрят на меня. Я уже не вижу в них злодеев, какими они казались мне десять минут назад. Обычные парни, сознающие, что накосячили.
– Вы уволены.
Мы с Джейсоном возвращаемся к машине. Я усаживаюсь на переднее сиденье. Он спрашивает, куда ехать. Отвечаю, что на работу. Мне нужно составить отчет о происшествии. С такими делами лучше не тянуть, пока подробности еще свежи в памяти. Меньше всего мне хочется, чтобы мой рассказ хоть в чем-то расходился с записями камер.
– О чем говорил ваш отец? – спрашивает Джейсон.
«Этот мир – совсем не тот мир. Ты – это не ты». Фразы кажутся мне лишенными контекста, они сиротливо плавают, как атомы в вакууме. Но последовательность их произнесения порождает цепочку мыслей. Правда, мысли связаны лишь друг с другом. «Ораниос. Это все Ораниос».
Что такое Ораниос?
К площади Просперити едем молча. Пешеходов стало меньше: обеденный перерыв закончился, а дождь, наоборот, вот-вот начнется. Стоит мне подумать о дожде, как небеса посылают подтверждение. В небе над гаванью сверкает молния. По крыше машины ударяет несколько капель, а затем дождь начинается по-настоящему: теплый, колючий тропический ливень, заставляющий последних пешеходов спешно искать укрытие. Навесы витрин кафе. Двери офисов. Павильончики автобусных остановок. Особо стойкие продолжают идти, держа над головой портфели и газеты. Приятное зрелище, пробуждающее чудесные воспоминания. Дождливое утро, когда мы вместе с мамой собираем картину из фрагментов, и моя радость, когда я нахожу нужный кусочек, на котором изображено небо. Послеполуденный час, когда после школы я зашел к приятелю и, возвращаясь от него домой, попал под ливень. Я не стал прятаться, а стоял, запрокинув голову, и наслаждался дождевыми каплями, бившими по лицу. Еще одно воспоминания из времен, когда мы с Элизой только поженились. После близости мы уснули, но среди ночи нас разбудила гроза. Повинуясь ее магии, мы молча взглянули друг на друга и снова занялись любовью под шум дождя.
Я велю Джейсону остановиться.
– Прямо здесь? Но снаружи такой ливень.
– Подрули к тротуару.
Он подруливает и останавливается.
– На сегодня твоя работа закончилась. Отдыхай.
– А как же отчет?
– Подождет. – (Джейсон молча смотрит на меня.) – Все нормально. Ты отлично поработал. Пока.
Я вылезаю. Машина уезжает. Мой костюм мгновенно промокает. Пешеходы, спешащие мимо, бросают на меня косые взгляды, полные любопытства. Недоверчиво смотрят те, кто нашел пристанище под навесами и за стеклянными дверями. Кто этот человек, стоящий под дождем? Что с ним? Никак он спятил?
Новости распространяются быстро. Пройдут считаные часы, от силы день, и весь город узнает о происшествии на паромном причале. А пока для всех этих людей я никто, что вполне устраивает меня. Я бреду по тротуару, подняв воротник и понурив плечи: ни один человек не увидит, как я плачу.
3
Тия знает: ее поездка – не самая умная затея.
На Просперити она садится в автобус до узловой станции. Гроза промчалась, и город снова залит солнцем. Тропические лучи ослепительно отражаются от луж на тротуарах, окон зданий и листвы деревьев, с которой вовсю капает. На станции она ждет минут пять. Подъезжает автобус, идущий прямо в Аннекс, и Тия садится в него. Едва она заходит в салон, как пассажиры поднимают на нее глаза и быстро отводят взгляды. Тия садится на одно из передних мест. Разговоры вокруг нее затихают почти до шепота. Салон заполнен не более чем наполовину. На сиденьях развалились мужчины в рабочей одежде. От них исходит резкий запах пота. Простая белая одежда женщин говорит о том, что они работают служанками или кухарками. Есть также горстка технических специалистов и клерков: у них работа уровнем повыше.
Двери с шипением закрываются, и автобус начинает спускаться по склону холма. Путь до дамбы занимает двадцать минут. Постепенно разговоры становятся громкими, как прежде. Значит, пассажиры свыклись с присутствием Тии. Нельзя сказать, что просперианцы вообще не ездят на Аннекс. Ездят, но редко, причем только в составе группы, имея заранее известную и официально одобренную цель. Государственное расследование. Или благотворительность. (Просперианцы обожают благотворительность во всех ее видах.) Бывают и экскурсии, призванные удовлетворить нездоровое любопытство. (Участники таких экскурсий громко охают и ахают, находя «очаровательными» грязные лачуги и прочие атрибуты тамошней жизни.) Возможно, на мужчину обратили бы меньше внимания. Но чтобы просперианка без спутников уселась в автобус прямого сообщения… Тия чувствует себя ярким цветком среди грязного поля. Ее туфли на трехдюймовом каблуке и с открытыми носами совершенно не годятся для замусоренных и заплеванных улиц Аннекса, а стоимость ее сумочки, наверное, равна месячному жалованью этих людей. Что она делает в автобусе прямого сообщения? О чем думает эта женщина, отправляясь на Аннекс без сопровождения?
Автобус делает еще четыре остановки, и на каждой входят новые пассажиры. Вскоре все места в салоне заполняются – кроме того, что находится рядом с Тией. Тем, кому не досталось места, стоят в проходе. Перед въездом на дамбу автобус притормаживает, оказываясь в очереди из автомобилей. У Тии учащается пульс, потеют подмышки, а в горле першит от сухости. Салон автобуса вдруг кажется невероятно тесным. Она не впервые едет на Аннекс и знает, как вести себя в подобных случаях, однако тело не желает подчиняться доводам разума. Постепенно их автобус оказывается третьим в очереди, затем вторым. Автобус, что был впереди, отъезжает. Теперь из окон видны шлагбаум и будка охраны. Дежурных охранников трое. На всех – обычная синяя форма. Еще двое – совершенно голые, поскольку это не люди, а роботы. На бюрократическом языке чиновников они называются «вооруженными факсимильными копиями сотрудников службы безопасности», но все зовут их безофаксами. По габаритам и внешнему виду они схожи с людьми, однако ничего человеческого в них, естественно, нет. Чисто функциональные машины со сверкающей поверхностью, пневмоприводами и мигающими сигналами датчиков. Каждое их движение сопровождается шумом.
Автобус подъезжает к шлагбауму и останавливается.
Охранник, вошедший в салон, – человек, но смахивающий на робота. Типичный представитель своей профессии. Как и у безофаксов, все в нем функционально. Ничего лишнего. Жесткие светлые волосы коротко подстрижены, лицо безжалостное, под форменной рубашкой выпирают мышцы, словно на них давит сжатый воздух. Когда он поднимался по ступенькам, его кожаные сапоги и ремень поскрипывали.
– Приготовить идентификаторы.
Бросив косой взгляд на Тию, охранник идет дальше. Он проверяет жетоны пассажиров, поднося их под луч сканера с плохо скрываемым презрением. Проверка начинается с задней части. Тия оказывается последней. Выражение лица охранника становится каким-то заискивающим, словно он хочет сказать: «Вы же знаете, сколько хлопот с этими». Но внутренняя жесткость сохраняется.
– Добрый день, госпожа. Позвольте взглянуть на ваш идентификатор. – Тия открывает сумочку и подает ему документ. Охранник сканирует его. – Благодарю, госпожа Димополус. Разрешите узнать цель вашей сегодняшней поездки на Аннекс.
– У меня своя художественная галерея. Еду по просьбе заказчика.
– Искусство. Что-то вроде… живописи?
– Да, и весьма интересное произведение… в жанре примитива.
Услышанное изумляет охранника.
– Примитива, – повторяет он. – Бьюсь об заклад, они на большее не способны. – Он возвращает Тие идентификатор. Они вроде как подружились. Игроки одной команды. – Хотите, я позвоню и попрошу выделить вам сопровождающего?
– Очень любезно с вашей стороны, но это лишнее.
Охранник смотрит на нее с тревогой:
– Если передумаете, по приезде обратитесь к местной охране. И я бы не советовал задерживаться там после наступления темноты.
– Благодарю вас, господин полицейский. Задерживаться там я не собираюсь.
Поездка по дамбе занимает три минуты. За это короткое время один мир сменяется другим: просторная, ухоженная Проспера – тесным Аннексом. Тия вместе с другими пассажирами покидает автобус и идет по улице. Даже погода здесь кажется иной. Солнечный свет безжалостен. Унылые бетонные дома с тесными квартирами; людный рынок, где продаются второсортные товары, а под ногами покупателей вечно толкутся оравы детей. Ступеньки тротуаров и перекрестки с праздно стоящими мужчинами, которые провожают ее взглядом.
Здесь грязно. Здесь опасно. Но это живое место. Такое слово приходит Тие на ум, когда она думает об Аннексе. Этот маленький остров – живой.
Тут ей попадается на глаза начальная буква другого слова, которое написано на стене дома. Вся надпись растянулась футов на шесть. Возле стены стоит охранник и следит за тем, как двое рабочих в комбинезонах пытаются соскрести надпись щетками на длинных ручках. Рядом – ведро с моющим раствором, куда они постоянно обмакивают щетки. Напрасные усилия. Стена сложена из пористого кирпича, и краска успела проникнуть в поры. Те, кто оставил надпись, на это и рассчитывали. Кончится тем, что стену заново покрасят.
Что все это значит? Тия слышала разные истории на этот счет. Да и кто их не слышал? Если где-нибудь собирается больше двух просперианцев, разговор обязательно заходит об этом. О слугах, которые вдруг начали часто болеть. О поредевших бригадах дорожных рабочих. О том, что дворники, садовники и повара выполняют свои обязанности спустя рукава. Это пока еще не всеобщая забастовка, а лишь «замедление». Никто не знает, как все это началось и даже когда именно.
– Приветик, богатенькая госпожа.
Мальчишка внезапно появляется перед Тией и начинает идти рядом. Черная грива нечесаных волос, босые ноги заляпаны грязью, на физиономии – лукавая улыбка. На вид ему лет десять, хотя вполне может быть и тринадцать. Тия знает: мальчишка – не более чем затравщик, а где-то поблизости затаились его дружки.
– Ты просси?[4] – спрашивает он.
Тия не замедляет хода. Мальчишка упрямо идет рядом и пританцовывает.
– Можешь сказать своим приятелям, что я их вижу.
– Приятелям? Каким приятелям? – Продолжая улыбаться, он слегка кланяется. – Антон Джонс, к вашим услугам.
– Понятно. И какие же услуги ты оказываешь?
– Любые, какие тебе понадобятся! Антон сделает что угодно.
– Наверняка за соответствующую плату.
Мальчишка таращит глаза:
– Никакой платы! Только добровольное пожертвование. Приму с благодарностью.
Они доходят до конца квартала.
– Знаешь, у меня есть для тебя поручение. За мной следует мужчина. Только не пялься на него. Он в синей куртке и солнцезащитных очках.
Антон оборачивается:
– Этого у нас все знают. Хэнсон его фамилия. Он тут большой «прыщ».
«Прыщ». Жаргонное словечко, обозначающее агента Службы общественной безопасности. Сами они любят называть себя «Стражами социального спокойствия». Сокращенно «три-эс». Он увязался за Тией, как только она вышла из автобуса.
– Меня не волнует, кто он такой. Но я хочу, чтобы ты и твои дружки отвлекли его. За эту услугу я заплачу тебе десять долларов.
– Двадцать пять.
А этот Антон – парень не промах. Они приближаются к большому перекрестку. Пора действовать. Тия лезет в сумочку и достает деньги.
– Двадцать. Окончательное предложение. По рукам?
Мальчишка хватает деньги и, присвистнув, исчезает. Тия не оглядывается. На углу она ускоряет шаги, сворачивает направо, затем налево и ныряет в переулок, который выводит на небольшой рынок, кишащий народом. Одни просто смотрят на Тию, другие отходят в сторону, давая ей пройти. Тия сворачивает в другой переулок, где лежит тень от высоких зданий. Пройдя его наполовину, она останавливается возле тяжелой стальной двери, вмурованной в кирпичную стену, трижды стучит в дверь, выжидает несколько секунд и стучит еще два раза. Слышатся звуки отодвигаемых засовов. Дверь приоткрывается на длину цепочки. В узком проеме появляется мужское лицо.
– Я ищу Стефано.
– Кто такая?
– Меня послала Матерь.
Дверь закрывается. Хозяин сбрасывает цепочку и снова открывает дверь.
– Входи быстрее, – велит он.
Тия входит в небольшую комнату с единственным окном. Стекло в нем армировано проволочной сеткой. В углу койка, на которой спит хозяин, а рядом – что-то вроде кухонного закутка с электроплиткой.
– За тобой был хвост? – спрашивает мужчина: коренастый, мускулистый, с гладко выбритой головой и тяжелыми веками.
– Был, с самой остановки. Но на рынке я отвязалась от него.
– Что тебе нужно?
– Одежда и идентификатор.
– Сейчас посмотрю, что у меня завалялось.
Пока Тия раздевается, хозяин комнаты роется в ящике. Тия выбирает хлопчатобумажные брюки с завязками на поясе, просторную блузку и кожаные сапоги. Одежда далеко не новая; такую носят на работе, где приходится потеть. Запах пота сохранился до сих пор. Тия захватила с собой кое-что из косметики: красный и пурпурный карандаши для оконтуривания глаз, жидкость телесного цвета для обесцвечивания губ, желтоватую пудру, делающую лицо более смуглым. А вот волосы с каскадной стрижкой и слегка высветленными прядями можно лишь спрятать под мужской кепкой.
– Ну как? – спрашивает она.
Мужчина оглядывает ее:
– Старайся не поднимать голову, и все будет тип-топ. Теперь надо сделать снимок.
Тия встает у стены, завешенной белой простыней. Мелькает вспышка, и из нижнего отсека фотокамеры выползает готовый снимок. Мужчина уходит в соседнюю комнату и вскоре возвращается с новым идентификационным жетоном, еще теплым после ламинатора. Тия прикрепляет жетон к блузке и открывает сумочку.
– Ты знаешь Старину Фреда? – спрашивает мужчина.
Тия кивает. Старину Фреда знают все.
– Я оставлю твои вещи под его лотком.
Этим он дает понять: не возвращайся сюда. Он провожает Тию до двери и снова отодвигает засовы.
– Прибытие грядет, – говорит он.
– Прибытие грядет, – отвечает Тия.
Тия идет, опустив голову, стараясь не попадать в поле зрения дронов и камер. Тот мужчина больше не следит за ней. Она выбирает кружной путь и, когда добирается до нужного места, замечает, что тени домов стали длиннее. Она находится вблизи гавани на востоке острова. Воздух насыщен запахом рыбы. У причалов покачиваются лодки. Рыбаки перегружают дневной улов в корзины. Что-то останется на Аннексе, но лучшая часть отправится на Просперу, где рыбу разделают, приготовят и станут подавать на красивых фарфоровых тарелках – на квартирах, в частных домах и в залах ресторанов.
Тия вынимает из стены кирпич, достает ключ и открывает дверь. После унылой серятины улиц Аннекса комната кажется джунглями, сияя разнообразием красок и форм. Все стены увешаны большими живописными полотнами. Часть холстов прикреплена к мольбертам, расставленным повсюду. Манера письма – свободная и дерзкая, эмоциональная и в то же время говорящая о том, что художник прекрасно умеет владеть собой и следовать изначальному замыслу. Покой после ливня. Тоска по кому-то, ушедшему очень давно. Искра первой ошеломляющей любви.
– Паппи! – зовет Тия. Перед мольбертом в дальнем конце комнаты сидит старик, почти упирающийся в холст лицом. Он настолько поглощен работой, что не замечает гостьи. – Паппи, это я.
Он выходит из творческого транса и поворачивается к ней. Лицо старика остается неподвижным.
– Тия?
Его глаза похожи на мутные шарики, остатки седых волос всклокочены. Тия подходит и тепло обнимает его.
– Что ты здесь делаешь? – спрашивает он, и его неподвижное лицо расплывается в улыбке.
– Странно слышать от тебя подобный вопрос.
– Полагаю, ты приехала повидаться с Матерью, – говорит Паппи. – Увы, ее здесь нет.
– Вообще-то, я приехала купить что-нибудь из картин. – Это шутка, но лишь отчасти. – Поверь, я сделаю тебя богатым. – Тия всматривается в холст. – Смотрю, ты снова взялся за лица.
К этой теме он возвращается снова и снова. Впрочем, «тема» – неподходящее слово; картины Паппи не имеют тем. Правильнее назвать это «присутствием»: лежащий на глубине слой, который едва проглядывает из-под поверхности произведения. Лица в воде. Лица в облаках. Лица на стенах домов. Целая нить лиц, вплетенная в ткань мира.
– Расскажи, что́ ты здесь видишь.
Они постоянно играют в эту игру. Тия смотрит на картину; ее глаза скользят по поверхности холста, впитывая заложенные художником чувства.
– Уединенность, – подумав, говорит она. – Нет, не то. Одиночество. Но особого свойства. Ты просыпаешься посреди ночи, а все остальные продолжают спать. Угадала? – спрашивает Тия, глядя на Паппи.
– Ты всерьез почувствовала это? Я думал, что просто валяю дурака. Обещай, что останешься на обед.
– Я должна уехать до наступления темноты.
– Тогда мы пообедаем раньше обычного.
Надо бы отказаться. Времени мало. Но она не может заставить себя сказать «нет». Ну что случится, если она останется на обед? Одна мысль о совместном обеде доставляет ей радость, какой она не испытывала месяцами.
– Там будет видно, – говорит она, целуя старика в лысину.
Паппи улыбается. Вопрос с обедом решен.
– Тия, дорогая, знала бы ты, как братья и сестры обрадуются твоему приезду.
Она выходит через другую дверь и попадает в очередной переулок, поросший сорняками и заваленный мусором. Пройдя его до конца, она толкает очередную дверь и входит внутрь. Запах здесь ощущается еще сильнее; когда-то в этом помещении разделывали рыбу. Длинные металлические столы, предназначенные для резки и потрошения, сдвинуты к стенам. У задней стены есть люк заподлицо с полом. Тия открывает его и спускается в подвальный коридор, освещенный тусклой лампочкой. На стенах проступает влага; пахнет плесенью и сырой землей. Она подходит к двери, над которой висит камера, направленная вниз. Тия стучится в дверь и поднимает голову, показывая себя камере.
– Кого там еще принесло? – спрашивает бесплотный голос.
– Квинн, да открой же. Не видишь, что ли?
– Обожди секунду.
Секунда растягивается до двух минут. Когда Тия уже начинает терять терпение, дверь открывается.
– Ну и ну, – говорит Квинн. – Смотрю, приоделась.
Сам он выглядит так себе. Квинну за сорок. Бледная кожа, вечно прищуренные глаза и неухоженная борода. Словом, у него вид некогда привлекательного мужчины, измученного затяжной болезнью.
– Это все, что ты можешь сказать? – удивляется Тия. – Я думала, мы друзья.
– А ты не слышала, что заводить друзей опасно? Тебя вызвала Матерь?
– Нет, сама приехала. Сегодня было происшествие на паромном причале.
Квинн открывает дверь шире, пропуская ее внутрь.
– Давай посмотрим, что́ у тебя есть.
Пространство, куда попадает Тия, разделено на клетушки. Комнатенка с двухъярусными кроватями для членов движения. Кухонька, одновременно служащая лазаретом. И центральная комната, известная как «логово». Ее площадь – не более пятидесяти квадратных футов, но это средоточие движения, кора его мозга. Комната и выглядит как обиталище искусственного мозга. Она заставлена терминалами, пультами с сигнальными лампочками и переключателями; многочисленные кабели убраны в самодельные трубки, тянущиеся по стенам, полу и потолку. О назначении половины или даже большей части оборудования Тия не знает.
– Ты можешь найти записи с дронов, которые висели над причалом?
– В какое время?
– Незадолго до часа дня. Скажем, в двенадцать пятьдесят.
Квинн усаживается за терминал. Его ладони замирают над клавиатурой. Он похож на пианиста, готового вызвать бурю звуков. Потом пальцы Квинна начинают бегать по клавишам, только вместо звуков он извлекает данные из Центральной информационной системы: на черном экране появляются ряды ядовито-зеленых букв и цифр.
– Зацепил, – объявляет Квинн.
На экране появляется окно с видеозаписью. Причал, вид сверху. Люди, поднимающиеся на борт парома. В правом верхнем углу отмечено время съемки – 12:53.
Квинн подается вперед и тычет пальцем в левый нижний угол.
– Это ты? – спрашивает он Тию.
– Ага.
– Что ты там делала?
– Пошла прогуляться в обеденный перерыв. – Она пожимает плечами. – Я иногда хожу туда.
– Нездоровый выбор места для прогулок.
– Какой есть. Смотри дальше.
В левой части экрана появляется фигура. Это мужчина. Он неуклюже бежит по причалу. За ним мчатся трое охранников с электрошокерами, а чуть поодаль – мужчина в темном костюме. Дрон поворачивает камеру, сосредоточивается на преследуемом и включает приближение. Достигнув конца причала, мужчина поворачивается к преследователям и поднимает руки, стараясь защититься от них, но первый охранник опрокидывает его на бетонный причал и приставляет к горлу шокер. Тело жертвы напрягается и обмякает.
– Прыткий парнишка, – замечает Квинн. – Разве его не учили уважать старших?
Запись продолжается. Подбегает паромщик, хватает охранника за ремень и делает локтевой захват.
– Так-так, – бормочет Квинн, постукивая по стеклу монитора. – Сдается мне, что он сейчас задушит охранника.
Похоже, Квинн прав. Через несколько секунд тело охранника становится ватным. Паромщик отпускает его горло, и тот сползает на бетон.
– Они все спятили, – усмехается Квинн.
Паромщик опускается на колени и приподнимает голову старика. Его движения становятся совершенно иными, в них ощущается нежность и даже любовь. Глаза старика открыты и смотрят в небо; его губы начинают шевелиться.
– Останови запись, – просит Тия.
Квинн нажимает клавишу.
– Это тот, о ком я подумал? – спрашивает он, поворачиваясь к Тие.
– Да. И еще кое-что. По-моему, паромщик – его сын.
– Обалдеть!
– Можешь включить звук? Мне нужно услышать, о чем говорит старик.
Квинн отматывает запись до того момента, когда паромщик опускается на колени, затем включает аудиоканал и вновь запускает видео. Слова тонут в хаосе фоновых звуков: криков толпы, гула двигателей парома, шума ветра, несущего грозу.
– Можно как-нибудь подчистить звук? – спрашивает Тия.
Еще три прокрутки. С каждым разом звук улучшается, но незначительно. Слов старика по-прежнему не слышно. Квинн откидывается на спинку вертящегося кресла и устало потирает лоб.
– Слишком много фоновых шумов.
– Повтори снова, но медленно. Кадр за кадром.
Квинн выпрямляется и начинает покадровое воспроизведение.
– Гляди-ка. – Он указывает на рот старика. – Это «о».
– Точно «о». Продолжай.
– Это «а»? – спрашивает Квинн.
– Нет, – мотает головой Тия. – Видишь, как он напрягает челюстные мышцы?
– Будь по-твоему. Тогда что?
– Это «р». «О», «р», затем «а».
Квинн пристально смотрит на нее. Оба молчат.
– Чертовщина какая-то, – бормочет он.
Они продолжают покадровый просмотр, но оба и так догадались, какое слово произносит старик.
О-Р-А-Н-И-О-С.
Ораниос.
– Я годами пытаюсь перевалить через эту преграду, – говорит Квинн. – И вдруг появляется некий старик и как ни в чем не бывало произносит слово вслух.
Они сидят на кухоньке и пьют чай. У них за спиной открывается дверь. Это Джесс.
– Тия! – радостно восклицает она.
Тия встает. Женщины обнимаются.
– Матери здесь нет, – сообщает Джесс.
– Мне уже сказали.
Они размыкают объятия. Тия смотрит на подругу. Десять лет назад, когда они познакомились, Джесс поразила ее своей эффектной внешностью. Пожалуй, тогда эта женщина легко бы сошла за просперианку. Красота Джесс никуда не исчезла, но лицо стало худощавее и жестче. Лицо женщины, в чьей жизни много чего произошло; женщины, живущей верой. Волосы, когда-то длинные, теперь коротко подстрижены.
– А ты как? – спрашивает Джесс. – Все в порядке?
Тия пожимает плечами:
– Раз в неделю хожу на лицевой массаж. Разрабатываю левую руку.
– Тебя вызвала Матерь? – спрашивает Джесс.
– Нет, я приехала сама. Кое-что случилось. Тебе стоит посмотреть.
Они возвращаются в «логово», и Квинн показывает запись с камеры дрона.
– Вот здесь. – Квинн стучит ногтем по экрану. – В этот момент он и произносит…
Джесс плюхается в кресло.
– Боже милостивый. Как ты сумела узнать? – спрашивает она, глядя на Тию.
– Я там была. Видела все собственными глазами. И не только я. Зрителей хватало. Думаю, половина острова уже знает.
Джесс переводит взгляд на Квинна. Тот понимает намек.
– Я буду следить за трафиком, – обещает он. – Вскоре мы обязательно что-нибудь узнаем.
Джесс вновь поворачивается к Тие:
– Что еще известно об этом паромщике?
– Квинн добрался до его личного дела. Этот человек начал работать в Департаменте социальных контрактов сразу после окончания университета. Сейчас он занимает весьма высокую должность: управляющий директор Шестого округа. Возможно, пойдет на повышение, учитывая связи его жены.
– Да? А кто его жена?
Тия называет имя.
– Семейство – первый сорт, – произносит Джесс с нажимом. – Что-нибудь еще известно?
Тия пожимает плечами:
– Их брачный контракт длится уже восемь лет, но они так и не взяли питомца. Довольно странно, учитывая их положение.
– Успешная парочка, где каждый зациклен на карьере, – предполагает Джесс. – Им не до питомцев.
– Может, и так, а может, у них не все гладко на семейном фронте. Допустим, охладели друг к другу.
– Интересно, о чем еще мог бы сказать этот старик.
– Он был под наблюдением? – спрашивает Тия.
– Был, но давно, – подумав, отвечает Джесс. – Думаю, за ним следила повариха. Несколько лет назад он уволил ее. И Матерь отступилась.
– От чего?
Джесс пожимает плечами: «Откуда нам знать, почему она поступает так, а не иначе? Это ведь Матерь».
– Следовательно, мы можем лишь гадать, первый ли это его… эпизод, – говорит Квинн.
– Мы вообще ни черта не знаем.
– Расскажешь ей? – спрашивает у Джесс Тия.
– А ты сама не хочешь рассказать? – Не дождавшись ответа Тии, Джесс снова пожимает плечами. – Да, расскажу.
– Тогда что требуется от меня? – задает новый вопрос Тия.
– Надо подобраться поближе к этому паромщику, – недолго думая, отвечает Джесс. – Узнать, что известно ему.
– Согласна.
– Квинн, что скажешь?
Глядящий на экран Квинн пожимает плечами:
– Надо придумать то, что можно пустить в дело.
Джесс внимательно смотрит на Тию:
– Простите за банальность, но я все-таки скажу. Мы – не единственные, кто просматривает эту запись. Люди из «три-эс» тоже сунут сюда свой нос, особенно если учесть, что происходит сейчас.
– По пути я увидела это словечко на стене дома. Почти у самой остановки. Такое трудно не заметить.
– И эта надпись – далеко не единственная. Они появляются повсюду.
– Известно хоть, кто этим занимается?
Джесс недовольно морщится:
– Насколько мы знаем, из нашего движения – никто. Во всяком случае, никто не берет на себя ответственность. Но кем бы ни были эти ребята, хлопот от них больше, чем пользы. Власти не станут смотреть сквозь пальцы на их художества. Ответные меры последуют как пить так. И тебе надо смотреть в оба.
– А то я не смотрю.
– Предупредить никогда не лишне. – Джесс делает затяжной вдох и такой же выдох. – Поверить не могу. Этот паршивый Ораниос.
А затем Тия на час ощущает себя частью семьи.
За столом собрались все братья и сестры. Разумеется, между ними нет кровного родства. Изгои общества, дети улицы. Они приходят и уходят, их число постоянно меняется. На одном конце стола восседает Паппи, на другом – его жена Клэр: щедрая, властная и хлопотливая женщина. Она – словно теплый очаг, вокруг которого собираются все. Ни один рот не закрывается, отчего за столом стоит гвалт. Последним прибегает Антон, который садится рядом с Тией.
– Поверить не могу, что ты пытался запудрить мне мозги, – говорит ему Тия.
– А я что, не отвлек внимание «прыща»? – Мальчишка улыбается во весь рот. – И потом, я же был не один. Все должно выглядеть как надо.
– Ты меня за дурочку принимаешь?
– Твои слова, просси, не мои.
– Буду тебе признательна, если ты перестанешь называть меня этим словечком.
Паппи стучит черешком ножа по стакану с водой, утихомиривая собравшихся.
– Всем закрыть рты. Вы же знаете правило.
Все соединяют руки, образуя живой круг. Справа от Тии сидит Антон, слева – Квинн. Напротив нее – Джесс. Тия склоняет голову и закрывает глаза.
– Великая Душа, создательница земли и небес, благодарим тебя за милосердие и неустанную заботу. В особенности за то, что сегодня ты привела к нашему столу Тию. Она – одна из самых смелых твоих служительниц; сестра, стремящаяся познать всю полноту твоего Совершенного Замысла. Пусть твои руки оберегают ее, дабы она и дальше выполняла свою жизненно важную работу. И да свершится Прибытие.
– И да свершится Прибытие, – разноголосо подхватывают собравшиеся.
Паппи поднимает голову и улыбается.
– А теперь, вознеся хвалу, перейдем к трапезе, – говорит он.
На столе – простая пища Аннекса: теплые караваи грубого хлеба, тушеная капуста с корнеплодами, графины с водой, куда добавлены ломтики лимона и апельсина. Пока еду раскладывают по мискам, Тия задает себе всегдашние вопросы. Пробудила ли молитва в ней определенные чувства? Почувствовала ли она хоть что-нибудь? Она тронута и даже немного ошеломлена словами Паппи, но неужели все это – лишь ее эмоции? Тия не причисляет себя к истинно верующим. Совсем нет. Она много раз пыталась силой привести себя к вере, надеясь, что это принесет ей душевное успокоение, укажет жизненный путь, избавит ее от гнетущего чувства внутренней опустошенности. Но все ее искренние усилия оказались безрезультатными. Вот в живопись Паппи она верит. Судя по его картинам, он проникает в более глубокие пласты жизни. Будто нет ни холстов, ни красок, а каждая картина – окно, за которым мир предстает таким, каков он на самом деле. Паппи изображает реальность без прикрас.
Но Тия тут же прогоняет эту мысль. Может, Совершенный Замысел существует, а может, нет. Зато есть спасительный круг людей, собравшихся здесь. Слабый, почти электрический импульс, перебегающий от руки к руке. Это единственное счастье, доступное ей. Здесь, за общим столом, она счастлива. И это непреложная правда.
– Сбавь обороты, Антон. У тебя потом живот разболится.
Мальчишка соорудил из хлеба подобие черпака и торопливо поглощает содержимое миски. Тия не успевает глазом моргнуть, как он съедает все подчистую.
– Возьми мою, – говорит она, придвигая к нему свою миску.
– Тебе такое не по вкусу? Наверное, у себя одни пирожные лопаешь.
– Ошибаешься, Антон. Еда у вас очень вкусная. Просто я не голодна.
Мальчишка принимается за вторую порцию, при этом говоря с набитым ртом:
– Да пошутил я. Не волнуйся. Ты же одна из нас.
Час за столом проходит почти незаметно. Тия отправляется на кухню – помочь с мытьем посуды. Клэр отводит ее в сторону.
– У тебя действительно все в порядке? – спрашивает Клэр. – Я беспокоюсь за тебя. Паппи тоже.
Они несут к раковине новую стопку тарелок.
– У меня все в порядке. Честное слово.
– Тия, я же тебя знаю. По лицу вижу.
– И что ты видишь?
Клэр отряхивает мокрые руки и пристально смотрит на Тию.
– Что вижу? Утомление. Беспокойство. Одиночество. Не знаю, почему Матерь заставляет тебя всем этим заниматься, но чем меньше я знаю, тем лучше. Может, настало время пожить своей жизнью? Ты честно заработала это право.
– Я ей нужна.
– Не сомневаюсь. Ты всем нам нужна, Тия. И прежде всего – Паппи. – Клэр испытывает чувство вины, отражающееся на ее лице. – Прости, наговорила лишнего, – спохватывается она.
– Все нормально. Приятно, когда ты кому-то нужна.
– Я лишь прошу тебя: будь осторожна.
– Поверь, я не страдаю беспечностью. Тебе не о чем волноваться.
– Нет, есть о чем. Волноваться – моя работа. – Клэр устало улыбается. – Волноваться и кормить всю нашу ораву.
Посуда вымыта. Тия прощается и сразу уходит. Сумерки вот-вот сменятся темнотой. Старина Фред уже свернул торговлю и отнес товары на склад. Тия открывает дверь склада ключом, полученным от Стефано, находит бумажный мешок со своей одеждой, быстро переодевается и спешит на остановку. Пассажиры уже садятся в последний автобус.
– Ну как, госпожа Димопулос? Плодотворно провели день?
На пропускном пункте дежурит тот же охранник. Тия смотрит на его самодовольную физиономию.
– Да, благодарю вас, – с улыбкой отвечает она. – Уверена, так и есть.
Каллиста Лэйрд председательствует в Коллегии по надзору. Ей слегка за шестьдесят. Безупречный маникюр, такой же безупречный макияж, умело сделанная прическа. На ней деловой костюм: юбка-карандаш и жакет из той же ткани. Костюм дополняют туфли на высоком каблуке. Этот день прошел для Каллисты отнюдь не лучшим образом.
Все началось с доклада, поступившего из Министерства труда. Каллиста надеялась на хорошие новости, однако в докладе говорилось прямо противоположное. Производительность труда неуклонно падает. За минувший месяц она снизилась более чем на четыре процента. Жители Просперы начинают это замечать, а те, кого сбой еще не коснулся, вскоре столкнутся с неприглядной реальностью. На тротуарах – зловоние из-за мусора, который не убирают. На фабриках и фермах – сплошная видимость работы. В ресторанах – нехватка официантов и мойщиков посуды. Посетители вынуждены ждать по часу, пока у них примут заказ.
А теперь еще эта… отвратительная история на паромном причале.
Едва узнав о происшествии, Каллиста, как всегда в подобных случаях, наложила запрет на упоминание о нем в средствах массовой информации. Но замолчать историю не удалось. На причале было немало очевидцев, и к вечеру, знала она, это станет главной темой разговоров. «Вы слышали?.. Как ужасно, просто шок. Удивительно, что вам еще никто не рассказал…» И жертвой инцидента стал не кто-нибудь, а Малкольм Беннет. Конечно, ему можно только посочувствовать, но невольно встает вопрос: почему его доставили к парому только сегодня? Он давным-давно должен был отправиться на реитерацию.
Постучавшись, входит секретарша:
– Госпожа председатель, прибыл министр общественной безопасности.
– Благодарю, Саша. Проводите его ко мне.
Посетителя она встречает стоя.
– Здравствуйте, министр Уинспир. Хорошо, что вы пришли.
– Не смел отказаться, госпожа председатель.
– Могу я вас чем-нибудь угостить? Кофе? Чай? Или что-нибудь покрепче?
– Благодарю вас, не сейчас.
Они рассаживаются. Каллиста окидывает Уинспира взглядом. Мужчина примерно ее возраста. Хорошо сложенный, ухоженный, с красивыми рельефными скулами. Седые волосы аккуратно подстрижены, как и бородка. Несмотря на поздний час, его костюм выглядит только что отутюженным.
– Вы наверняка знаете, зачем я вас пригласила. – (Уинспир кивает.) – Вы видели запись с камер дрона?
– Естественно.
– И больше никто не видел?
Он качает головой.
– Каково ваше впечатление?
Уинспир пощипывает бородку, явно подыскивая слова для ответа.
– Это видео… вызывает тревогу.
– Отто, давайте без обтекаемых фраз. Малкольм произнес это или нет?
– Звук очень плохой, но он вполне мог произнести. Сейчас мы опрашиваем свидетелей.
– Сколько их?
– Пятьдесят шесть, не считая ретайров. Однако в большинстве своем они были на значительном расстоянии. Вряд ли они должны беспокоить нас.
– А кто должен?
– Помимо Проктора? Прежде всего его стажер.
– Я и не знала, что Проктор взял стажера. Кто он такой?
– Джейсон Ким.
У Каллисты сводит живот.
– Этого парня только приняли на работу, – продолжает Отто. – Фактически сегодня был его первый день.
Каллиста делает паузу. Разве кое-кто не обязан предупреждать такие происшествия?
– Госпожа председатель, с вашего позволения… – Уинспир наклоняется к портфелю и достает папку. – После просмотра видео я кое-что выяснил. Это отчет из Министерства благополучия, составленный двадцать четыре года назад. Приемные родители Проктора провели всестороннее обследование его здоровья. Незапланированное.
Для Каллисты это новость.
– Что с ним было не так?
– Он видел сны. – Уинспир раскрывает папку и кладет на стол. – И не только это. Случались приступы сомнамбулизма, во время которых он вел себя весьма настораживающим образом.
Каллиста пододвигает папку к себе и читает. «Пациент: Проктор Беннет. Возраст: И + 2. Приемные родители: Малкольм и Синтия Беннет. Показания монитора: в пределах нормы. Пациент жалуется на частые и тревожные сновидения, хотя не может вспомнить никаких характерных подробностей. Приемная мать сообщала о случаях сомнамбулизма, сопровождавшихся поломкой предметов домашнего обихода».
– Как видите, отзвуки у Проктора появились сразу после сошествия с парома, – продолжает Уинспир.
Боже милостивый, как же они это просмотрели?
– Были ли у него рецидивы?
– Об этом в отчете не говорится. В юности подобные явления не редкость. Доктор Пэтти, которая его обследовала, не придала этому особого значения.
Каллиста встает и поворачивается к окну у себя за спиной, глядя сквозь собственное отражение. Ей видны огни города, а дальше – полоса лунного света на водной поверхности внешней гавани.
– Госпожа председатель…
Она взмахивает рукой:
– Отто, не надо формальностей. Мы слишком давно знаем друг друга.
– Хорошо. Каллиста, я знаю… для вас это очень личное. И так было всегда. Но это… это и является проблемой.
– Возможно, Малкольм просто что-то пробубнил.
– Возможно. А может, все-таки произнес то самое слово, но Проктор даже не отреагировал. Ситуация была стрессовой. Не исключаю, что он вообще забыл об этом. Элиза рассказывала вам о чем-нибудь?
– О чем именно?
– О переменах в его поведении. Может, между ними возникли трения?
– Ни о чем подобном я от нее не слышала. И вряд ли она поделится со мной этим.
– А с ней самой все в порядке? – (Каллиста отворачивается от окна.) – Каллиста, мне неприятно лезть в чужую жизнь, но я должен постоянно быть в курсе событий. Полагаю, вы уже видели новые данные из Министерства труда?
– Как все это связано с Проктором?
– Боюсь, самым прямым образом. На Аннексе ширятся беспорядки. Эти «прибытчики»…
– Мятежники, – презрительно морщится Каллиста, взмахивая рукой. – Религиозные фанатики. В прошлом мы уже разбирались с подобной публикой.
– Верно. Отчасти этого следовало ожидать, и мы всегда сумеем навести порядок. Но есть отличие. Это мы именуем их «прибытчиками». А они высокопарно называют себя «приверженцами Учения о Прибытии». Думаю, от вашего внимания не ускользнуло, какое слово они выбрали.
– Отто, у этого слова может быть куча значений.
– Может. Но я так не думаю. И даже если меня отправят в преисподнюю, я все равно скажу: вы тоже так не думаете. Кто-то из них что-то знает. Может, пока они не догадываются, что знают, и это существует только на уровне ощущений, но зараза быстро распространяется по всему Аннексу. Поговаривают даже о всеобщей забастовке. – Отто умолкает, приваливаясь к спинке стула. – А тут еще Малкольм Беннет с его маловажным… случаем на паромном причале. Одно дело, если Проктор расскажет о нем друзьям по загородному клубу. А вот когда такие разговоры ведутся с обслуживающим персоналом, это совсем другое. И не важно, что’ именно Проктор услышал от отца или думает, что услышал. Уверен, «прибытчиков» это заинтересует ничуть не меньше, чем нас.
– Мы по-прежнему не знаем, произнес ли Малкольм это слово.
– Допускаю, что не произнес. Вопрос в том, можем ли мы рисковать.
Каллиста вновь поворачивается к окну. Какой завораживающий, какой манящий вид! Начало восьмого. Жители Просперы готовятся к вечеру: принимают душ, одеваются, смешивают коктейли и спешат заказать столики в ресторанах.
– Я думала, может, на этот раз…
– Проблема разрешится сама собой? – заканчивает за нее Отто. – Мы оба знаем, что такого не бывает.
Какое-то время они молчат.
– Чуть не забыла. – Каллиста по-прежнему смотрит в окно. – Насколько понимаю, вы заключили новый брачный контракт. Отто, примите мои поздравления.
– Благодарю. Очень любезно с вашей стороны.
– Как я слышала, чудесная девушка. Но учтите, она молода и на нее будут заглядываться. – Прежде чем Отто успевает ответить, Каллиста снова поворачивается к нему. – Благодарю вас, министр. Ценю, что безотлагательно прибыли по моему вызову.
– Если хотите, чтобы я поговорил с нашим другом…
Каллиста жестом останавливает его.
– Это лишнее.
Уинспир смотрит на нее с бесстрастным видом. Затем встает, берет портфель (папку он намеренно оставляет на столе) и кивает:
– Разрешите откланяться, госпожа председатель.
Оставшись одна, Каллиста подходит к стенному бару и наливает себе виски. Уинспир – настоящий сухарь, в его присутствии ей всегда становится тревожно. А от происходящего в Министерстве общественной безопасности делается еще тревожнее. Четкого представления о происходящем нет даже у нее.
Она возвращается за стол, садится и делает несколько глотков. Что у них намечено на вечер? Вероятно, театр или концерт. По вечерам они с мужем редко сидят дома. Наверное, сейчас Джулиан ходит взад-вперед, постоянно глядя на часы и удивляясь, почему она опаздывает.
Негромкий стук в дверь. Вновь появляется секретарша:
– Госпожа председатель, будут ли еще какие-нибудь распоряжения?
Вопрос секретарши возвращает Каллисту к реальности.
– Нет, Саша. На сегодня все. Можете идти.
– Приятного вам вечера, госпожа председатель.
Хорошая девушка эта Саша. Воспитанная, пунктуальная, донельзя сдержанная. Каллиста допивает виски. Телефон стоит рядом и словно ждет, когда она снимет трубку. Черт бы побрал Малкольма Беннета. Черт бы побрал Отто Уинспира. Черт бы побрал Проктора и всех и вся, включая ее работу.
Она знает, как поступить. Нужно лишь решиться на это.
4
– Проктор, дорогой. Я так сочувствую тебе… – Элиза встретила меня в прихожей и сразу бросилась на шею. – Я услышала и сразу вернулась домой. Где ты был? Боже, да ты весь мокрый!
В самом деле, где я был? Такое ощущение, словно события этого дня я помню лишь частично. Помню, как вылез из машины и мгновенно промок. Помню, как дождь изменил город. А потом я шел милю за милей, не зная, куда иду. Тучи рассеялись. Свет солнца был ослепительно-ярким и обжигал мне глаза. В какой-то момент я обнаружил себя… в самом буквальном смысле; не знаю, как меня туда занесло… Я обнаружил себя у ворот Академии раннего обучения. Я стоял, а в мозгу шевелилась мысль: попала ли Кэли сегодня в школу? (И почему это должно меня заботить?) Затем, под вечер, я оказался на берегу, где мы с ней встретились утром. Пейзаж тот же, но освещение поменялось. Солнце теперь стояло у меня за спиной, и моя тень тянулась к воде. Темнеющее море, закатное небо множества оттенков, неподвижный воздух, словно природа затаила дыхание. Барашки волн, накатывающих на влажный песок. «Как по-вашему, что там находится?» Я встал у самой воды и вдруг почувствовал неодолимое желание нырнуть. Я разделся до трусов, оставив промокший костюм на песке, и бросился в волны.
А теперь, когда день необъяснимым образом закончился, я вернулся домой.
– Представляю, какой ужас ты пережил, – сказала Элиза.
– Откуда ты узнала?
Едва успев задать вопрос, я понял, насколько он глуп. Элиза узнала вместе со всеми.
– Услышала от покупательницы. Тогда я еще не знала, что это ты, но потом мне позвонили с твоей работы.
– Звонившего звали Джейсон?
– Кажется, да. Он назвался твоим стажером. Я даже не знала, что ты взял стажера. – Элиза крепче обняла меня. – Главное, ты дома. Представляю, как больно тебе было видеть отца в таком состоянии. Но его хотя бы не провожал чужой человек. Это очень важно.
– Наверное, ты права.
Элиза чуть отодвинулась, и я увидел, что ее глаза блестят от слез. Не надо ли было заплакать и мне, ведь я должен быть растроган тем, что жена так любит меня и стремится утешить в тяжелую минуту? Но мне вовсе не хотелось. Я вообще не чувствовал ничего, кроме жуткой усталости.
– Прости за утренние слова, – сказала Элиза. – Я была так резка с тобой. Проктор, мне хотелось, чтобы ты был счастлив. А потом произошло все это…
– Я на тебя не сержусь. Я тоже вел себя не лучшим образом.
Мы снова обнялись.
– Ты весь промок. Раздевайся.
Пока я раздевался, Элиза наполнила ванну. Только погрузившись в горячую воду, я по-настоящему понял, как сильно продрог, часами расхаживая в мокром костюме и хлюпающих ботинках. Я устал до мозга костей. В ванне я просидел до тех пор, пока вода не начала остывать, а когда выбрался оттуда, произошли три события, не связанные между собой. У меня прояснилось в голове. Элиза приготовила обед. (Мои ноздри уловили запах чеснока в винном соусе.) Я решил уволиться.
Быть паромщиком означало исполнять определенную роль. Наша обязанность – утешать и успокаивать. Мы стоим на страже эмоционального порядка в самые трудные и ответственные моменты жизни ретайров. Шесть часов назад на глазах толпы испуганных очевидцев я едва не задушил охранника. Утратив самоконтроль, я в одно мгновение перечеркнул все свои принципы, опозорился сам и опозорил свою профессию. Задумавшись о последствиях, я пришел к выводу, что меня почти наверняка уволят, а если нет, то понизят в должности, и это будет еще мучительнее. Это как медленная смерть, когда от тебя каждый день отрезают по кусочку. «Вы спрашиваете про бывшего директора Беннета? Пройдите по коридору. Слева, рядом с туалетами, будет кладовка. Теперь его рабочее место там».
Такая перспектива мне совсем не улыбалась. Уж лучше броситься на меч, как делали воины в древности. Да, настало время найти себе другой род занятий. Я оделся и прошел на кухню. Элиза заканчивала приготовление обеда. Стол уже был накрыт. В канделябре горели свечи, как принято у нас в доме. На разделочном столике ожидали открытая бутылка вина и два бокала.
– Тебе лучше? – спросила жена.
– Я только в ванне понял, как сильно озяб, – кивнув, ответил я.
Руки Элизы были заняты дуршлагом.
– Налей вина, пока я заканчиваю, – сказала она.
Я перенес бутылку и бокалы на стол. Прекрасное вино. И цвет красивый: насыщенно-красный. Его присылает подруга Элизы, унаследовавшая от родителей виноградник на севере острова. Лето там суше, чем у нас, а дожди в прохладный сезон выпадают чаще. Говорят, это благотворно действует на урожаи винограда и, соответственно, на вино. Может, мне стать виноделом?
Мы уселись за стол и какое-то время ели молча. Я не сразу понял, откуда у меня такой волчий аппетит, потом вспомнил, что с утра ничего не ел. Когда тарелка опустела, я поднял голову и увидел, что Элиза смотрит на меня нежно и заботливо. Какая чудесная, добрая женщина. Ну неужели мне этого мало? Может, такое происходит со всеми парами: брак по выбору со временем превращается в брак по привычке? Приятно было вспоминать, как она меня встретила: объятия, слова утешения, ванна, вкусный обед при свечах. Но из-за дневных событий дня все это ощущалось каким-то зыбким и ненастоящим, словно я попал в чужую жизнь или в ту, которая была у меня прежде, а не сейчас. Я подумал о Кэли. Надо же, у меня вдруг появилась юная подружка. Наверное, эмоциональная травма притупила и отодвинула на задний план остроту этой встречи, однако наше знакомство казалось мне предвестником чего-то. Я уже собрался рассказать о ней Элизе: «Знаешь, утром я познакомился с очень интересной девочкой. Наверное, ты слышала о девочке со шрамом. Так вот, это она». Однако меня тут же пронзила неприятная мысль. Дерганый мужчина среднего возраста и симпатичная девчонка со своими тараканами в голове. Странная парочка, не правда ли? Мой интерес к ней могли истолковать превратно. Если бы мне рассказали похожую историю, я бы сделал то же самое.
– Проктор, ты где?
– Прости. – Я изобразил одну из своих фирменных улыбок: наполовину смущенную, наполовину извиняющуюся. Я часто демонстрирую ее миру. Еда на тарелке Элизы была не столько съедена, сколько передвинута с места на место. – Мысли разбегаются. День был слишком уж странным.
– Хочешь, поговорим об этом? Может, станет легче?
– Я даже не знаю, о чем говорить.
Элиза потянулась через стол и взяла меня за руку.
– Ты ведь знаешь, я хочу тебе только добра.
– Это и без слов понятно. Я тут подумал… Утром ты была права. Сегодняшний день наглядно это показал.
Ее лицо озарилось довольной улыбкой.
– Проктор, так это же замечательно. Я очень рада. И как хорошо, что ты сам заговорил об этом.
– Мне понадобится несколько недель. Возможно, месяц. Надо передать дела. Не хочу лишних хлопот для сотрудников Департамента. А когда все сделаю, попрошусь в отпуск, из которого могу не вернуться. Наверное, это будет самым красивым уходом. Никакой горячки.
Элиза согласно кивала.
– Очень здраво. По-моему, великолепный план.
– Сомневаюсь, что после сегодняшних событий кто-нибудь станет возражать. Возможно, от меня и ждут чего-то в этом роде. Я просто избавлю начальство от необходимости сказать мне это в лицо.
– Ты прекрасно справляешься со своими обязанностями. Это скажет любой. Ты сделал карьеру, достиг в ней вершины. Нет ничего постыдного в том, чтобы двинуться дальше и начать делать другую. В отпуске у тебя появится время, чтобы хорошенько все обдумать.
– В общем-то, я уже обдумал. Почему бы не попробовать себя в преподавании?
– Преподавание. – Элиза кивнула, но без энтузиазма. Наверное, она рассчитывала на что-нибудь более эффектное. – Ты говоришь о высшей школе.
– Пока не знаю. – Я действительно не знал. Преподавание. Откуда взялась эта мысль? И чему я буду кого-то учить? – Пока это просто идея.
– Может, преподавание. Может, еще что-нибудь. Главное – понять, что́ ты хочешь делать. Каково самое сильное твое желание. Вот я, например, всегда хотела быть дизайнером одежды.
– У тебя это здорово получается.
– И у тебя многое будет здорово получаться. Так что не торопись. Наслаждайся своим выбором. Торопиться некуда. – Она сжала мою руку. – И не беспокойся о мытье посуды. Я хочу, чтобы ты отдохнул.
– Спасибо. Я и вправду устал.
– Иди отдыхай. Расслабься и постарайся успокоиться.
Взяв свой бокал, я отправился в патио, чтобы допить вино, любуясь морем. Волны вздымались, словно удары сердца, питающие землю. Как странно. Прекрасный вечер, ясный и полный звезд, однако моего отца уже не было на Проспере.
Этой ночью сон был другим.
Я проснулся, увидев себя бродящим по незнакомой улице. Где я? Как оказался здесь? Вокруг ни домов, ни фонарей. На мне – халат, накинутый на голое тело. Хорошо еще, что в этом диссоциативном состоянии мне хватило мозгов во что-то одеться. Скромность безумца! По крайней мере, меня не арестуют за оскорбление общественной нравственности. Но остается другой повод: невменяемость.
Вспомнилось завершение вечера. Я допивал вино, сидя на патио. Потом пришла Элиза, взяла меня за руку и повела в постель. Плотные простыни, гладкое тело Элизы, ее мягкие губы, прильнувшие к моим. Нарастающее возбуждение, знакомый ритм движений и последующее утомление, все сильнее овладевавшее мной.
Ночной воздух был на удивление холодным. Клочья облаков окаймляли серебристый диск луны. Час явно поздний. Вокруг – ни одного знакомого ориентира. В какой стороне дом? Что, если меня видели? Как я объясню свои ночные блуждания, да еще в халате на голое тело?
Я выбрал направление и пошел. Дорогу с обеих сторон окружали непроницаемые стены из растительности. Время неумолимо бежало, однако я так и не мог понять, куда меня занесло. Я уже почти оставил надежду на возвращение домой, смирившись с тем, что рассвет застанет меня неведомо где, – но тут наткнулся на проезд. Глубокие колеи подсказывали: он ведет к дому, в котором кто-то живет. Мое отчаяние было столь велико, что я отважился зайти внутрь и потревожить сон хозяев.
Я углубился в гущу листвы. Вскоре деревья расступились, и я увидел дом. Света в окнах не было, но кто бодрствует в такое время? Чем ближе я подходил к дому, тем больше печальных деталей пейзажа мне открывалось. Лужайка сильно заросла. Передние окна были закрыты ставнями, водосточная труба на боковой стене накренилась, готовая отвалиться. Я нажал кнопку звонка, но не услышал звука. Вероятно, звонок был сломан. Я постучался в дверь. Тоже безрезультатно. Потом еще раз, громче.
– Эй! – крикнул я. – Есть здесь кто-нибудь?
И снова тишина. Паника внутри меня нарастала. Вдобавок я зяб все сильнее. И когда ночи успели стать такими холодными? Я дернул ручку, и оказалось, что дверь не заперта.
– Эй! Хозяева, принимайте непрошеного гостя!
В тесной передней пахло сыростью и отчасти – плесенью. Постепенно до меня дошло: здесь никто не живет. К этому времени я успел побывать в нескольких комнатах. Пустые стены и полное отсутствие мебели. Никаких признаков того, что когда-то тут жили люди. Я попытался найти телефонный аппарат, но и его, естественно, тоже не было. Судя по всему, дом пустовал уже много лет.
Из гостиной на задний двор вела раздвижная стеклянная дверь. К этому времени я уже ничего не искал и открыл дверь просто так. Я выбрался в патио. Камни пола во многих местах раскрошились. Из трещин росли сорняки. За патио лежало темное открытое пространство.
Оказалось, что это плавательный бассейн. Дно завалено мусором, сверху – слой протухшей воды толщиной в несколько дюймов.
Что здесь произошло? Куда делись жильцы? И почему от этого места веяло такой грустью и чувством невосполнимой потери? Складывалось ощущение, что жившие здесь просто сбежали.
Тогда-то я и увидел мужчину.
Он стоял на краю патио, спиной ко мне, запрокинув голову к небу, словно любовался звездами. На нем тоже был халат. Вот удача! Собрат по несчастью, которого тревожные сны подняли с постели, и он, подобно мне, отправился бродить в ночной темноте. Моих шагов он не слышал. Я кашлянул и окликнул его:
– Прошу прощения, сэр! Может, вы подскажете, куда я забрел?
Он не ответил. Я подошел к нему сзади.
– Видите ли, я нуждаюсь в помощи. – Чтобы незнакомец не встревожился, я остановился в нескольких футах от него. – Дело в том, что я заблудился.
Молчание. Потом:
– Звезды какие-то не такие.
Странное замечание. Может, я чего-то недослышал?
– Даже не верится, что раньше я не замечал этого. А ты видишь? – Продолжая стоять ко мне спиной, он поднял руку и широким жестом обвел небо. – Звезды вообще не на тех местах.
Мне вдруг стало очень неуютно и даже страшно.
– Но ты ведь всю жизнь знал это, верно? Время проснуться и вдохнуть аромат кофе.
Он резко повернулся ко мне. Мои руки и ноги стали желейными. Силы куда-то делись. Казалось, я завис над землей, словно воздушный шарик. Кошмар, в котором я никак не мог опуститься на землю и боялся, как бы не улететь навсегда.
Этим человеком был я.
– Ты забыл, да? – Он крепко и больно схватил меня за плечи. – Грустное ничтожество, ты успел все позабыть.
Я дрожал, не в состоянии произнести ни слова.
– Открой глаза!
– Отпустите меня, – промямлил я. – Я ничего не понимаю.
Он разжал пальцы и влепил мне пощечину. Щеку обожгло невыносимой болью.
– Открой глаза, я сказал!
Он снова ударил меня. Я скулил, как собачонка. Сил сопротивляться не было.
– Эй, соня!
И опять.
– Да открой свои чертовы глаза!
– Открывай глаза, соня.
Прохладные простыни, солнце, струящееся в глаза, лицо, склонившееся надо мной. Элиза.
– Ну наконец-то проснулся, – с улыбкой сказала она.
Я поморгал, прогоняя остатки сна. Элиза, уже одетая для работы, сидела на краешке кровати, словно медсестра, собирающаяся измерить мне температуру.
– Который час? – спросил я.
– Около десяти.
Надо же, как я заспался. Жена давным-давно встала, успела поработать в мастерской, позаниматься фитнесом, перекусить, принять душ и одеться. А я все это время дрых. Изрядная часть утра прошла без меня.
– Я позвонила Уне и сказала, что ты неважно себя чувствуешь. Оставайся дома и отдыхай. А мне надо в город по делам.
Огненно-рыжая Уна была моей секретаршей, хотя на самом деле играла более важную роль, сравнимую с ролью первого зама. Я считал, что с ее умом и деловой хваткой заниматься секретарской работой – просто гробить себя. Год за годом я ждал, что Уна найдет себе занятие, больше отвечающее ее способностям, однако она так никуда и не ушла.
– Спасибо, – сказал я жене. – Но мне все равно нужно поехать и составить отчет.
– Проктор, ты серьезно? Уверена, что это вполне сможет сделать кто-нибудь из твоих сотрудников.
– У нас так не принято, – возразил я; Элиза выразительно посмотрела на меня. – Хорошо. Я тебя понял. Но рано или поздно мне все равно нужно там появиться.
Кажется, мой ответ ее удовлетворил. Она наклонилась и поцеловала меня в губы. Не чмокнула, а именно поцеловала, сказав:
– Минувшей ночью ты был очарователен.
Она имела в виду секс? Или это мне тоже приснилось?
– Ты тоже.
Элиза встала с кровати. В этот день она оделась изысканнее, чем обычно: шелковая блузка кремового цвета с умеренным вырезом, короткая облегающая юбка и туфли на высоком каблуке. Женщина, одевшаяся для войны. Должно быть, ей предстояла встреча с важной покупательницей.
– Не забудь, что вечером нас ждет поход.
Я прошерстил память, но так ничего и не выудил.
– Прости, но я не помню, куда мы идем. Подскажи.
– На концерт, – вздохнула она. – С моими родителями. Неужели забыл?
Мои тесть и теща – завзятые меценаты. Опера, симфонические концерты, театры. Они заседают во всех благотворительных комитетах и получают абонементы на все спектакли и концерты, часто приглашая и нас.
– Представь себе, забыл. Еще раз прошу прощения.
– Это последствия стресса, – сказала Элиза и снова улыбнулась. – Понимаю. – Наклонившись, она наградила меня вторым поцелуем. – Я так горжусь тобой, Проктор. Мы это преодолеем. Вот увидишь, перемена пойдет тебе на пользу.
Она ушла. Вскоре я услышал скрип гравия под колесами отъезжавшей машины. Я был одновременно рад и не рад остаться один. В ванной я подключил ридер и измерил уровень своей жизненности. Семьдесят пять процентов. Не так плохо, как я опасался, и тем не менее не ахти. Ну и состояньице! Я пробудился от сна и оказался в других снах. Мысли начали тревожно ветвиться. Кто поручится, что я и сейчас не продолжаю спать?
Не буду же я до вечера валяться в постели. Я побрился, оделся, подумал о завтраке, однако сил соорудить себе что-нибудь не было. Я ограничился чашкой кофе. Едва я успел сесть за стол и сделать несколько глотков, раздался дверной звонок. Неужто Джейсон притащился? Сейчас я заверну его обратно. Оказалось, это был не он.
– М-да… – буркнула Кэли, стоявшая в проеме двери. – Вы что, совсем забыли?
Она была в желтом махровом платье, надетом поверх купального костюма, а в руке держала плетеную сумку.
– Я и не знал, что ты имела в виду сегодняшний день. Не помню, чтобы я соглашался начать уроки сегодня.
– Вы говорили, что научите меня плавать. Вот я и пришла.
– А не должна ли ты сейчас быть в школе?
– Необходимость ходить туда слишком преувеличена. – Кэли обшарила взглядом прихожую. – А где ваша жена?
– На работе.
– Чем она занимается?
– Если тебе так любопытно, она – модельер женской одежды.
– Модельер, – повторила Кэли с какой-то смешной интонацией. – В смысле, платья и прочие шмотки?
– Да. Платья и прочие шмотки.
Она равнодушно кивнула, закинула прядку светлых волос за ухо и наморщила лоб.
– Пока мы не отправились на берег, скажу вам одну штуку. Я и в самом деле боюсь воды.
– Серьезно? А почему?
Кэли склонила голову набок и окинула меня снисходительным взглядом, в котором читалось: «Боже, какие нелепые вопросы задают эти взрослые. И почему только им позволено всем распоряжаться?»
– Понятия не имею, господин паромщик. Может, потому, что вода хочет меня утопить.
– Океан вообще ничего не хочет. Это водная стихия, которая просто существует.
Она торжествующе улыбнулась:
– Пусть будет так. Кое-что я уже узнала. Я обожду снаружи, пока вы собираетесь.
Кэли, как выяснилось, не преувеличивала. Она не просто боялась воды, а панически боялась ее.
Мы зашли в воду по пояс.
– Ни хрена себе, – пробормотала она.
– Юная леди, следите за своим лексиконом.
У девчонки дрожал подбородок. Лицо стало бледным.
– Я сказала то, что чувствую. Зря я вчера согласилась. Дурацкая затея.
– Ты до этого погружалась в океан?
– Что значит «погружалась»? Объясните.
– Значит, нет.
– Могу сказать, что я все время собиралась это сделать.
– Тогда мне придется окунуть тебя с головой.
– Вы не посмеете.
Я посмел. Кэли тут же вынырнула, размахивая руками и отфыркиваясь.
– Вы придурок!
– Ты же знаешь, что здесь можно стоять.
– Знаю, что можно, – сердито буркнула она. – Я просто… привыкала к обстановке.
Она выпрямилась во весь рост.
– Ну и как тебе? – спросил я.
– Полная жуть. Спасибо вам большое.
– Я не о погружении. Что ты почувствовала, назвав меня придурком?
Кэли задумалась.
– Мне понравилось.
– Давай начнем с простых вещей, к которым легко привыкнуть. Можешь задержать дыхание секунд на двадцать?
– На пять.
– На десять. Встань у меня за спиной и ухватись за мою шею.
Я присел на корточки. Кэли забралась мне на спину.
– Странный способ, – заявила она.
– Ничуть. Так меня учила плавать мама. Готова?
– Вы собираетесь напугать меня до смерти?
– Держи глаза открытыми. Тебе понравится смотреть на водный мир. А теперь набери побольше воздуха, и… нырнули.
Я нырнул и поплыл, неся на себе Кэли, словно плащ. Два взмаха, потом три, и вот я уже плыву вдоль дна. Вокруг нас сновали рыбки, их чешуя отливала всеми цветами радуги. Такие моменты обычно нравятся всем. Я их просто обожал. Это чувство погруженности в таинственный мир, полный жизни и красоты… Рыбешки снуют, повинуясь инстинкту, без всяких мыслей. Да и что может волновать рыб, помимо своей принадлежности к рыбьему племени? Есть ли им дело до мира за поверхностью воды? Существует ли он для них или кажется недосягаемым небесным сиянием? Я отсчитал десять секунд, затем оттолкнулся и всплыл, вновь оказавшись под утренним солнцем.
– Держите меня за задницу! – пробормотала Кэли.
Трудно сказать, была ли она удивлена совершенным погружением или рассержена оттого, что я заставил ее сделать это.
– Говоря более приличным языком, там очень красиво, так?
– А кто там все время мелькал? Неужели рыбы?
– Кэли, ты что, шутишь? Разве ты никогда не видела рыб?
– На тарелке. – Она снова встала у меня за спиной. – Ну что, господин паромщик, пора совершить еще одну прогулку на дно.
Я невольно улыбнулся. Давно я не получал столько удовольствия. Кто бы мог подумать, что после вчерашних событий я буду учить плавать эту странную девчонку, взирающую на мир с недетской угрюмостью? Мы ныряли снова и снова, забираясь все глубже. Перед последним погружением я велел ей отпустить мою шею и всплыть самостоятельно. Кэли вынырнула с ликующей физиономией.
– А теперь займемся настоящим плаванием, – сказал я.
Час или даже больше я учил ее основам плавания вольным стилем. Поначалу она делала это неуклюже: высовывала голову, чтобы набрать воздуха, переставала двигаться и, естественно, камнем шла на дно. Но мало-помалу она освоилась.
Когда мы решили сделать перерыв, был почти полдень. Солнце стояло высоко в небе, а мы – парочка веселых заговорщиков – подрывали основы мироустройства, постаравшись забыть о том, чем каждый из нас должен был заниматься в этот день.
– Спасибо, что учите меня плавать, – сказала Кэли.
Мы сидели на полотенцах, прислонившись спиной к скалам. Кожа стала липкой от морской соли. Тело испытывало приятную усталость.
– Вообще-то, это я должен тебя благодарить, – сказал я.
– За что?
– Вчера ты спросила, бывает ли мне грустно. Твой вопрос заставил меня задуматься. Ты оказалось права: бывает. Или бывало, – пожав плечами, добавил я.
– Что значит «бывало»?
Это утро настроило меня на откровенность.
– Вчера у меня на работе кое-что произошло. Не стану вдаваться в подробности, история слишком долгая. Но после этого я решил сменить род занятий.
Кэли недоверчиво посмотрела на меня:
– И вы теперь больше не паромщик?
– Нет, какое-то время я еще побуду паромщиком. Это не делается за один день. Но потом сменю род занятий. Можешь что-нибудь посоветовать?
Кэли задумалась.
– Из вас получился бы отличный учитель плавания. Интересно, за это хорошо платят? – (Я усмехнулся.) – Но вы же не пробовали. – (Я вдруг вспомнил, что сказал Элизе: «Почему бы не попробовать себя в преподавании?» Может, подсознательно я имел в виду Кэли и сегодняшний урок.) – Одного не пойму: если работа нагоняла на вас грусть, зачем вы стали паромщиком?
Ну и въедливая девчонка!
– Во-первых, работа не всегда нагоняла на меня грусть. Я помог многим пожилым людям. У меня это хорошо получалось. Кстати, ты знаешь, что такое А-линии?
Кэли прищурилась:
– Какие-то тесты?
– Совершенно верно. На первом курсе их полным-полно. В зависимости от того, как ты с ними справляешься, наставник помогает тебе выбрать работу, в которой ты достигнешь наилучших результатов. Проверяют не столько знания, сколько твое отношение к ним. Наставников интересовало, как я воспринимаю, например, «формы и пространства» или «знаки и семиотику». Должен признаться, воспринимал я их прескверно.
– Если серьезно, я не въезжаю.
– Вот и я тогда не въезжал, – засмеявшись, признался я. – Но нашлось то, что вызывало во мне отклик. Это называлось «эмоциональным восприятием». Если в двух словах, речь о способности понимать чувства других людей. Там я всегда получал самые высокие оценки.
– Значит, наставник посоветовал вам стать паромщиком?
– Представь себе, нет. Он посоветовал мне стать юристом. А я меньше всего хотел погружаться в дебри юриспруденции.
Взглянув на Кэли, я увидел, что она зевает, не стараясь скрыть это.
– Извините, – спохватилась она. – Рассказывайте дальше.
– Скучная история, правда?
– Ну… есть такое. Напрасно я спросила. Хотя про способность понимать чувства других людей мне понравилось.
Разумеется, не все было так просто. На меня сильно повлияла мама, но я тогда был слишком молод и не понимал этого. До трагического происшествия с ней оставалось еще много лет, однако я укрепился в мысли, что уже тогда увидел признаки грядущей беды и что решение стать паромщиком было символической попыткой предотвратить ее; попыткой взломать код таинственной внутренней жизни мамы, дабы разделить с ней ее тайну.
– Можно задать еще один вопрос? – проговорила она; я кивнул, глядя в сторону моря. – Почему вы ни разу не спросили про мой шрам?
Вопрос застал меня врасплох. Я давно перестал думать о Кэли как о «девочке со шрамом».
– По правде говоря, я вообще забыл о нем.
– Да будет вам, – недоверчиво усмехнулась она и выпучила глаза.
– Честное слово, мне он не кажется таким уж заметным.
– Значит, вы – первый, кто так думает.
– Кэли, шрамы есть у многих. Иногда – внутренние, невидимые. Но от этого они не перестают быть шрамами.
– И у вас тоже есть?
– Есть. Моя мать покончила с собой.
Слова выпорхнули из меня, миновав контроль со стороны разума. Трагедия превратилась в фигуру умолчания; я никогда и ни с кем не говорил на эту тему. Но случившееся продолжало будоражить меня, и было бы ложью отрицать, что после спонтанного признания мне стало легче. Когда делишься своей давней болью с кем-нибудь, это приносит утешение. Вот только кому я признался? Зеленой девчонке с неустойчивой психикой? Не зря она назвала меня придурком.
– Ничего себе, – удивленно пробормотала Кэли. – Выигрыш за вами.
– Только я играл нечестно. Приношу свои извинения.
– Но вопрос-то задала я. А как по-вашему, почему она это сделала?
– Сам хотел бы знать. – «Проктор, что с тобой? – подумал я. – Рассказываешь эту историю едва ли не самой депрессивной девчонке на Проспере». – Слушай, я всерьез прошу: забудь то, что я тебе сказал о своей матери. Напрасно я завел речь об этом.
– Должно быть, вы жутко злитесь на нее.
– Тебе действительно хочется продолжать этот разговор? – Кэли молча посмотрела на меня, и я пожал плечами. – Иногда злюсь. Но больше всего жалею, что ничем не смог ей помочь.
– А как вы могли бы ей помочь?
Никаких размышлений не понадобилось. Ответ, предельно ясный, всплыл у меня в голове:
– Сказать: «Мама, я тебя люблю. Пожалуйста, не уходи из жизни».
Какое-то время мы сидели молча, глядя, как накатывают и отступают волны.
– Я вам очень сочувствую, – сказала Кэли.
– Не принимай близко к сердцу. Это было давно.
– Вы не виноваты. Наверное, вы считаете себя виноватым, но это не так.
Я повернулся к ней. Кэли смотрела вниз, рассеянно чертя на песке фигуры. Сплошные концентрические круги.
– Это была глупая ошибка. – Ее голос звучал отстраненно, словно она переместилась в какое-то абстрактное пространство. – Если бы ваша мама хоть на секундочку задумалась, как вам будет без нее, она бы ни за что не сделала этого.
Я оторопел. Никто и никогда не говорил мне таких слов, даже чего-нибудь похожего. Насколько иной была бы моя жизнь, услышь я их от отца? Вслед за этой мыслью пришло грустное осознание: ему я тоже не говорил ничего подобного.
– Возможно, – ответил я Кэли. – Надеюсь, так и было бы.
Новое молчание – более многозначительное, чем в первый раз. Время едва перевалило за полдень, но казалось, что мы находимся здесь намного дольше. Я был бы рад провести на пляже весь день.
– Ну что, похоже, мне надо двигать, – наконец сказала Кэли. Она встала, сунула ноги в сандалии и убрала полотенце в сумку. – Следующий урок завтра?
– Кэли, мне очень понравилось обучать тебя, но я считаю, что тебе все-таки надо ходить в школу.
– Совсем не мое место.
– Я это понял. Но тебе хочется вляпаться в неприятности?
Она молча посмотрела на меня и сокрушенно вздохнула:
– Ладно. Как скажете.
– Говорю тебе честно: я совсем не против наших уроков. Но… есть определенные правила. Есть определенный порядок вещей.
– Но я же сказала: ладно. Иду в школу. Усекла.
Мне стало паршиво. В то же время сколько могли продолжаться эти уроки? Она же была чьей-то питомицей. Кэли уныло добрела до начала дорожки, затем повернулась и взглянула на меня. Вернее, вперилась.
– А как вы думаете, мы когда-то были знакомы? – спросила она.
Я понял смысл ее вопроса. Существовала распространенная теория: нас тянет к людям, которые что-то значили для нас в предыдущих итерациях. Это называлось конвергенцией. Конвергенция порождала нечто вроде дежавю: мимолетное, похожее на сон ощущение, что с этим человеком тебя связывали какие-то отношения. Конвергенция служила темой постоянных шуток: «Думаю, когда-то мы были женаты! А может, одно время просто спали друг с другом. Надеюсь, я был на высоте!» Дурачество, игра, но с серьезным подтекстом. Нам хочется, чтобы наши прежние жизни не забывались целиком.
– Возможно, были, – ответил я на ее вопрос.
– Я чувствую, что вроде как были.
– Сейчас мы друзья. Это важнее всего.
Она поправила лямку сползшей с плеча сумки.
– Но мне все равно хотелось об этом сказать. Спасибо за урок.
Она стала подниматься наверх. Кэли не ошиблась: я тоже это чувствовал. Конвергенция была чисто психологическим феноменом, не заслуживавшим доверия и не имевшим практического применения. Тогда почему, глядя, как она уходит, я испытал острое ощущение потери? Откуда это мгновенное чувство одиночества? Я вдруг понял, что за несколько часов, проведенных вместе, ничего не узнал о Кэли и даже не догадался спросить. Мы словно находились в плотном коконе, отгороженные от остального мира.
Тропинка не была прямой: она вилась по склону утеса. Кэли поднималась медленно, словно не хотела уходить, а может, просто устала за время урока. Поднявшись наверх, она обернулась и, увидев, что я смотрю в ее сторону, помахала мне. Был ли ее жест приветственным или прощальным – не знаю. Я помахал в ответ.
Она уже скрылась из виду, а я все смотрел и смотрел.
5
Сегодня Тия немного опоздала и открывает свою галерею в половине одиннадцатого.
У входной двери – медная табличка:
ГАЛЕРЕЯ «ДИМОПОЛУС»ВРЕМЯ РАБОТЫ:ПОНЕДЕЛЬНИК – ЧЕТВЕРГ с 10 УТРА до 5 ВЕЧЕРАПЯТНИЦА – ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ
Ниже указан номер телефона. Галерея находится в отличном месте, где сосредоточены дорогие и изысканные магазины. С одной стороны к ней примыкает ателье женских шляп, с другой – книжный магазин. Напротив расположена пекарня, откуда по утрам на весь квартал распространяется аромат свежего хлеба и сладких булочек. Войдя внутрь, Тия отключает сигнализацию и зажигает свет, потом идет в служебное помещение и ставит чайник. Ей кажется, что у нее в голове стучит двигатель. Заварив чай, она несет чайник и чашку в зал галереи и ставит на свой стол. Ей очень, очень нужно ощутить в руках, а потом и внутри себя что-нибудь теплое. Правда, сейчас она бы предпочла для успокоения взбудораженных нервов напиток покрепче чая.
На сегодня у нее намечены три встречи, хотя куда важнее дождаться сведений от Квинна, которые должны навести ее на след Проктора Беннета – того самого паромщика. По словам Квинна, если знаешь, где искать, можно узнать о человеке все. Списки гостей, в которых он значится, членство в клубах, время занятий спортом и прогулок. Однажды Квинн узнал, что некий помощник заместителя министра финансов, у которого недавно закончился брачный контракт, каждый день выходит на прогулку ровно в половине первого и всегда придерживается одного и того же маршрута. Тии оставалось лишь «случайно» оказаться на его пути, где у нее так же «случайно» оборвался ремень плечевой сумки и содержимое выпало под ноги прогуливающегося чиновника.
Откуда Квинн черпает эти сведения? Свои источники он никогда не раскрывает. Посланником Матери может быть кто угодно, он встретится тебе где угодно. Экономки, дворники, садовники, официанты. Они ходят и ездят по Проспере, постоянно держа глаза и уши открытыми. Подмечают, кто с кем играет в теннис, вытаскивают из мусорных корзин служебные бумаги, подслушивают разговоры, наливая вино и убирая грязные тарелки. Другие, вроде Тии, работают на более высоком уровне. Не наливают вино, а пьют его. Проводят вечера, занимаясь бесстыжим флиртом. «Вы из Службы безопасности? Мне всегда было интересно, в чем заключается работа таких, как вы. Наверное, это очень увлекательно. Расскажите подробнее…» И все это надо произносить с улыбкой, не морща нос, когда мужская рука под столом ложится тебе на колено.
За окнами галереи виден тротуар и пешеходы, выглядящие такими далекими от всего этого. До чего счастливыми они кажутся, насколько они здоровы и доброжелательны! Просперианцы не просто встречают новый день, а врываются в него, как во вражескую траншею. «Будь особенным!» Эти призывы встречаются повсюду: на билбордах, на страницах журналов, в рекламных паузах телепрограмм. «Прояви свой потенциал!», «Чувствуй себя на все сто!».
Тия не чувствует себя на все сто. Вчера, возвращаясь с Аннекса, она была почти уверена, что у двери квартиры ее поджидают двое «прыщей». Взмахнут перед глазами служебным жетоном, положат тяжелую руку ей на плечо. С этим страхом она живет каждый день; он – словно эпизод из фильма, постоянно прокручивающийся в ее голове. Но ее никто не ждал: ни у лифта, ни возле двери. Только записка от соседки с просьбой проведать на выходных ее кошку. («Я оставила ей еды с избытком. Решила выбраться с друзьями на природу. Надеюсь, что не обременю Вас своей просьбой!»)
Тишина квартиры чуть не доконала ее. Как ужасно остаться наедине с собственными мыслями. Тия улеглась на диван, выключила свет и стала думать о Прокторе Беннете. Кто такой Проктор Беннет? Один из винтиков государственной машины – но что-то в нем зацепило ее. В этом Прокторе ощущалось что-то… иное. Тия стала мысленно кадр за кадром воспроизводить видео с дрона. Шум толпы на причале, удар электрошокером, замершее тело старика, Проктор, зажавший шею охранника. И дальше… Слова, произнесенные стариком; Проктор, поднимающий его на ноги и придерживающий за талию. Короткая пауза перед спешной погрузкой на паром, когда Проктор, встав поудобнее, поднял лицо к небу.
Тия остановилась на этом кадре.
Проктор был не лишен обаяния. Темные волосы, зачесанные назад, слегка выступающий лоб, выразительные брови и линия подбородка, небольшой рот с полными губами. Мышцы, напрягшиеся под пиджаком, говорили о том, что он достаточно силен. Привлекательный, хотя и вполне типичный просперианец среднего возраста: ухоженный, натренированный, хорошо сложенный, привыкший честно сражаться и по большей части побеждать.
Однако лицо этого человека говорило о другом.
Точнее, глаза. Он задрал голову, чтобы взглянуть на дрон. Вполне объяснимый поступок – но, казалось, он вообще ни на что не смотрит, а транслирует свои мысли в какую-то невидимую область, откуда может прийти помощь или хотя бы утешение. «Помогите мне, – говорили глаза Проктора. – Не знаю, почему я это делаю. Помогите мне понять».
После этого Тия налила себе первую рюмку. За первой последовала вторая, третья… пока бутылка не опустела. Дальше Тия ничего не помнила, а проснувшись, удивилась, что лежит на диване одетая, жмурясь от утреннего солнца.
Усталый взгляд Тии путешествует по стенам галереи, отчего ей становится еще хуже. До чего же скучны эти картины. Застывшие, безжизненные. Закаты. Горные пейзажи. Натюрморты с бутылками, цветами и фруктами. Чья-то собака.
Тия вздыхает. Развешенное по стенам галереи – это не живопись. Мазня. Порча холстов и напрасный расход красок.
Она идет в служебную комнату, где заполняет документы на продажу картин. Там ее застает дверной звонок. Первый из намеченных на этот день визитов. Тия быстро оглядывает себя в зеркале, возвращается в зал и видит женщину с картонным подносом в руках. На подносе – бумажные чашки с кофе.
– Сандра!
– Тия!
Они обнимаются, что выходит неуклюже из-за подноса, и обмениваются неизменным воздушным поцелуем. Сандра пришла в галерею прямо с йоги. На ней черные легинсы, мягкие туфли наподобие балетных и рубашка с длинными рукавами. Студия йоги находится в нескольких минутах ходьбы. Ее волосы заколоты на затылке. Влажное от пота лицо пышет здоровьем.
– Я принесла тебе латте, – говорит Сандра и снимает чашку с подноса. – С соевым молоком. Не возражаешь?
Тия ненавидит сою, напоминающую на вкус сырое тесто. Она и кофе-то не слишком любит. Но посетитель всегда прав. Она делает глоток, обжигая кончик языка.
– Спасибо. Мне как раз нужно было взбодриться.
– Бурная ночь?
– А по мне не видно?
Сандра слизывает пену с края чашки.
– У нас одна жизнь. Наслаждайся ею, пока можешь. Уж поверь моему опыту.
Основная тема разговоров Сандры – тяготы ее брака. Если она заводит речь о чем-нибудь другом, то все равно упоминает о мелких прегрешениях мужа: поздних возвращениях домой, бестактных замечаниях, забытых датах и никудышном сексе. Представления Тии об этом человеке целиком состоят из жалоб Сандры. Она даже не знает его имени.
– В этом есть свои плюсы, – улыбается Тия.
– Тебе надо ходить со мной на занятия. Сегодня вообще была сказка. Я проверила свой монитор. Как думаешь, сколько? Девяносто два! Девяносто два, в моем-то возрасте!
Тия понятия не имеет, сколько лет Сандре. Ей встречались женщины за семьдесят, которым она дала бы пятьдесят, а то и сорок пять. С таким же успехом Сандре может быть и все сто.
– У нас появился новый преподаватель, просто потрясающий, – продолжает Сандра, слегка задыхаясь от восторга. – Видела бы ты, что́ он нам показал. Я не шучу. Он стоял на голове, упираясь в пол лишь кончиками пальцев.
– О-о! – подыгрывает ей Тия.
– К тому же он столько рассказал нам о дзенской философии! Она позволяет войти в контакт со всеобщим сознанием. – Порывшись в сумке, Сандра достает сложенный лист бумаги, разворачивает и читает: – «Как пчела, собирая нектар, не повреждает лепестки цветка и не уничтожает его аромата, так мудрец строит свои отношения с миром». – Закончив читать, Сандра вскидывает голову. – Правда, вдохновляет? Я буквально заставила его повторить эту фразу, чтобы записать.
– Интересные рассуждения, – согласно кивает Сандра.
– Малость заумные, но, если вдуматься, открывается бездна смысла. К тому же он очень симпатичный. Даже красивый.
Сандра переходит к цели визита и объясняет, что ей надо. Не для себя. Она работает декоратором, и ее заказчики – весьма обеспеченные люди. Сейчас она занята интерьерами большой квартиры вблизи оперного театра. Роскошный современный дом, огромные окна, обилие света. Тия ведет ее по залу. Сандра делает пометки в блокноте, затем пролистывает каталоги художников, которые ей нравятся. Близится время обеденного перерыва. Наконец Сандра объявляет, что ей пора. У двери они снова обнимаются и обмениваются воздушными поцелуями. Сандра берет с Тии обещание обязательно побывать на занятиях у нового преподавателя йоги, которого зовут Реймонд.
– Ты только представь, что’ этот человек способен делать такими пальцами, как у него… Ой! Чуть не забыла. – Сандра вытаскивает из сумки небольшой конверт и протягивает Тие. – Это тебе.
Удивительно: заурядная встреча вдруг обретает совершенно новый смысл. Тия вскрывает конверт. Внутри лежит билет.
– Наш общий друг решил, что тебе может быть интересно, – говорит Сандра.
Тия смотрит на нее. Ох эта легкомысленная Сандра! Кто бы мог подумать?
– Спасибо, – говорит Тия. – Я тронута. Уверена, что мне будет интересно.
Сандра снимает напряжение ослепительной улыбкой.
– Я очень рада! – На пороге она оборачивается и подмигивает Тие. – И не забудь про Реймонда. Клянусь, если никто с ним не трахнется, это сделаю я.
Тия закрывает за Сандрой дверь и опускает жалюзи. Она отменяет по телефону два послеполуденных визита, после чего делает еще пару звонков – в маникюрный салон и парикмахерскую. «Это Тия Димополус. Знаю, что сваливаюсь вам на голову, но могли бы вы найти окошечко для меня?.. Замечательно, вы просто ангел. Не могу подыскать слов благодарности…»
Она убирает в сумочку конверт, переданный Квинном через Сандру, и выходит из галереи. Обеденный час в полном разгаре. Несколько секунд Тия стоит, глядя на оживленную улицу, потом сама вливается в людской поток, движущийся в двух направлениях.
6
Домой я вернулся в третьем часу дня, посчитав, что пора заняться куда менее приятными делами.
Приняв душ и одевшись, я отправился на автобусную остановку в конце нашей улицы. Из расписания на стеклянной стенке я узнал, что автобус появится минут через десять. Я уже не помнил, когда в последний раз ездил на автобусе. Паромщику в должности управляющего директора полагается машина с водителем, которой можно пользоваться в любое время суток. Но теперь придется жить без этих плюшек, и лучше привыкать сразу.
И все-таки когда я в последний раз садился в автобус? Сколько я ни пытался вспомнить, в голове всплывало лишь то утро, когда мама повезла меня к доктору Пэтти. Конечно, я и потом ездил на автобусе. Но в те минуты мысли то и дело возвращались к тогдашнему разговору. «Ты ведь знаешь, что я тебя люблю?» Я вдруг остро затосковал по маме, хотя не ощущал грусти. На меня снизошло умиротворение, словно воспоминание о том дне пробудило во мне дремавшее чувство. Чувство, что я – ее сын.
Подошел автобус. В это время в нем ехали те, кого мы называли «поддерживающим персоналом». Попросту говоря, обслуга Просперы. Я вошел и уселся на первое свободное место. Рядом сидел мужчина в коричневом комбинезоне. От него разило застоялым потом, к которому примешивался запах фекалий. Комбинезон болтался на нем как на вешалке, хотя по всему чувствовалось, что этот человек не лишен физической силы. Мне стало неуютно от такого соседства. Как и многие просперианцы, я никогда не ездил по дамбе на Аннекс: для этого не было причин, а любопытства я не испытывал. Опыт моего общения с обслугой ограничивался горсткой людей и общими разговорами. Мне почему-то стало неловко перед этим человеком, и я решил заговорить с ним.
– Как дела? – спросил я.
– Сносно, – пожал плечами он, продолжая смотреть вперед.
– А чем вы занимаетесь?
Опять пауза. Он всем своим видом показывал, что не хочет со мной говорить.
– Чищу канализацию, – буркнул он.
Понятно, откуда запах.
– Работа не из легких.
– Надо думать.
Спрашивается, зачем я это сделал? Зачем вынудил беднягу вспомнить, как он копался в дерьме просперианцев? Достаточно взглянуть на обувь, и она многое расскажет о человеке. Его массивные рабочие ботинки даже не были зашнурованы, чтобы ноги не перегревались. А рядом сидел я в сверкающих лоферах.
Я не нашел ничего умнее, чем сказать ему:
– Извините.
Он повернулся ко мне. В его рту теснились крупные пожелтевшие зубы. Когда-то давно ему сильно повредили нос.
– За что извиняетесь?
– Простите. Вы правы. Это было глупо.
Он смерил меня взглядом, как мясник, оценивающий кусок говядины. Мы поменялись ролями, и теперь я выслушивал его слова.
– Не нужна мне ваша жалость, – заявил он.
– Я имел в виду совсем не это.
В его глазах сверкнуло нескрываемое презрение. Сигнал, показывавший, какие мысли бурлили в его голове. Этот человек ненавидел меня!
– А что же вы имели в виду?
– Ровным счетом ничего. Забудьте мои слова.
– Не я начал разговор. Вы прицепились. Потом стали извиняться, прощения просить. Так валяйте, говорите за что. Смелее, просси!
Это слово прозвучало, как сирена. Все разговоры в салоне утихли. Я понял, что вступил на опасную территорию. Повторяю, я знал об Аннексе очень мало, но помнил, что драки там – обычное явление. Слово за слово, эмоции вырываются из-под контроля… не успеешь глазом моргнуть, как стены забрызганы кровью, а кто-нибудь из дерущихся распластался на полу. Мы с чистильщиком находились в одной весовой категории, и я не считал себя слабаком, но он приобрел свою силу не в спортзалах: это было существенным отличием. В зеркале заднего вида я поймал предостерегающий взгляд водителя: «Мистер, что вы делаете? Немедленно заткнитесь».
– Я пытался быть общительным. Если я вас огорчил, приношу свои извинения.
– Вы ж про меня ни черта не знаете. Может, я с большим удовольствием разгребаю ваше дерьмо. Может, я считаю разгребание вашего дерьма самым клевым в мире занятием.
– Возможно, так и есть. Это ваша работа.
– Советую попробовать как-нибудь. Глядишь, понравится.
Я никак не мог сократить время поездки. Интересно, на что я рассчитывал, пытаясь вовлечь этого человека в разговор? Что мы будем весело болтать, вспоминая юность? Я еще ни разу не сталкивался с откровенной ненавистью по отношению к себе и не знал, как быть.
На очередной остановке в салон вошел новый пассажир: долговязый, бородатый, довольно небрежно одетый, с усталыми прищуренными глазами. Он уселся напротив меня, снял с плеча сумку и достал оттуда тощую книжицу в темном переплете. Потом закинул ногу на ногу, положил сумку на колени и открыл книгу со странным названием: «Принципы Учения о Прибытии».
– Эй, просси, – окликнул меня чистильщик канализации. – Хотите, историю расскажу?
– Что? – вздрогнул я, глядя не на него, а в окошко, за которым проносились пригороды.
– Уверен, она вас позабавит. Так вот, Тесс – жена моя – прислугой работает. У одной дамочки, богатенькой, вроде вас. Тесс помогает ей вечеринки устраивать и все такое. Работает давно, они с хозяйкой вроде как подругами стали… Вы слушаете?
– Вашу жену зовут Тесс, и она работает прислугой, – как идиот повторил я.
– Вот-вот. Как-то раз вечером Тесс хлопочет на кухне, а хозяйка одевается к приему гостей. Нацепляет на себя разные цацки. Их у нее тьма, но ожерелье, которое она хотела повесить на свою шейку, куда-то запропастилось. А штучка старинная, кучу деньжищ стоит. Хозяйка поднимает шум, весь дом переворачивает вверх дном. «Где мое ожерелье? Где оно?» Нет его. Как в воду кануло. И знаете, что она тогда заявляет?
Я уже догадывался, куда он клонит, и мне это совсем не нравилось.
– Хозяйка обвинила вашу жену в краже ожерелья.
Он улыбнулся во весь рот, демонстрируя подпорченные зубы:
– О! Первые разумные слова, которые слышу от вас. Дамочка напрочь забыла, что Тесс годами ишачила на нее. Ну а дальше – понятное дело. Запихнули мою жену в полицейскую машину и повезли в отделение. Просси, вы меня слышите?
Разумеется, я его слышал, но не знал, как реагировать на эту жуткую историю. Я повернул голову и поймал на себе взгляд человека, сидевшего напротив. Наши глаза на мгновение встретились, и мне показалось, что им движет не праздное любопытство, а желание узнать, как я поведу себя дальше.
– Само собой, я тогда ничего не знал, – продолжил чистильщик. – Целых четыре дня от Тесс не было ни слуху ни духу. А когда вернулась, я ее не узнал. Лицо – сплошная отбивная котлета. Но лицо – еще не самое худшее.
– Приятель, может, оставишь своего соседа в покое? – не выдержал наконец человек, сидевший напротив.
Рассказчик пропустил его слова мимо ушей.
– Хотите знать, что́ они с ней сделали?
Мне совсем не хотелось этого.
– Ну, смелее. – Он пихнул меня локтем в бок. – Пошевелите мозгами.
– По-моему, хватит, – произнес человек напротив уже настойчивее.
Чистильщик канализации бросил на него ледяной взгляд:
– Я ж не вам рассказываю.
Меня начало мутить.
– Не знаю, – пробубнил я, отвечая на его вопрос.
Чистильщик канализации вскинул правую руку, прижал большой палец к ладони и помахал остальными пальцами.
– Пойманному вору оттяпывают большой палец. Так что у Тесс стало одним пальчиком меньше. – Он наградил меня дьявольской улыбкой. – И как вам мой рассказ?
Я молчал, прекрасно сознавая, зачем он поведал мне эту жуткую историю. Для него все, кого он называл «богатенькими», были одинаково жестокими, и на месте владелицы ожерелья вполне мог оказаться я.
– Что, просси, язык проглотили? – не унимался он.
Я не нашел ничего лучшего, чем задать дурацкий вопрос:
– Ожерелье нашлось или нет?
– Само собой, нашлось. Я к этому и веду. Хозяйка нашла его на диване, под подушкой. Прислала Тесс миленькое письмецо с извинениями. Мы его к холодильнику пришпилили.
Теперь мне стало по-настоящему тошно. Рот наполнился слюной. В горле появился привкус желчи.
– Это… ужасно, – пробормотал я.
– Вы чертовски правы. А хотите узнать самое интересное?
Боже милостивый, неужели там есть еще что-то?
– Я же все высосал из пальца. И жены у меня отродясь не было. – Он покатился со смеху. – Посмотрели бы вы на свою физиономию, просси.
Меня затрясло от гнева. На шее задергалась жилка.
– Мерзавец – вот вы кто.
– Вот как заговорили! Сначала с извинениями лезли. А чуть против шерсти – сразу нутро поперло. Все вы, просси, такие, – добавил он, повернувшись к окну.
К моему великому облегчению, на этом наше общение закончилось. Остаток пути мы сидели молча и каждый делал вид, что рядом с ним никого нет. «Подлец бессердечный! – хотелось крикнуть мне. – Кто дал вам право глумиться над совершенно незнакомым человеком?» Когда автобус достиг площади, моя голова едва не лопалась. Я вскочил с места, будто спринтер с низкого старта, промчался по проходу и выпрыгнул на тротуар. В лицо ударило нестерпимо яркое солнце. Казалось, оно влепило мне пощечину. Я почувствовал нехватку воздуха. Сердце бешено колотилось. Что со мной? Эти двадцать четыре часа напрочь выбили меня из колеи.
– Гражданин, могу ли я вам помочь?
Я стоял согнувшись, упираясь ладонями в колени. Услышав голос, я поднял голову. Сервофакс. Бесполый говорящий робот с подобием рук и колесиками вместо ног. Их называли «помощниками». Они катались по улицам города, стараясь услужить: подсказывали, куда идти, открывали дверь женщине, чьи руки заняты покупками, в случае необходимости регулировали уличное движение. Пустое, как у манекена, лицо не вызывало ничего, кроме отвращения.
– Гражданин, нуждаетесь ли вы в медицинской помощи?
– Нет, благодарю вас, – медленно выпрямляясь, ответил я.
– Проктор Беннет, если вам требуется помощь, я охотно вам ее окажу.
Откуда он узнал мое имя? Ничего удивительного. Сервофаксы связаны с Центральной информационной системой. Робот отсканировал мое лицо и сопоставил изображение с базой данных. Вероятно, эта механическая тварь знала, что́ я ел на завтрак. (Ничего.)
– В этом нет необходимости. Я в полном порядке.
Выждав несколько секунд, он объявил монотонным, бесполым голосом:
– Я оснащен полным набором диагностического оборудования.
– Ты меня слышишь, безмозглая машина? Убирайся!
– Позвольте проверить показатели вашего монитора.
Я уперся ладонью в металлическую грудь сервофакса и с силой его толкнул:
– Сказано тебе, оставь меня в покое!
Сервофакс откатился назад и остановился. Внутри его что-то щелкало и стрекотало. Затем он развернулся и поспешил на поиски тех, кого можно осчастливить своей назойливой помощью. Я с неприязнью смотрел ему вслед. Кому взбрело в голову создать эти чудовищные пародии на людей? И почему раньше я не замечал, насколько они уродливы? Точно так же я не замечал плохо скрытой враждебности всех, кто обслуживает нас и вынужден не только выполнять самую тяжелую и неквалифицированную работу, но и выслушивать слова сочувствия. Какое лицемерие! Можно подумать, что не мы нанимаем их для подобных работ.
– Дружище, вы хорошо себя чувствуете?
Это был бородатый человек из автобуса. Он достал из сумки бутылку с водой и протянул мне:
– Держите. Я еще не открывал ее.
Мог ли я в такой момент ответить отказом? Я отвернул пробку и сделал несколько глотков.
– Я тоже не поклонник этих штучек, – сказал он. – Докучливые твари.
Я вернул ему бутылку и поблагодарил его.
– Был рад помочь, – ответил он, убирая воду в сумку. – Этот субъект, что сидел рядом с вами, – сущий придурок.
– Я признателен за вашу попытку вмешаться и помочь.
– Просто не выдержал, – признался он. – Не скажу, чтобы попытка удалась.
– А что за книгу вы читали в автобусе? Ни разу не видел такого.
Он улыбнулся в бороду:
– Чтобы знать все книги, нужно быть предельно начитанным человеком.
– Я не о содержании, а о заглавии. Такие слова, как «Учение о Прибытии», я вижу впервые.
Он снова полез в сумку, достал книгу и протянул мне.
– Так что означает «Учение о Прибытии»? – спросил я, вертя книгу в руках.
– Все и одновременно ничего. Если в двух словах, это совершенно новый взгляд на вещи. – Он слегка наклонил голову. – Если хотите, оставьте себе. У меня есть другие экземпляры.
Это была скорее брошюра: от силы двадцать страниц, дешевый самодельный переплет. Трактат какого-нибудь чокнутого философа, напечатанный в подвале.
– Спасибо за предложение, – сказал я, возвращая ему книгу. – Но пока что мне не до чтения. Других дел хватает.
Я ждал от него возражений. Мне казалось, он искренне заинтересован в том, чтобы я взял этот опус. Но никаких возражений не последовало.
– Значит, время еще не настало. – Он убрал книгу в сумку и снова взглянул на меня. – Тот рабочий был очень груб с вами. Вам действительно не нужна помощь?
Я заверил его, что со мной все в порядке. Забота, проявленная незнакомым человеком, привела меня в чувство. Я стал жертвой жестокого розыгрыша, но не более того. И уже представлял, как впоследствии эта история превратится в забавную шутку. «Мне попался жуткий тип, который рассказал еще более жуткую историю. Самому не верится, что тогда купился на нее…»
– Вы были чрезвычайно добры ко мне, – сказал я.
– Ничего особенного я не сделал. – Он снова улыбнулся. – Прибытие грядет, друг. Да свершится Прибытие.
Я смотрел ему вслед, думая о странных словах. «Прибытие грядет». Какое прибытие? И потом: «Да свершится Прибытие». Прибытие куда? А еще слово «друг» совсем не прозвучало неискренне. Скорее наоборот – будто случай в автобусе сдружил нас.
Я собирался появиться на работе и быстро уйти, не привлекая к себе излишнего внимания. Департамент социальных контрактов, как и все ведомства, находился на северной стороне Просперити. Вестибюль поражал своим великолепием: пронизанное воздухом пространство со множеством окон, мраморными стенами и полами. Казалось, если произнести там что-нибудь вполголоса, эхо будет еще полчаса повторять твои слова. Я предъявил пропуск и прошел к лифту, чтобы подняться на шестой этаж, где находились кабинеты Шестого округа. Здесь не было и намека на великолепие атриума. Строгий, предельно функциональный интерьер: звукопоглощающие потолки, люминесцентное освещение, ковровые покрытия нейтральных оттенков. Как я и рассчитывал, коридоры были пусты; большинство сотрудников уже ушли. Но Уна по-прежнему сидела за секретарским столом в приемной. Увидев меня, она вздрогнула от удивления:
– Директор Беннет? Я думала, вас сегодня не будет. Ваша жена утром позвонила и предупредила.
– Не верьте всему, что слышите. Можете принести мне документы моего отца? Я должен составить отчет о происшествии.
– Конечно. – Она встала из-за стола. – Директор Беннет, я лишь хотела сказать… я так потрясена… случившимся. Я вам очень сочувствую.
– Благодарю вас, Уна.
Уже на пороге кабинета я вспомнил, что вчера оставил в машине свой ридер. Надо же, начисто позабыл: настолько меня взбаламутило случившееся.
– Скажите, Джейсон на работе?
– С утра не видела. Думаю, он отправился домой.
Может, оно и к лучшему. Я не был настроен общаться с ним.
– Он, случайно, не оставлял вам мой ридер?
– Нет, но я могу поспрашивать.
Я вошел в кабинет и стал ждать. Мой кабинет был самым большим на этаже, с уютной зоной отдыха и прекрасным видом на гавань. В безупречно ясные дни на горизонте проступали едва заметные очертания Питомника. Но не в тот день. Я подумал об отце. Как он там сейчас? Приходится ли ретайрам ждать своей очереди, думая о новой жизни, или их сразу забирают для реитерации? Может, отцу уже восстановили тело и стерли все дорогие ему воспоминания? Казалось, паромщик моего уровня должен был это знать, однако я не имел ни малейшего представления ни о чем таком.
Через несколько минут Уна принесла мне папку.
– Странно как-то, – пробормотала она, кладя ее на стол.
На обложке стоял штамп: «ЗАВЕРШЕНО». Я раскрыл папку и обнаружил, что кто-то уже составил отчет о происшествии, включив туда все показания отцовского ридера. В разделе «Процедура» значилось: «Ретайр страдал легкой формой дезориентации. Персонал Департамента социальных контрактов оказал ему необходимую помощь. Доставлен на борт парома в установленное время».
Всего три предложения. Ни слова о том, как он безумно несся по причалу, никакого упоминания об электрошокере и о том, что я едва не задушил охранника. Я должен был бы испытать облегчение – меня избавили от тяжкой обязанности, вызывавшей ужас. Однако я почему-то испытывал другое чувство. У меня что-то отняли, даже украли. Вплоть до этого момента я и не подозревал, что очень хочу рассказать правду о случившемся.
– Проктор, что вы тут делаете?
В дверях стоял Эймос Корделл – крупный, доброжелательный мужчина, мой непосредственный начальник. Мы знали друг друга очень давно.
– Я собирался составить отчет о происшествии с моим отцом. – Я указал на папку. – Вы знаете, кто сделал это вместо меня?
Эймон кашлянул.
– А-а, вот вы о чем. – Он повернулся к моей секретарше. – Уна, оставьте нас.
Она вышла, плотно закрыв дверь.
– Прежде всего позвольте выразить мое глубочайшее сочувствие. Вам ни в коем случае нельзя было в этом участвовать.
– Значит, это вы составили отчет.
– Вы меня поймали, – улыбнулся он, поднимая руки. – Честное слово, Проктор. Я думал, вы не станете возражать.
– Но это моя обязанность.
– Поверьте, я знаю, как серьезно вы относитесь к своим обязанностям. Но после того, что вам пришлось пережить, я не мог допустить, чтобы вы занимались еще и отчетом.
– Эймос, я в порядке. Вчера не все прошло гладко, но свою работу я выполнил.
– Никто не посмеет возразить. Но, учитывая обстоятельства, я решил немного помочь вам и взял этот труд на себя.
– Значит, правду о случившемся мы заметем под ковер?
– Проктор, в ваших устах это звучит как-то… зловеще. Я всего лишь хотел вам помочь. – Эймос достал из кармана пиджака мой ридер и положил на стол. – Вы забыли в машине. Работники гаража обнаружили.
Моя реакция явно задела Эймоса. Я почувствовал укол совести. Как-никак мы с ним были друзьями, и он решил по-дружески помочь мне.
– Простите меня, Эймос. Я слишком остро переживаю это. Хорошо, что вы все сделали.
Повисло неловкое молчание, потом он пожал плечами:
– Забудем это. Все вас понимают. Я бы вел себя не лучше. – Эймос поднял голову и улыбнулся. – Как поживает Элиза?
Я обрадовался перемене темы:
– Сбивается с ног. Скоро грандиозный показ.
– Это приятные хлопоты. У вашей жены есть несомненный талант. Оливия без ума от ее платьев.
– Рад слышать. Обязательно расскажу Элизе.
– Вы просто обязаны ей рассказать. Скажу по секрету: если сложить стоимость всех нарядов, купленных моей женой у Элизы, получится кругленькая сумма. Пожалуй, вам бы хватило на пристройку к дому. – Эймос направился к двери. – И прошу вас, Проктор, не торчите здесь. Возвращайтесь домой, к своей потрясающей жене.
Я взял такси (хватит с меня этих рискованных поездок на автобусе), и когда вернулся домой, Элиза была уже там.
– Проктор, где тебя носило? – Она говорила со мной, смотрясь в зеркало туалетного столика. Элиза успела нарядиться в черное вечернее платье и сейчас надевала украшения: серебряный амулетный браслет и ожерелье из синих камней. Нам предстояло провести вечер с ее родителями, отчего вся теплота утреннего разговора куда-то улетучилась. – Впрочем, меня это не касается, – добавила она. – Даже знать не хочу. Только поторопись со сборами, иначе мы опоздаем.
Одевшись подобающим образом, мы отправились в город. (Элиза настояла, что поведет машину сама, отчего я вновь ощутил себя не столько мужем, сколько пациентом.) Мы добрались до стоянки Культурного центра, вылезли из машины и влились в поток других слушателей предстоящего концерта: то были весьма состоятельные люди, в большинстве своем – старше нас.
Когда мы вошли в атриум, я услышал от жены:
– Забыла тебе сказать. Уоррен тоже будет на концерте.
Я застыл на месте.
– Ну что ты, в самом деле? – нахмурилась Элиза. – Днем случайно встретила его, и только. Подумала, что тебе будет приятно с ним увидеться. – Не дождавшись моего ответа, она принялась всматриваться в толпу слушателей. – Уоррен! – крикнула она, махая рукой. – Иди к нам!
Не прошло и нескольких секунд, как он уже шел в нашу сторону, пробираясь сквозь толпу: мой давний друг Уоррен Сингх. Облаченный в строгий черный костюм, он улыбался во весь рот. Курчавые волосы были небрежно зачесаны назад. Подойдя, он поцеловал Элизу в обе щеки («Привет, несравненная»), затем сдержанно, по-мужски пожал мою протянутую руку, обнял меня за плечо и окутал ароматом своего одеколона.
– Проктор, дружище! Даже не знаю, что сказать.
Мне было предельно ясно: Уоррен появился здесь не случайно. Зачем Элиза пригласила его сюда? Как старого друга, обеспокоенного моим состоянием? Как профессионального медика? Или как стороннего наблюдателя для оценки степени моей умственной нестабильности? Мои отношения с Уорреном, при всей их сердечности, были непростыми. Еще до знакомства со мной Элиза имела с ним роман. Она уверяла меня, что их отношения были краткими и несерьезными, окончившись без последствий. И все-таки мне было тяжело смотреть, как Уоррен целует мою жену и называет ее «несравненной». Невольно вспоминалось, что когда-то он развлекался с ней в постели. Вдобавок Уоррен был самым обаятельным из всех знакомых мне мужчин: беззаботный, самоуверенный ловелас с обширным списком побед на любовном фронте. Из всех моих друзей только он ни разу не заключил брачного контракта, предпочитая существование свободного сексуального электрона. Женщины – каждая красивее предыдущей – проходили через его жизнь, как манекенщицы проходят по подиуму.
– И где же та, с которой ты встречаешься? – спросил я.
Продолжая сжимать мое плечо, словно я мог улететь, Уоррен снова улыбнулся, демонстрируя ровные, сверкающие зубы:
– А ты не догадался? Он рядом со мной. Элиза сказала, что охотно уступит тебя на этот вечер. – Улыбка Уоррена погасла. – Если серьезно, представляю, какой ужас ты пережил.
– Спасибо за сочувствие.
В его взгляде было столько искренней заботы, что я даже смутился.
– Проктор, он был хорошим человеком. И надо же такому случиться, что это выпало на твою долю. Жаль, что все закончилось… столь неподобающим образом. Но ты тут ни при чем.
– Именно это я и твержу ему со вчерашнего дня, – сказала Элиза.
– Ты не должен винить себя, – так же искренне продолжил Уоррен. – Уверен, ты сделал все, что было в твоих силах. И знай, дружище: я всегда рядом. Какое бы решение ты ни принял, я тебя поддержу.
Я посмотрел на Элизу. Та виновато пожала плечами:
– Наверное, я обмолвилась об этом. В смысле, о твоих новых планах.
– Обмолвилась?
– Ну ладно. Рассказала. Вырвалось как-то само собой. Но, дорогой, это же не кто-то там, а Уоррен. Наш друг.
– Думаю, это здорово, – принял эстафету Уоррен. – По-настоящему здорово. А пока я хочу, чтобы ты навестил мой кабинет. Не торопись возражать. Знаю, ты скажешь, что отлично себя чувствуешь. Но почему бы не убедиться в этом лишний раз?
– Вот и я постоянно говорю ему об этом, – подхватила Элиза.
Я опять бросил на нее выразительный взгляд:
– Ты рассказала Уоррену, какой у меня процент?
– Проктор, Элиза всего лишь поделилась своей тревогой. – (Интересно, когда этот заботливый дружок отпустит мое плечо?) – Она любит тебя. И я, представь себе, тоже. Давай, не откладывая, завтра с утра. Я пришлю за тобой машину.
Можно было рукоплескать их мастерству. Все это напоминало пьесу. Я буквально слышал, как они репетируют свои роли под салаты и шардоне, сидя в каком-нибудь ресторанчике, где встречаются еженедельно. Пьеса «Угрюмый Проктор». Где был я, когда все это происходило? Ясно где: давал урок плавания.
– Добрый вечер, дорогие. А вот и мы.
К нам подошли родители Элизы. Может, и они участвовали в этом спектакле? Не важно; их появление на время отвлекло внимание от меня. Я высвободился из хватки Уоррена, пожал руку Джулиану (его глаза были полны сочувствия; значит, ему тоже было известно о случившемся), затем повернулся к теще и, как обычно, поцеловал ее в щеку:
– Добрый вечер, Каллиста.
Наверное, здесь надо упомянуть об одном знаменательном обстоятельстве: моя теща и приемная мать Элизы – не кто иная, как достопочтенная Каллиста Лэйрд, председатель общепросперианской Коллегии по надзору. Иными словами, она руководит не только моей семейной жизнью, но и всем островом.
– Проктор, как ты?
Этот вопрос уже начал раздражать меня, однако Элиза пришла на выручку:
– Мы как раз говорили о будущем.
Каллиста взглянула на дочь, затем снова на меня и сдержанно улыбнулась. Моя теща вообще отличалась сдержанностью. Холодноватая, как океанский бриз, острая, как только что заточенный карандаш, уже немолодая и при этом не утратившая подлинной, несколько властной чувственности. На концерт она приехала в длинном облегающем платье с глубоким вырезом. Ее украшения отличались простотой и изяществом. Наряд дополняла легкая меховая накидка, что было вовсе не лишним. (Насколько помню, кондиционеры в зале всегда работали на полную мощность.) Словом, увядшая роза, но не без шипов. Казалось бы, я должен был бояться ее, как тот же Джулиан, однако я почему-то не испытывал страха. Наоборот: ее прямота, порой даже жестокая, нередко сберегала время, избавляя от пустопорожних прелюдий. Мне нравилось думать, что мы с Каллистой уважаем друг друга. В конце концов, у меня было то, чего не было у нее: ее дочь.