Колода судьбы бесплатное чтение
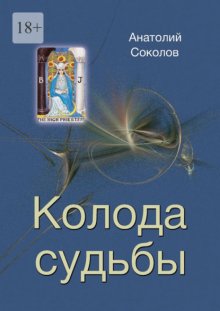
Редактор Сергей Соколов
© Анатолий Соколов, 2025
ISBN 978-5-0065-0786-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Колода судьбы
Колея эта только моя.
Выбирайтесь своей колеей!
В. Высоцкий.
Парк щеголял своим прощальным убранством, наслаждаясь последним теплом бабьего лета. Федор Николаевич бродил по едва заметным, занесенным опавшей листвой, тропинкам. Книга не отпускала. Эпизоды жизни, его и его героев, реальные и придуманные, словно карты из колоды – колоды судьбы – распластались перед глазами Федора замысловатым пасьянсом, возвращая его то к событиям совсем еще недавним, то к временам детства и юности.
Осень
Осень полыхала всеми оттенками желтого. В эту пору я часто грущу, размышляю о скоротечности жизни и неизбежности смерти. Осенью смерть не кажется такой пугающей, она воспринимается, как продолжение жизни, как переход в иное. Осенью смерть гармонично встроена в бытие природы.
Моя внутренняя женщина (Карл Юнг называл эту сущность анимой) опять начала меня критиковать за мое одинокое существование, уверяя, что мне непременно нужна подружка. На что я резонно возражал, предлагая вспомнить, сколько подружек было ей отвергнуто. Думаю, она жила в глубинах моей психики с момента рождения, но прислушался к ее голосу я лишь во второй половине жизни, когда судьба проехалась по мне безжалостным катком неудач и болезней. Я частенько с ней не соглашался, но сколько раз она меня выручала. Аниму свою я называю Аленой, может, потому, что так звали мою маму и еще одну женщину…
11-й «Б» решил отметить 25-летие окончания школы. Созвонившись, мы нагрянули к нашей классной. Быстро порезав принесенную закуску и откупорив бутылки, народ разместился за столом. Я подсел к Тане Говорухиной, в которую был влюблен в школьные годы, и, немного захмелев, сделал запоздалое признание, на что она кокетливо ответила:
– Не ты один!
Я, конечно, знал, это она про Юрку Соломина, моего друга.
– Что слышно от Юрки, где он? – поинтересовался я.
Таня ответила неохотно, с досадой в голосе.
– Он в Америку уехал, в Кембридже работает. Это все, что знаю, мы давно не общались…
С Юркой у нее не сложилось. Похоже, ей не хотелось бередить рану, и она поспешила вернуть разговор в прежнее русло.
– А ты знаешь, кто был влюблен в тебя?
– Нет, мне не до девчонок было, я тренировался по два раза в день, только на тебя и поглядывал. И кого же я проморгал?
– А с кем ты рядом на выпускной фотографии?
– Алена Белкина? – неуверенно произнес я.
Тут народ загалдел и начал кучковаться для группового фото. Я пристроился к Аленке и, как бы невзначай, шутливым тоном спросил:
– Аленка, а правда, что ты была влюблена в меня?
– Правда, милый, – ответила Алена и легонько обняла меня за плечи.
Я взглянул ей в глаза – там, в глубине, трепетала растревоженная девичья любовь. Мне стало как-то неловко, я не ожидал такой откровенности, думал – она тоже отшутится… На фото мы опять стояли рядом.
Пошумев еще немного, мы расстались с учительницей, гурьбой выкатили на улицу и стали прощаться. Я обнял Аленку, она доверчиво прижалась ко мне всем телом, ожидая поцелуя… Но тут подскочила Верка Синявская и с криком: «Аленка, наш автобус!», – вырвала ее из моих объятий и потащила за собой. На остановке Алена обернулась, помахала мне рукой, что-то прокричала. Я расслышал только: «…прощай!»
Еще долго я смотрел вслед уходящему автобусу, который навсегда уносил мою неслучившуюся любовь.
Через полгода Алены не стало. У нее был рак. Тогда, на вечеринке, она знала, что скоро умрет. Когда ее хоронили, осень полыхала всеми оттенками желтого… И как-то нечаянно в сознание ворвались вот эти строчки:
- Прощай, моя любимая. Прощай.
- Судьбой заказан путь… И, вероятно,
- Его не повернуть уже обратно,
- Туда, где миражом забрезжил рай.
- Туда, где полыхала краской осень,
- Где плотью наливалися сады.
- И неба чуть подернутая просинь
- Еще не предвещала нам беды.
- …
- Уже замерзли капли на стекле.
- Зима в свои права уверенно вступила.
- И мне уж не услышать больше: «Милый…»
- И не прижать твою ладонь в своей щеке…
***
…Федор бродил по тропинкам и вспоминал, как он, технарь по образованию, «дошел до жизни такой» – занялся литературой?
«А начиналось все, как это часто бывает, с глубокой ямы, с черной полосы, с жизни, потерявшей смысл на самом ее закате. И яму эту я вырыл для себя сам, решившись на крутой поворот в том возрасте, когда „походку не меняют“ и смысла в жизни, как бы она ни сложилась, уже не ищут…» – напишет Федор в своей книге.
Да, не меняют… не ищут… на закате… Но изменения – это сущность природы и что-то же, какая-то скрытая в глубинах психики сила, заставила Федора сделать этот шаг. Я открою тебе эту, в общем-то, небольшую тайну, читатель, но всему свое время.
…Этот парк был его «местом силы». Здесь, когда-то в детстве, он резвился со сверстниками (парк в то время был просто кусочком дикого леса), здесь, в юности, встречался со своей девушкой, здесь играл с сыновьями. Потом жизнь пошла наперекосяк, и они – он и парк – надолго расстались друг с другом, но какая-то незримая нить связывала его с этим местом. После долгих жизненных мытарств Федор снова поселился неподалеку. Здесь он спасался от душевной смуты, здесь рождались стихи и главы его новой книги.
Книга была почти закончена, и Федор уже представлял себе лежащий в сумке свежеиспеченный экземпляр, пахнувший типографской краской. Эх, если бы не последняя глава. Эта упрямица жила своей жизнью и никак не хотела вписываться в контекст повести. Как капризная женщина, она дразнила, возбуждала, потом показывала язык и становилась неприступной. Федор порывался выбросить ее совсем. Но это было уже невозможно. Он чувствовал, что решение где-то рядом, в каком-то параллельном пространстве, и нужно как-то прорваться за завесу.
…Мало-помалу воспоминания угомонились, отошли на задний план. Федор вышел на центральную аллею и направился к выходу.
На скамейке недалеко от ворот парка сидела женщина лет 45-ти и читала книгу. Взгляд лениво скользнул по обложке: Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита».
«Бабочка взмахнула крыльями» – угасшее было воображение встрепенулось, породило неожиданные образы, каскад мыслей устремился к точке сборки. Разрозненные наброски главы, действа, с которыми он никак не мог совладать, закружились в стремительном вихре, втянули в себя и его самого, и его героев, и этот парк, и эту женщину…
Мы еще вернемся к непокорной главе, а пока последим за воспоминаниями Федора, послужившими основой книги, пошуршим «опавшими листьями».
Крутой поворот
Я ушел на пенсию, как только позволил возраст, так и не закончив начатый проект, который, хотя и представлял для меня профессиональный интерес, уже не вызывал былых творческих амбиций.
Радиоэлектроника, которую я когда-то считал своим призванием, давно уже превратилась в ремесло, средство для существования. Фирма, где я трудился последние годы, сильно помолодела, и я ощущал себя ископаемым динозавром. Жизнь, кипевшая вокруг меня, не вписывалась в рамки моих привычных представлений и устоявшихся шаблонов, которые я считал жизненным опытом.
Менять работу не хотелось: опять надо будет привыкать к новому коллективу, доказывать свою значимость, профессионализм, а это в моем возрасте накладно для психики. Склонность к рефлексии и воспитанное в детстве стремление к идеалу (с этим ничего уже не поделаешь), заставляли находить пробелы в образовании. Я завидовал молодым и более талантливым, тянулся за ними. Но возраст брал свое. Технологии стремительно уходили вперед, и я, ведущий инженер, с трудом осваивал то, что студенты стали изучать в вузе. Я понимал, что не угонюсь за ними. Спускаться по служебной лестнице не хотелось, а на руководящие должности я не претендовал – не мое это, совсем не мое. Мне с «железом» общаться всегда проще было, чем с людьми. Последнее время я работал ради денег, которые намеревался использовать в старости. Неизвестно, что там впереди, – жизнь научила меня осторожничать, хотя по натуре я скорее авантюрист. Да и сыновьям надо было помочь, для меня они оставались детьми. Я чувствовал ответственность за их будущее, хотя в глубине души понимал, что у них давно уже своя жизнь и лучше бы мне в нее не вмешиваться с наставлениями и помощью.
Череда болезней, из которых не мог выбраться, подталкивала бросить работу. Организм разваливался по всем направлениям. Я понимал, что причины недугов надо искать «в голове» – душа была неспокойна. Приближалась старость и дряхлость. Отсутствие смысла дальнейшего существования, неизбежность смерти вгоняли в отчаянную тоску, с которой все труднее было справляться.
Масла в огонь подливали нарастающие экономические и политические проблемы в стране. Пресловутая «стабильность», которая почему-то так желанна для большинства населения, меня совсем не радовала. Любая стабильность – это застой, она чужда природе, чужда эволюции. Я понимал, что при моей жизни ситуация вряд ли изменится. Свеча горела с обоих концов. «Кочка опоры» ускользала из-под меня, а вокруг была трясина. «А как хорошо все начиналось…» – думал я, саркастически усмехаясь. В усмешке этой сквозили и тоска по безвозвратно ушедшей молодости, и досада на жизнь, которая, несмотря на все потуги, никак не хотела «под меня ложиться». И выстроилась совсем не так, как я когда-то мечтал. «Пора завязывать, сколько можно на дядю работать, займусь здоровьем, будет время подумать, может быть, еще удастся что-то сделать в этой жизни», – уговаривал я себя, принимая решение. А приняв, стал искать повода. И повод не заставил себя долго ждать.
Дело было так.
Нашему отделу предложили перспективный дорогой заказ по разработке системы диагностики для газоперекачивающей станции. Народ в отделе был тертый, и, прочитав техническое задание, в котором было много подводных камней, никто не спешил браться за проект, ждали, на кого повесят. И тут вперед вышел молодой, как сейчас говорят, «эффективный менеджер» и сказал, что он берется за проект. Прекрасно представляя способности этого парня, назовем его Максимом, я знал, что с работой он не справится.
Максима приняли в отдел года четыре назад, по моему поручительству. В то время я был завален работой, мне нужен был помощник. И тут начальник привел студента на преддипломную практику и предложил мне с ним побеседовать, мол, если подойдет – возьмем, воспитаешь, будет тебе помощник. Первое впечатление от разговора было удручающим, парень не знал азов. Я удивился, как он вообще поступил в вуз, как сумел продержаться 5 лет. Парень показался мне скромным, рассудительным, он искренне признавал пробелы в образовании, но обещал подтянуться и очень просил не отказывать ему. Подумав, я согласился. Первое время Максим беспрекословно выполнял все мои поручения. Я был доволен, что наконец-то избавился от рутинной работы и занялся делом. Пообтершись, Максим начал брать на себя инициативу, в основном в организационных вопросах, я не возражал, менеджер он был действительно неплохой. И вот, почувствовав в себе силы, Максим решил, что настал его звездный час. Убедив начальника, что систему можно собрать из готовых компонентов, которые есть на рынке, и что он с этим легко справится, Максим приступил к работе. Я с любопытством наблюдал за этой кутерьмой, иногда, видя, что парень «гребет» не туда, добродушно давал советы.
Закупив необходимое «железо», Максим понял, что собрать систему не сможет: где-то не стыковались уровни входных и выходных сигналов, где-то – протоколы обмена. Он не понимал, как соединить устройства, чтобы их не спалить. Одним словом, Максим понял, что влип. Проблемы его были решаемы, я знал, как их обойти, и ждал, что он попросит помощи. Но Максим поступил по-другому.
Прикрывшись тем, что кроме этого проекта на нем висела куча организационной работы, которую он нахватал для повышения престижа и, естественно, зарплаты, Максим убедил руководство передать проект мне. Я в это время был не сильно загружен, на чем и сыграл Максим. Я был возмущен его вероломством и отказался. Заявил, что «за того парня» работать не намерен. Начальник настаивал, но я «закусил удила». Конфликт разрастался, и я подал заявление на увольнение. Начальник демонстративно его подписал, надеясь, видимо, что я остыну и передумаю. А я ощутил вдруг необычайную легкость, словно гора с плеч упала, сомнения начались позже, в тот момент я был уверен, что поступаю правильно.
Первую неделю я отсыпался, наслаждался желанной свободой, жалел, что не ушел раньше. Но эйфория быстро прошла. Я понял, что без дела сидеть не смогу. Несколько «халтур» закончились, так и не начавшись. Работодателей не устраивали или предлагаемые решения, или цена. И я «постановил», что с радиоэлектроникой надо заканчивать. Но это легко сказать, я отдал ей сорок лучших лет. И все-таки мы расстались… Так расстаются с когда-то любимой женщиной, жизнь с которой превратилась в тягость и держалась лишь на привычке.
Я начал примерять на себя разные занятия, перебрал кучу вариантов. Как советовали психологи, задавал себе три «магических» вопроса: «Что ты больше всего любил делать в детстве? Чем бы ты занимался, если бы знал, что жить осталось полгода? Чем бы ты занимался, если бы тебе за это не платили?» Но так ни на чем и не остановился. Что-то было уже недоступно из-за возраста, а что-то не находило отклика в душе. Вспыхнув, огонек желания быстро угасал. Я понял, что поторопился с увольнением, не просчитал последствий, не подготовил почву, но, как говорится, «лом уже проплыл».
Получив желанную свободу, я оказался в пустоте – в хаосе, и совершенно не понимал, как справиться с этим состоянием. Я ожидал, что организм привыкнет, приспособится, но становилось все хуже. Бессонница и тревога, мои неизменные спутницы в путешествии по жизни, решили объединиться, лишая последних сил. Эти дамы, похоже, родились вместе со мной. Пока я был молод, полон энергии, имел поддержку во внешнем мире, они лишь изредка давали о себе знать. Но теперь, когда впереди зияла пустота, они полностью овладели моим существом. Иногда мне удавалось с ними договориться, но перемирие было, как правило, недолгим. Мне оставалось только просить пощады.
Жизнь совсем потеряла смысл, обмякла, потускнела, окуклилась в пространстве однокомнатной квартиры. Превратилась в череду рутинных действий, необходимых для существования: сходить в магазин, приготовить обед, прибраться. Тело жило по инерции, завершая биологический цикл. А душа… душа спряталась где-то, проявляя себя лишь через телесные недуги. Тревога стихала, ей нравилась эта размеренная жизнь, не таящая никакой угрозы. Иногда, во время нечастых прогулок в лесу, душа, окунувшись в живое, и сама оживала, наполнялась надеждой: «А вдруг это еще не конец, вдруг еще что-то возможно в этой жизни?» Тревога, как сторожевой пес, тут же поднимала голову, и душа опять скрывалась в своем убежище…
«Эх, Федор, Федор, Федор Николаевич… Ведь не тридцать тебе и даже не пятьдесят. Сколько уже раз обжигался… Свободы захотелось? Новенького чего-то? Только-только жизнь, кажется, успокоилась. У тебя даже проекта будущего нет… Ты так и не понял, что самая большая несвобода, рабство, если хочешь, это несвобода от самого себя. От себя-то не убежишь…» – так размышлял я, безнадежно критикуя себя за опрометчивый, как мне тогда казалось, поступок, круто изменивший жизнь.
Надо было как-то выплывать из этого засосавшего меня омута безнадеги.
Нужна была живая струя в жизни, и… я решил купить новую квартиру. Старой требовался капитальный ремонт, а как его делать в однокомнатной-то, куда съезжать? Я подумал, что проще купить новую, благо деньги были. Современная квартира, свежая цветовая гамма, новые соседи, хлопоты по обустройству отвлекут от мрачных мыслей, думал я. Как же я пожалел о принятом решении! Груз забот, свалившихся на мою голову, и более молодым-то был бы в тягость. Безнадега, вызванная сменой образа жизни, перетекла в отчаяние из-за неспособности решить возникающие проблемы с квартирой. Как я выдержал? На высоте напряжения спасался цитатой из Венедикта Ерофеева, подаренной как-то старшим сыном: «Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек…» – помогало иногда.
Квартирные хлопоты, в конце концов, завершились, и старые проблемы полыхнули вновь, они, конечно же, никуда не делись, лишь прикрылись на время сиюминутными задачами. Но были и островки надежды среди этого тревожного моря.
«Цыганочка»
– Федя, здравствуй. Это Люба звонит. Я в командировке тут у вас, можно у тебя остановиться на два дня?
– Конечно, приезжай, чего спрашиваешь.
– Спасибо!
– Ты адрес-то знаешь?
– Знаю, знаю.
– Нет, не знаешь! Я переехал в новую квартиру.
– Ой, как здорово! Говори, я запомню.
Я назвал адрес.
– Сейчас подъеду, жди!
Люба, брюнетка с черными, как смоль, волосами и пронзительными голубыми глазами, «наша Цыганочка», как называла ее мама, – моя двоюродная сестра по материнской линии (цыганская кровь досталась ей от отца, а глаза от матери), влетела в прихожую и повисла у меня на плечах.
– Федечка, здравствуй! Как я рада тебя видеть! Я на семинар приехала, на два дня. Вещи оставлю и убегу, семинар через час. Но сначала взгляну одним глазком на твою обнову.
Люба скинула обувь и ураганом пронеслась по квартире.
– Шикарно! Ну все, машина ждет, я исчезаю, вечером поболтаем, – протараторила сестра и умчалась, оставив за собой шлейф каких-то экзотических духов и возбужденное пространство.
Люба работала менеджером по подбору персонала в филиале известной нефтяной компании в Нижневартовске. Она вышла замуж за вахтовика-нефтяника, а потом семья перебралась на север «на ПМЖ».
Вечером Люба притащила кучу всякой вкуснятины, а я к ее приходу потушил мясо с картошкой, достал из заначки коллекционный коньяк, и мы сварганили знатный ужин. Немного захмелев и угомонившись, разговорились «за жизнь».
– Ну, рассказывай, что за семинар, и как поживаешь там «на северах»?
– Да все нормально, работаю, суечусь, дети здоровы, муж накормлен, на фирме уважают. Начальник, вот, послал на повышение квалификации: головная фирма проводит семинар по психологическому тестированию персонала. Жизнь «на северах» посуровее, чем на «большой земле». Да и люди другие: проще, понятнее. А как ты?
– А я отсуетился, на пенсию ушел, а чем жизнь заполнить, не знаю. В профессию возвращаться не хочу, я там все сделал, что смог. Со здоровьем проблемы: позвоночник не дает покоя, депресняк донимает, да еще с квартирой этой столько заморочек возникло, до сих пор отойти не могу… В общем – невесело.
– Невесело… Федя, а зачем тебе новая квартира понадобилась? У тебя и старая была неплохая и в хорошем месте.
– Кто-то на склоне лет женщину заводит, кто-то собачку, а я вот – новую квартиру. Мне кажется, это безопаснее, – съязвил я. – Зачем? Это был поиск комфортного психологического пространства, но, похоже, – новых «крепостных стен». После увольнения старые мифы, на которых жизнь строилась, которые опорой служили, рухнули. Их надо было чем-то заменить. Ну, и вот, это была попытка преодолеть психологические проблемы в физической реальности. Наверное, так.
– Решились проблемы?
– Да как тебе сказать? Нет, конечно, но жизнь стала гуще, меня как бы выдавило на поверхность из воронки, которая совсем было засосала. Закон Архимеда, однако. Помнишь детскую прибаутку? «Тело, впернутое в воду, не утонет в ней отроду, ибо прет из-под туды с силой выпертой воды»
– Не, мы такого не проходили.
– Темнота, закон Архимеда не знаешь! А у нас популярная была прибаутка, в пятом классе… Или в шестом? А если серьезно, всплыть-то я всплыл, теперь надо как-то до берега добраться, а силы уже на исходе, да и куда плыть, непонятно, берега в тумане не видно…
– Федя, а хочешь, я тебе погадаю?
Я усмехнулся.
– Ну, погадай, «Цыганочка».
– А ты не смейся. Это все серьезно.
Люба достала из сумочки колоду карт.
– Это карты Таро. Говорят, что цыгане привезли Таро в Европу из Египта. Существует такая легенда: чтобы сохранить сакральные знания, древние египтяне спрятали их… в порок. Картинки на картах – это мифологические символы, образы, которыми говорит с нами наш внутренний мир. Чтобы понять неразбериху в своей жизни, надо поискать подходящий мифический образ, архетипическую фигуру, с которой ты себя ассоциируешь на бессознательном уровне, проще сказать, ту, что тебя привлекает. Сюжет мифа и описание карты дадут подсказку – что не так и куда надо двигаться.
– Ну, попробуем? Поговорим с твоим бессознательным?
– Давай попробуем.
– Нам потребуются только старшие арканы, это символы различных этапов жизненного пути, которые каждый из нас проходит в той или иной мере.
Люба отделила от колоды какие-то карты, а оставшиеся разбросала на столе.
– Расслабься, перемешай карты и начинай их тасовать. Тасуй, пока не почувствуешь покой и удовлетворение, потом сдвинь колоду. Так, теперь раскладывай карты. Сначала – в два ряда по пять, картинками вверх. Выбери из первого ряда ту карту, которая тебя притягивает: наиболее приятную и интересную. Положи ее слева. Затем из второго ряда выбери наиболее неприятную, отталкивающую, и положи ее справа. Остальные открытые карты отложи в сторону. Повтори все это с оставшимися в колоде картами еще раз, только теперь понравившуюся карту положи снизу, а неприятную – сверху. В колоде осталась одна карта, положи ее в центре.
Я выполнил все указания.
– Ну и что все это значит? – недоверчиво спросил я.
– Карта в центре – это символ твоего «Я», она указывает на твой талант и на тот путь, которым надо идти, чтобы его реализовать. Карта слева – это помощница, она символизирует твои положительные качества. Карта справа – отрицательные, мешающие качества. Карта сверху говорит о том, за что ты себя осуждаешь и не любишь. Карта внизу указывает на то, что надо сделать, чтобы обрести уверенность, примириться с собой. Сейчас помолчи немного, мне надо сосредоточиться.
Казалось, Люба впала в транс, выключалась из реала, слилась с этими ничего не говорящими мне картинками. Так продолжалось несколько минут, потом она заговорила.
– Твоя жизнь, Федя, катится по рельсам совершенных ошибок, неверных выборов, уводящих от вектора судьбы. Покинув профессию, ты потерял опору во внешнем мире. Все-таки это была часть твоей жизни, в которой ты реализовал один из своих талантов, может быть, неглавный. Возможно, за твоим уходом скрывается какая-то трудная задача, с которой ты не справился или не захотел ее решать. Возможно, что-то еще, какая-то скрытая сила (тут противоречивая карта справа выпала, я не все поняла). И депрессия твоя от этого, а чтобы не испытывать душевной боли, ты закрылся от мира, соорудил клетку для души. Ты пытался найти наставника, единомышленников, но твое недоверие к жизни помешало. Тебе надо свою «религию» выстраивать – из хаоса, из тьмы, в которую душа сейчас погружена. Самому стать источником света, ну хотя бы искоркой, дарящей кому-то надежду. В последней трети жизни уже не хочется никаких сражений. Но мир жесток, он обманывает, унижает, использует. Меч и лира должны уравновешивать друг друга. Особенно в жизни мужчины. Чем дольше он способен владеть мечом, не отдаваясь лире: бессознательному, чувственному, тем дольше сохранит вкус жизни. А твой меч, Федя, давно заржавел в ножнах. Вынь его, отполируй и наточи. Ты увидишь, как заиграет булатная сталь, как проступит на лезвии гравировка: символ поддержки и помощи.
Сейчас ты ощущаешь крах всех своих планов, бессмысленность существования. Душу заполняет пустота, но эта целительная пустота. Из нее должна родиться новая жизнь. Прислушайся к своей интуиции, она подскажет верный путь. Без творчества, без поиска тебе не обрести опору и не подружиться с жизнью. Какие-то свои таланты ты реализовал, а что-то осталось нереализованным. Энергия этого нереализованного требует выхода, тревожит тебя. Вспомни, в детстве ты любил сочинять разные истории и записывал их, мама твоя мне рассказывала про «тайную тетрадку». Может быть, это был один из невоплощенных талантов? Подумай, как его раскрыть. А про здоровье карты говорят, что проблемы с позвоночником – это кармические проблемы. Вероятно, ты в прошлых жизнях был врачом и не смог или не захотел помочь кому-то из своих пациентов с подобными болезнями… Я знаю, что тебя всегда тянуло к медицине, но врачом ты не стал, побоялся. Это от неизжитой кармы, мне кажется. Чтобы разорвать кармическую цепь, ты должен справиться с проблемой сам и помочь нуждающимся: советом, личным опытом.
– А есть она, эта другая жизнь?
– Я думаю, что есть, в какой-то иной форме, но есть, иначе, зачем природа создала такие сложные организмы. Возможно, душа (ну, или информация, накопленная при жизни) переходит каким-то образом в другие тела, о чем говорят учения Востока. Мы не знаем и, видимо, никогда не узнаем, как мир устроен: «Ignoramus et ignorabimus» – это Дюбуа-Реймон. Видишь, какая я умная, а ты – «закон Архимеда не знаешь…»
Ну вот, пожалуй, это все, что мне карты поведали, вернее – твое подсознание через карты.
Конечно, не все в предсказаниях Любы соответствовало моим представлениям о себе и отношениям с миром, но в этом, несомненно, что-то было, какие-то смыслы пытались прорваться сквозь фильтры разума.
– Да, забавная сказочка у тебя получилась, – озадаченно произнес я. Ну не мог же я признаться, что поверил гадалке, что действительно почувствовал связь с чем-то иррациональным, потусторонним.
– Это не сказка, Федя, и не я ее придумала. Это твое подсознание на своем символическом языке нам поведало. А мы попытались настроить его ресурсы тебе во благо. Получилось ли это? Время покажет, символы – штука тонкая.
А теперь пойдем спать, мне завтра рано вставать, а у тебя во сне все разложится по полочкам.
На следующий день Люба уехала и увезла с собой частичку чего-то родного, давно забытого… Мое жизненное пространство вновь наполнилось напряжением и тревогой. Мелькнувший было образ возможного будущего померк, подернулся паутиной, растворился. Я пытался размышлять над тем, что запомнил из ее предсказаний, но вынуть заржавевший меч из ножен оказалось ох как трудно, как ни пытался я напрячь воображение, никакая гравировка не проступала. Я так и остался до поры до времени со своими «тараканами».
Повинуясь укоренившейся привычке доводить начатое до конца, я решил разобраться с этим Таро (разум требовал ясности). Я полез в интернет, но натолкнулся на горы разноречивой информации, от мистики и откровенных спекуляций на этой теме до серьезных философских и психологических исследований, что понял: оставшейся мне жизни явно не хватит, чтобы разобраться в этом. Задача повисла, осталась неразрешенной. Опора, которую я в очередной раз пытался найти, совсем не там, где она живет, в очередной раз ускользнула. Где-то глубоко внутри что-то саднило, какая-то заноза, оставленная Любой, не давала покоя. Накопившиеся болезни, опять подняли голову. Такого напора я не ожидал…
Я чувствовал, что сам не справлюсь. «Надо бы показаться врачам», – бубнила тревога. Но врачам я не доверял, кроме, пожалуй, моего товарища – Влада Крачевского – неисправимого циника и грубияна, но классного врача-невролога. Возможно, причины такого недоверия крылись в кармической плоскости, как утверждала моя сестра, но в карму я не особо-то верю. Хотя к медицине и правда всегда тянуло: интересно было, как работает машина, на которой ездишь.
Эх, был бы жив Влад…
Влад Крачевский
Травмированная в молодости спина болела уже который месяц. Я давно привык к этим болям, но на этот раз обострение затянулось, и я набрал знакомый номер.
– Неврология, Крачевский, слушаю.
– Привет, Влад, это Федор Надеждин. Проблема у меня опять с позвоночником, как бы мне с тобой встретиться?
– Привет, Федор! Ну приходи. Завтра часа в четыре ко мне в кабинет.
– Снимки свежие принести?
– Принеси, если хочешь, мне и так твой позвоночник по ночам снится, – съязвил Влад.
– Спасибо, до завтра.
С Владом меня свела спортивная жизнь. Мы тренировались у одного тренера, но в разных группах: Влад был старше меня на три года. Тренер часто объединял занятия, чтобы молодежь набиралась опыта и тянулась за «стариками». В своей группе Влад был лидером, он уже прыгал за шесть метров, а я только мечтал о шестиметровом рубеже. На одной из таких совместных тренировок я дал Владу бой, ничуть не смущаясь его опыта. В тот день прыжки у Влада почему-то не ладились, я же, наоборот, был в ударе, и получилось так, что мы сражались на равных. После этого поединка Влад меня зауважал, мы стали не то чтобы друзьями, но хорошими товарищами. Влад закончил медицинский, отслужил в армии и устроился врачом-неврологом в нашу районную больницу. Он быстро дорос до заведующего отделением, а я стал блатным пациентом. Магическая фраза: «Я от Крачевского!» была моим «золотым ключиком».
В назначенное время я заглянул в кабинет Влада.
– Можно?
– Заходи!
Влад жевал ватрушку с творогом и чем-то запивал прямо из старенького потертого термоса, похоже, сохранившегося со студенческих лет. Я обратил внимание, что лицо его было как-то странно искажено: левая щека отвисла, а глаз полностью не открывался.
– Сейчас дожую и займусь тобой, пообедать не удалось сегодня.
Покончив с едой, Влад спросил:
– Ну, что у тебя?
– Остеохондроз замучил.
– «Остеохондро-о-оз!» – передразнил Влад. – Ну тебе простительно, но врачам… За диагноз «остеохондроз позвоночника» по поводу боли в спине, записанный в медицинской карте, я бы увольнял по профнепригодности. Только в России, где все через задницу, но зато по-своему, остеохондроз превратили в метафору любой боли в спине. Десяток нозологических форм в одной метафоре. Разбираться-то не хочется. Хотя, с другой стороны, зачем разбираться, лечение все равно одно – МММ (мовалис, мидокалм, мильгамма).
Если кошке наступить на хвост, она будет кричать, но если ей заткнуть рот, то как бы все в порядке. Вот так и мы лечим: затыкаем рот проявлениям болезни, устраняем симптомы таблетками. А у каждой таблетки масса побочек, а от них другие таблетки со своими побочками… Зато по протоколу, и врач ни за что не отвечает, если бумажку заполнил правильно. Принцип «Не навреди!» перевернут на сто восемьдесят градусов: «Не навредить бы себе».
В большинстве случаев боль в спине – это боль мышечная. А мышцами как системой никто не занимается. Даже врачебной специальности такой нет. Специалист по горлу есть, а по мышцам – нет. А их в организме более 600, и это только скелетных. И все они, между прочим, друг с другом связаны. Вот и лечат мышцы и травматологи, и неврологи, и остеопаты, каждый своим методом, а целостного подхода к мышечной системе нет. Впрочем, как и к целостному организму.
Извини, наболело, излагай, в чем проблема?
– Спина болит, не отпускает, месяца три, все перепробовал: и таблетки, и мази, и упражнения.
– И ты от меня хочешь, чтоб не болела? Я тебе новый позвоночник не могу вставить. «Повеселились» мы в молодости, у меня вот с шеей проблемы, – проворчал Влад, рассматривая снимки, и скомандовал:
– Раздевайся и ложись на кушетку.
После осмотра Влад удовлетворенно сказал:
– Ну, все не так плохо на этот раз, позвоночник твой ни при чем. Миофасциальный синдром это называется: триггерные точки у тебя в квадратной мышце поясницы. Мышца перенапряглась, отдельные волокна не смогли восстановиться, слиплись, возникло болезненное образование, если понятным языком говорить. Наверное, поскользнулся, старался равновесие сохранить. Было?
Я припомнил, что боль возникла именно после такого случая, а я решил, что нерв защемило.
– Да, так все и было.
– Сейчас полечим, – сказал Влад и как-то кровожадно усмехнулся. Достал из шкафа тонкую иглу, такие иглы используют на процедурах иглоукалывания, и снова положил меня на кушетку. Нашел болезненное уплотнение в мышце и вонзил в него иглу. Сказать, что было больно, – значит, ничего не сказать.
– Потерпи, сейчас отпустит, – Влад все глубже погружал иглу в мышцу.
И действительно, боль из точечной, резкой, нестерпимой превратилась в разлитую, стала отдавать в ногу и постепенно угасла. Влад проделал такую же экзекуцию еще в нескольких точках и разрешил мне подняться.
– Ну-ка, подвигайся, полегчало?
– Полегчало! Влад, ты волшебник! – воскликнул я.
– Я не волшебник, а просто грамотный доктор. Таких докторов сейчас мало, цени, – Влад самодовольно ухмыльнулся и продолжил уже серьезно.
– Дома будешь свои триггеры разрабатывать сам. Ложишься на спину, кладешь теннисный мяч под самую больную точку, лежишь так, пока боль не пройдет те стадии, которые ты только что ощутил: усиление, иррадиация на периферию, уменьшение и тепло в месте давления, потом тихонько катаешься на мячике, прорабатываешь окружающие ткани минуты две, три. Никаких таблеток и упражнений пока тебе не надо. Понял?
– Понял.
Я с благодарностью посмотрел на Влада, и вновь меня поразило его перекошенное лицо.
– Влад, извини, а что у тебя с лицом?
Влад кисло поморщился.
– А-а… Видимо, тромб проскочил, что-то типа легкого инсульта.
– Инсульт?! И ты не лечишься, работаешь?!
– Да лечусь… И работаю, кому-то надо с вашими «остеохондрозами» разбираться. Некому работать, врачей грамотных не хватает: штат сократили в очередной раз, оптимизация по-российски… твою мать…
Это была наша последняя встреча.
«Неоконченный проект»
«…Врач – это средство повышенной опасности. Встреча с врачом – это как выезд на автомобиле на встречку, никогда не знаешь, чем закончится. Твое здоровье не нужно никому, кроме тебя самого. Работа у нас такая, с болячками разбираться. Работу можно любить, можно ненавидеть, можно просто отбывать неизбежное общение с пациентом по принципу: «Ну чего пристал, видишь, я работаю, отвали». «Люди в белых халатах… у смерти на пути…», как там, в песне поется? Мифы все это, да и сама медицина – набор мифов. Любой диагноз – это, по сути, миф, возникающий в сознании врача после сбора анамнеза. А врач подсознательно будет искать ту болезнь, которую он знает и умеет лечить. И вот этот миф ставится в основу твоего лечения, как правило, совсем небезобидными препаратами. А врачи в свое оправдание такую формулу придумали: «Если лекарство не имеет побочек, оно неэффективно». Иногда удается угадать верное направление и помочь организму справиться с недугом, а чаще промахиваемся и лишь усугубляем болезнь. Живой организм – слишком сложная штуковина, не умеет медицина с ним обращаться, далеко не все понимает, но пытается лечить…» – я вспомнил эту «разоблачительную» тираду моего товарища, которого, увы, уже не было на этом свете, по дороге в районную поликлинику, куда все-таки решил обратиться за рецептом на снотворное. Сон – великий целитель, а последнее время я почти не спал.
Невролог, к которому я пришел на прием, видимо, с первого взгляда распознал мое депрессивное состояние и, выслушав просьбу, отправил к психотерапевту, соврав, – ну, конечно же, во благо, – что им запретили выписывать снотворные.
На двери кабинета висела табличка: «Психотерапевт, Вячеслав Алексеевич Грачев». Очереди, к счастью, не было. Я постучался:
– Можно?
– Да, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, слушаю вас.
– Я на минутку, доктор. Невролог не хочет выписывать снотворное, говорит, что это только через вас. Доктор полистал медицинскую карту и пристально посмотрел на меня.
– А что вас беспокоит? Бессонница просто так не возникает.
– Это долгая история – длиною в жизнь – не хочу отнимать ваше время.
– Ну, минут 30 у нас есть, обычно этого хватает, расскажите вашу историю.
Я совсем не собирался выворачивать душу, даже перед психотерапевтом, хотя интерьер кабинета располагал к откровенности. Я впервые попал к психотерапевту и был немало удивлен: в кабинете стоял полумрак, окна были задернуты плотными шторами, за спиной психотерапевта располагался небольшой диван, в углу на журнальном столике красовался чайный сервиз, а у стены напротив стоял большой книжный шкаф, набитый книгами и… детскими игрушками. В глазах доктора читалась готовность помочь и даже что-то похожее на сочувствие. «А вдруг? – подумал я. – Вдруг этому доктору удастся найти корни всех моих проблем?». Это была соломинка, брошенная утопающему, и я ухватился за нее. Выговориться-то так хотелось.
Начал я, как полагается, с детства.
– В детстве я тянулся к музыке, к книжкам, но не модно это было, не для мальчика. Хлеба на этом не заработаешь. А сам я не понимал и стыдился себя за чувствительность излишнюю. Как же – мужиком хотел стать, как отец – морской офицер, воевавший с фашистами, как дядя – моряк-подводник, в конце концов, как сосед Генка, который за команду мастеров играл в хоккей.
Нас учили, что наука, техника, инженерия – это главное, определяющее прогресс. Гуманитарии не в чести были. Литература, искусство, философия всякая – второстепенно, прогрессу они не нужны и даже вредны, это для «гнилой интеллигенции». Эмоции нельзя напоказ, их надо сдерживать, особенно мужикам.
Дома радиола появилась, заглянул как-то вовнутрь: там лампы какие-то горят, интересно стало, потом друзья в радиокружок затянули, стал сам карманные приемники мастерить. Ну вот, и выбрал я радиотехнику своей профессией. Хотя способности к точным наукам весьма скромные были. Математику, уравнения всякие не любил, я за ними жизни не видел, но надо было, без нее в технический вуз не поступишь. Пришлось выучить. Математик у нас в школе толковый был, умел в нас теоремы вбивать, натаскивал на типовых задачах. Ему через это большое уважение было и от учителей, и от учеников, и от начальства. Почти все его ученики, кто хотел, конечно, в технические вузы поступали. И я поступил на радиофак – один из самых престижных в то время факультетов. А чего я хотел тогда, в молодости, я и сам не знал толком… Литературу школьную не любил, не было хороших учителей, «правильный» образ Фамусова из «Горе от ума», который заставляли заучивать, до сих пор в печенках застрял. «Зачем мне прошлое ворошить, сейчас время другое, интересы другие», – думал я. Вся классика для меня под этим девизом прошла и была надолго похоронена, в зрелые годы наверстывал упущенное. А книжки, те, что нравились: приключения, фантастика, про космонавтов, про ученых – любил. Даже сам сочинял рассказы всякие. И музыку любил.
Семья у нас музыкальная была: дед на гитаре играл, бабушка – на балалайке, мама – на фортепиано. В детстве моем мы одной большой семьей жили в доме деда – маминого отца. По праздникам, когда гости собирались, немного выпив, взрослые всегда пели песни. Отец, правда, не пел, но тоже музыку любил, помню, маму просил, когда гости расходились: «Аленка, поиграй Шопена». Меня тоже пытались к музыке приобщить – слух у меня был неплохой, взрослые это замечали, но не сложилось. В музыкальной школе, куда меня повели на прослушивание, мест на класс фортепиано уже не было, предложили на виолончель поступить, но я отказался: представил, как с этой бандурой через двор ходить буду, как пацаны гоготать начнут… Родители наняли частного учителя по фортепиано, мне хотелось импровизировать, сочинять, думал, она меня этому научит, а тут – гаммы… этюды… гаммы… Надоело. И школьная учительница пения меня всячески пыталась в хор завлечь: голос почувствовала, но там девчонки одни были – застыдился, не пошел. А потом спортом увлекся, и музыка отошла на второй план. Жалел, когда постарше стал, да и сейчас жалею, что не получил музыкального образования, бросил, на спорт променял. Впрочем, со спортом тоже не сложилось.
Тренер ДЮСШ уговорил меня заняться легкой атлетикой. В то время я быстро рос и показывал неплохие результаты: выигрывал первенство города, области, был призером первенства России. Но расти я скоро перестал – и результаты перестали расти, стали преследовать травмы. Но я был уже отравлен славой, долго не мог принять неизбежное расставание со спортом, которое все-таки произошло после очередной серьезной травмы.
С работой немного лучше получилось. Хоть и с трудом, но радиофак я закончил. Правда, быстро понял, что не мое это, что ошибся я с выбором профессии. Думал, меня научат приемники, передатчики разрабатывать, чтоб с миром общаться. А меня учили ракетные системы проектировать и обслуживать, чтобы этому миру грозить из всех углов «необъятной отчизны». С третьего курса хотел уходить, но родители отговорили, мол, получи специальность, ведь столько уже труда затратил, а там можешь и во второй вуз поступить, если захочешь. Они лукавили, знали, что будет потом. На пятом курсе я женился. Жизнь в СССР – та, что напоказ, – пуританская была, чтобы получить доступ к телу девушки из приличной семьи, надо было на ней жениться (ну или хотя бы пообещать), внебрачные связи порицались, вот и пришлось мне себя убедить, что проснувшееся сексуальное чувство – это та самая любовь, большая и неповторимая, и есть. Никто нас не учил в этих вопросах разбираться. Что-то внутри сопротивлялось, но инстинкт победил, я сделал предложение. Про второе образование, конечно, пришлось забыть, семью надо было обеспечивать. Диплом я, однако, на отлично защитил, руководитель грамотный попался. Я за время дипломирования больше знаний получил, чем за пять лет учебы, опять интерес к профессии прорезался. Быстро до ведущего инженера дорос. На руководящую должность не хотел, понимал, что нервная система слабая, что с «железом» проще работать, чем с людьми. Да и не только в этом дело, думаю, – свободы хотелось, творчества, а чем выше должность, тем более зависимым ты становишься, как ни странно, на первый взгляд, это может показаться.