Искры Божьего света. Из европейских впечатлений бесплатное чтение
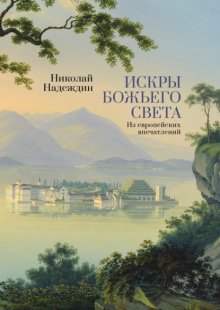
@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ
На обложке:
Иоганн Генрих Блейлер-младший, «Изола Белла», 1837 г.
Составление
Маргарита Бирюкова, Михаил Талалай
Научная редакция
Михаил Талалай
© М. Г. Талалай, составление, научная редакция, статья, 2025
© М. А. Бирюкова, составление, подготовка текста, 2025
© Издательство «Алетейя» (СПб.),2025
Николай Иванович Надеждин
(с. Нижний Белоомут, 1804 – Санкт-Петербург, 1856)
I. Франция
Впечатления Парижа
Выдержки из дорожных впечатлений[1]
«Я во Франции – я еду в Париж – я скоро буду в Париже?» – вот что твердил я беспрестанно, про себя и почти вслух, бродя по узким, кривым старонемецким улицам Страсбурга. Надо сказать, переход от Германии к Франции, несмотря на заветную черту Рейна, совсем не так обрывист и крут, как например в Швейцарии, где один снежный гребень делит окончательно два или три народа, где, сказав поутру на прощанье: «Guten Morgen!», к обеду, часов через шесть ходьбы, слышишь вдруг: «Bonjour!», или «Buono giorno!». С плоской западной стороны Франция бросается в глаза не тотчас по переезде Рейна.
Известно, что Эльзас, составляющий ее Рейнские департаменты, есть старинное достояние Германии, оторванное от прежней Священной империи весьма недавно, в блестящую эпоху завоеваний Людовика XIV. И хотя с тех пор прошло уже более века, хотя узы, соединяющие Эльзас с Францией, сохранились неприкосновенными при всех переворотах и бурях, физиономия его остается поныне тою же, тевтоническою! Особенно Страсбург, столица Рейнской Франции, с немецким именем сохраняет неизгладимые черты немецкого происхождения.
Его дивная колокольня, исполинское дитя искусства, рожденного и взлелеянного германским гением, из глубины облаков, пронзаемых ее неустрашимой стрелою, братски переглядывается с готическими замками, венчающими хребет Шварцвальда. Все прочие здания, церкви и дома, за исключением немногих вновь построенных, смотрят по-немецки. На улицах простодушная германская флегма мешается с французской веселой живостью; вывески и афиши пестреют двуязычными буквами; даже журналы делятся на два столбца: немецкий и французский. Но со всем тем, я уже чувствовал себя во Франции. Я слышал ее язык, эту заповедную святыню наших гостиных, эту привилегированную вывеску нашей образованности, это исключительное достояние нашего высшего общества, слышал на улицах и площадях, из уст кучеров и торговок. Мое грубое ухо не различало оттенков эльзасского произношения, которое дерет слух парижан, но у нас, не для одного меня, показалось бы очаровательной музыкой, возбудило бы тайный стыд и глубокую зависть. И когда, в первый вечер по приезде моем в Страсбург, горничная, явясь убирать мою комнату, заговорила со мной по-французски (да как еще по-французски, не хуже наших образованных барышень с двумястами душ приданого!), признаюсь, я испытал какое-то особенное чувство приятного удивления. Я понял, что нахожусь наконец в той дивной земле, где, как говаривали некогда с простодушным восхищением наши деды, образованность так велика, что и крестьяне говорят по-французски!
Но шутки в сторону, тем более что эти шутки так уже стары, истасканы, и я сам повторяю их по преданию. Говоря серьезно, чувство, испытанное мной при первом шаге на французскую землю, сопровождалось волнением. Сердце билось сильно, кровь обращалась быстрее. Наконец, я во Франции! Сколько нового, занимательного, тревожного, раздражительного заключается в этом чувстве для каждого европейского путешественника, тем более для пришельца из отдаленных краев севера!
Я никогда не был галломаном, никогда не боготворил Франции со слепым суеверием, но, признаюсь, из всех европейских стран, Франция предпочтительно влекла мое любопытство. Не она ли, в продолжение почти двух веков, утвердила за собой честь законодательницы просвещения, образованности, вкуса? Не ее ли считают все средоточием и горнилом европейской жизни? Не она ли, на нашей памяти, угрожала сделаться столицей, митрополией Европы во всех отношениях? Не она ли блеснула всему миру исполинским величием Наполеона? Не она ли и теперь, посредством своего всеобщего языка, раздает венки, подписывает окончательно дипломы всякой европейской знаменитости? Но я был во Франции, и не видал еще Франции!
Франция вся в Париже: там ее центр, ее жизнь, ее бытие; там проповедуют Гизо[2] и Тьеры[3], там живут Бальзаки и Гюго; там кипят все идеи, оттуда разносятся листки, волнующие Европу и новым проблеском гениальной мысли, и новым порывом к усовершенствованию, к развитию жизни, и новым изобретением головной прически… Итак в Париж, в Париж! Прощай знаменитая колокольня, прощайте берега Рейна, прощай Страсбург! Где контора дилижансов?
По законам Франции, у меня отобрали в Страсбурге русский паспорт и снабдили французским от имени Людовика-Филиппа, короля французов, где тщательно означили мое происхождение, звание, ремесло, цель путешествия, и сверх того описали подробно наружные приметы, даже привели рост мой в число метров и сантиметров, разумеется, по глазомеру. Русский паспорт отправлен был в Париж, где я должен был получить его обратно. Вообще французское правительство довольно строго относительно путешественников: надо непременно, чтоб паспорт ваш получил визу ближайшего французского посланника или по крайней мере консула, иначе вас не перепустят через Рейн; потом, тройной оплот неумолимых таможенных застав, неприятельски разрушающих порядок ваших чемоданов; затем, на расстоянии четырехсот верст, три или четыре раза осмотр паспорта, довольно суровый, хотя и с прибавлением безотлучной черты французской вежливости «S’il vous plait, monsieur!». Я выехал из Страсбурга в девять часов утра. Гладкое шоссе, обсаженное с обеих сторон густыми ореховыми деревьями, вилось по прекрасной равнине, покрытой роскошно возделанными полями, усеянной милыми деревеньками. Дилижанс ехал скоро, верст семь наших в час, и я проехал городок Васселону, не имев времени взглянуть на бумажные фабрики и мраморные ломни, которыми он славится в французской статистике. В Саверне, порядочном городке с под-префектурою, трибуналом и коллегией, я увидел себя у подошвы Вожских гор, цепь которых тянется от юга к северу, по направлению Рейна, почти параллельно Шварцвальду. Здесь много остатков тевтонической древности; особенно замечательны палаты древних епископов, обращенные в казармы. Французское самолюбие, вошедшее в пословицу, видит в новом дворце савернском сходство, даже соперничество со знаменитым Вильгельмсгёэ Касселя; я, признаюсь, ничего не заметил.
Въезд на гору, начинающийся почти при выезде из Саверна, в свое время считался дивом инженерного искусства: дорога проведена нечувствительно поднимающеюся спиралью, и патриотическая гордость французских дам воздвигла хотя не прочный, но блистательный памятник этому чуду, выдумав моду убирать голову жемчугом в форме савернского спирального шоссе, что и известно в летописях парижских мод под именем coiffure a la Saverne[4]. С вершины горы я отдал прощальный взгляд Рейну, Шварцвальду, виднеющемуся вдали, и Страсбургской колокольне, рисующейся на его сизом грунте: вид прелестный!
Крепость Фальсбург, укрепленная знаменитым Вобаном[5], приветствовала меня от имени департамента Мёрты, к которому принадлежит. В Саррбурге, где ожидал нас обед, меня потчевали французским народным кушаньем, которым англичане так дразнят своих соседей – лягушечьим фрикасе, от которого я, как православный русский, разумеется, оградился крестным знамением. Это был последний «бург» напоминающий своим характеристическим окончанием Германию: через станцию зазвучали имена уже чисто французские; я въехал в Лоррень или старинную Лотарингию. Люневиль напомнил мне известный договор, заключенный первым консулом Бонапартом с императором Австрийским, урожденным герцогом Лотарингским. Домбаль привел на память имя, так знакомое сельским хозяевам; но, к сожалению, я не мог видеть Ровиля, святилища современной агрономии, который лежит несколько в стороне от большой дороги.
Поздно приехал я в Нанси, где дилижанс должен был остановиться на несколько часов. Это был первый значительный город Франции, мною увиденный. Здесь была некогда столица Станислава Лещинского, возведенного на трон польский рукою Карла XII и два раза низвергнутого Петром Великим – Станислава, дочь которого из скромной изгнанницы, метившей белье и державшей счет столовой посуде, сделалась королевой Франции, женою Людовика XV. Прах его покоится здесь же под мавзолеем Жирардона[6], а память доныне хранится в устах народа, несмотря на перевороты, отодвинувшие так далеко прошедшее от настоящего. Нанси теперь главный город департамента Мёрты; он имеет прекрасную физиономию, выстроен правильно и изящно. Я ходил по нему при свете луны, окруженный фантастическими тенями.
Утро застало меня под стенами Туля, орошаемого Мозелью; знаменитый Вестфальский мир, положивший первые основания европейскому равновесию, здесь поставил межу Франции. Спутник, присевший к нам здесь в дилижанс, объявил, что недалеко отсюда Вокулёр[7], где поэтическая Жанна д’Арк начала некогда свое поприще в скромном звании трактирной служанки, но я напрасно искал его глазами за холмами приближающейся Шампани. В полдень, к обеду (надо заметить, что во французских дилижансах относительно обедов нет той строгой, точной дисциплины, как в немецких; всё зависит от деспотического самовластия кондуктора) мы приехали в Бар-лё-Дюк, главный город департамента Мёзы. Местоположение очень милое, по уступам горы, в виде амфитеатра. Мне предлагали посмотреть на любопытнейшую редкость города – труп, источенный червями, который, говорят, сделан с особенным искусством: но церковь св. Петра, где хранится это диво, находится в верхней части города, и мне не захотелось лезть туда, особенно в полуденный зной.
В Сен-Дизье увидел я Марну, в ее верховье, но уже судоходную; берега ее покрыты лесом. Витри на Марне или Витри-лё-Франсуа, городок прекрасной наружности, напомнил мне своим именем последнего венчанного рыцаря на троне Франции, короля Франциска I, который был его основателем. Между тем наступила другая ночь, под покровом которой въехали мы в Шалон на Марне, древние Каталауны римской Галлии. Дилижанс наш был наполнен веселою толпой молодых французов, ехавших из Витри провесть следующий воскресный день в столице департамента Марны. Шалон довольно большой город; замечателен его древний готический собор с двумя башнями, великолепным порталем и расписными окнами XVI века; дома частью деревянные, что большая редкость во Франции, частью из мелового камня.
По несчастью, я проехал Эперне, родник шампанского, ночью, и потому ничего не могу сказать о вкусе божественной влаги в месте ее рождения. Поутру, в Шато-Тьерри, древнем Castellum Theodorici, ныне подпрефектурном городке департамента Эни, я отдал поклонение статуе Ла Фонтена[8], которого здесь родина. В Ферте-су-Жуарр мне показывали издали замок, где Людовик XVI останавливался, возвращаясь из рокового Варенна[9]. Здесь уже департамент Сены и Марны. Около полудня возник перед нами древний собор Мо, святительская кафедра великого Боссюэта[10]. Французы весьма признательны к представителям своей народной славы: Мо дышит памятью знаменитого пастыря. В соборе его гроб, окруженный благоговением; в епископском саду воздвигнута статуя художником Риттиелем; там показывают, как святыню, аллею из тисов, под сенью которой великий муж обдумывал свои высокие создания. Мо составляет последнюю границу провинциальной Франции; за ним начинаются окрестности столицы – Подпарижье, если можно так выразиться.
Скоро зазвучало в ушах моих имя Ренеи. Где ж этот телеграф, внушивший одну из трогательнейших повестей одному из пустозвоннейших писателей юной Франции[11]? Потом Ливри – Виль-Паризи – и наконец Бонди, последняя станция перед Парижем! Оставалось только два лье[12] до края желаний… Признаюсь, я едва вспомнил, что вижу то самое Бонди, где некогда совершилась трагическая история Обриевой собаки, источник стольких слез для наших театров[13]. Я был весь проникнут, подавлен близостью Парижа. Площадь пестрела омнибусами с волшебной надписью: «от Парижа до Бонди – от Бонди до Парижа». По несчастью, кондуктор дилижанса вздумал не менять лошадей на этой станции; я было обрадовался такой мере. Но это еще более нас задержало; конюха вышли обмывать морды и ноги лошадям, хотя они проехали только одну французскую почту – по-русски верст десять. Сердце рвалось от нетерпения. Вот двинулись, вот поехали.
– Это Париж? – спросил я своего спутника, весьма неразговорчивого эльзасца, завидев на высоте влево прекрасное здание.
– Нет! Это замок Роменвиль!
– Так вот он! – вскричал я, увидев широкую улицу, наполненную народом, при въезде которой стояли род триумфальных деревянных ворот, приготовленных для какой-то иллюминации.
– Нет! Это деревня Пантен!
На улице кипели толпы, гремела музыка. То был народный праздник. Вообще воскресные дни летних месяцев посвящены народным празднествам в окрестностях Парижа; каждая деревня имеет свою очередь, установленную вековым обычаем. Но иллюминация была приготовлена не для этого праздника; это были остатки приготовлений к июльскому торжеству, остановленному ужасным злодеянием Фиески[14].
– Где ж Париж? – спросил я уныло, выехав из Пантена.
Эльзасец промолчал несколько минут и вдруг разрешился протяжным звуком:
– Voila la barriere![15]
Признаюсь, все мечты мои разлетелись в прах при этом слове. Перед нами открылась улица, загороженная решетчатыми воротами, которые в европейских городах заменяют наши рогатки. Эта улица показалась мне гораздо теснее и хуже пантенской. Но то был действительно Париж, столица Франции!
Неизвестный художник. Сен-Мартенские ворота, вход русских войска в Париж 31 марта 1814 г.
Нас спросили, не везем ли мы чего, подлежащего городской пошлине, то есть съестных припасов, вин и т. п. Отрицательный ответ кондуктора отворил свободный въезд в ворота… Так вот я и в Париже! Направо увидел я великолепное здание, примыкающее к заставе. Это водохранилище Вильетское, звено, соединяющее каналы Сен-Дени и Сен-Мартен, посредством которых лука, описываемая Сеною под Парижем, значительно сокращается для судоходства, пристань знаменитого канала Урк, и запас вод для столицы. Парижане, для которых нет полезного без приятного, летом сбираются сюда на купанье, а зимой кататься на коньках. Влево возвышалась на отдаленном горизонте какая-то огромная церковь; после узнал я, что это был знаменитый Пантеон.
Но мне было не до расспросов; я жадно смотрел вперед. На углах переулков, примыкавших к нашей дороге, я читал крупную надпись: «Улица предместья Сен-Мартен». Предместье Сен-Мартен! Кто не знает этого имени, кто не бывал воображением в этом предместии с Бальзаком, с Жуй[16], со всею фалангою ста одного чичероне? Право, мне самому это предместье было знакомее Замоскворечья! Но где ж, однако, Париж? Чем это предместье отличается от нашей Таганки, Рогожской? Дома, правда, все каменные, в несколько этажей – но такие грязные, такие уродливые! Народу много, очень много, но на Тверской и Покровке у нас не меньше; только что на улице не видно русских бород – да и то неправда! Мелькает и это почтенное украшение на устах многих, вероятно, последователей отца Анфантеня[17] или питомцев Юной Франции[18]!
Утомленный однообразием, не представлявшим ничего особенного, ничего оригинального, я хотел было махнуть уже рукой и сказать: «Славны бубны за горами!», как Сен-Мартенские ворота (Porte St. Martin) стали поперек дороги. Эти ворота сами в себе не имеют ничего особенно замечательного. Но ими кончилось предместье; за ними начался Париж. Сцена совершенно переменилась! Мы проехали между бульварами Сен-Мартен-ским и Тамильским. Меня вдруг ослепило и оглушило… Вот настоящий Париж! Вот это чудовище, так прекрасно изображенное Бальзаком; до тех пор мы тащились по его хвосту, теперь только попали в самую пасть!
Да! Это Париж! Чем более погружался я в его внутренность, тем живее испытывал то состояние, которое мы русские так живописно называем «зажорой». В самом деле, меня зажрало в полном смысле; вскоре потерял я способность различать подробности; шум, гам, крик, теснота, чуть не давка на улицах; всё кипит, всё толчется взад и вперед; пестрота невообразимая! Право, настоящий Содом и Гомор! Я помню только, что проехал мимо ворот Сен-Дени, видел конную статую Людовика XIV на площади Побед[19] – и только!
Наконец дилижанс повернул в ворота огромного дома, и я увидел себя на большом круглом дворе. Мне всунули в руку билетец, подхватили чемодан мой на плеча; и прежде, чем я опомнился, я уже был водворен в гостинице Орлеанской, на улице Сент-Оноре, в доме дилижансов Лаффита, Гальяра и комп.[20]
Так въехал я в Париж, проехал половину Парижа, и не имел никакого понятия о Париже, кроме самого смутного, самого хаотического впечатления! В этом отношении, Париж не имеет той выгоды, чтобы с первого взгляда производить какое-нибудь цельное, определенное впечатление, по крайней мере своей наружностью. Он лежит в такой яме, что его с приезда почти ниоткуда не видно. Да и вообще, нет таких точек зрения, с которых бы он представлялся в живописной панораме, как например Москва с Воробьевых гор или с Ивана Великого, как Вена с Каленберга или со Стефановской башни. Ознакомясь с его подробностями, я хотел доставить себе удовольствие окинуть его в целости, одним взглядом. Я всходил на Нотр-Дамскую башню, на купол Пантеона, был на Монмартре, на кладбище Отца Лашеза[21], и признаюсь, нигде впечатление не соответствовало моим ожиданиям.
Виктор Адам. Перевозки Лаффита, Гальяра и комп., 1842 г.
Башни Нотр-Дамские владычествуют над правым берегом Сены, но их подавляет правая сторона, особенно гора Св. Женевьевы, увенчанная Пантеоном. Я входил на одну из этих башен (другая, украшенная трехцветным флагом, заперта для посетителей), входил с «Notre-Dame de Paris» в руке; мне хотелось под руководством Гюго пронестись au vol d’oiseau[22] над дивным городом. Но я видел только безобразную громаду зданий, давящих друг друга своими черепичными кровлями. Течение Сены, посреди которой возвышается Нотр-Дамский собор, представляет некоторую перспективу. Только эта Сена – позор Парижа! Вы не можете вообразить, как дрянна, как ничтожна эта река, особенно середи Парижа. Шириною не больше нашей Москвы-реки, она даже не имеет того преимущества крутобережности, которое дает нашему Кремлю такую очаровательную прелесть. Беспрестанные отмели, высовываясь из плоских берегов длинными желто-серыми языками, застилают ее поверхность, и без того слишком некрасивую, мутную и грязную. Великолепные мосты только что давят ее; огромные здания с обоих берегов так теснят бедную, что она кажется жалкой канавой. Одним словом: вид Парижа с Нотр-Дамской башни, при всем моем уважении к таланту Гюго, не представляет решительно ничего живописного, ничего поэтического.
Томас Гёртин. Вид Пантеона, 1803 г.
С фонаря Пантеона еще хуже. Это огромное по высоте своей здание (249 футов 4 дюйма до верхушки фонаря) стоит на возвышеннейшем месте Парижа, что естественно уменьшает все размеры, сливает все подробности в неразличимую массу. Париж представляется оттуда грудой камней, из которой кое-где высовываются башни старинных и куполы новых церквей, как вехи на межуемой пустоши. Никакого определенного облика, никакой панорамы!
С вершины Монмартра (Buttes Montmartre), откуда русские пушки разгромили последние подопоры Наполеонова престола, Париж виден в ширину, en face[23], если можно так выразиться. Но и здесь впечатление его совсем не живописно. Во-первых, его не видно вполне: взор переносится через ближние кварталы, которые кажутся построенными на дне глубокой пропасти; многие части, направо и налево, маскируются изгибами горы. Во-вторых, то, что и видно, видно слишком издалека, следовательно, сливается для взора.
Лучше всех вид с кладбища Отца Лашеза, особенно с террасы, где стоит кладбищенская часовня. Париж виден отсюда в длину, в профиль. Взор простирается беспрепятственно, верст на семь русскою мерою, от заставы Трона[24], соседней с кладбищем, до противоположной заставы Звезды[25], где заложены Наполеоном великолепные триумфальные ворота, которые и доныне всё строятся. Взглянув отсель на Париж, я вспомнил место из «Тринадцати» Бальзака, где он заставляет Г. Жюля, похоронив свою несчастную жену, оглянуться на Париж, волнующийся под его ногами. В самом деле, противоположность между этой огромной котловиной, в которой кипит столько страстей, волнуется столько жизни, и между мирной, пустынной обителью смерти, где эти страсти утихают, где эта жизнь улегается под холодною доскою гроба – противоположность эта имеет в себе много поэзии. Но отнимите это привходящее, театральное обольщение: взгляните просто на Париж, не думая, откуда и на что смотрите? Всё то же! Огромное поле, засеянное бесчисленными зданиями – и только!
Вообще физиономия Парижа не живописна ниоткуда потому, что ей недостает выпуклостей, которые преломляли бы взор и разнообразили ее плоскую, монотонную поверхность, недостает церквей и башен, которые своими куполами и шпицами составляют истинную красоту города в панораме. В Париже весьма мало подобных зданий. От прежних феодальных твердынь, любивших врезываться в облака своими зубчатыми башнями, не осталось почти ничего в столице Франции. Церкви есть, но их очень мало в сравнении с обширностью города, и притом они так разбросаны, так отдалены друг от друга! Знаменитый Нотр-Дамский собор находится почти в центре, на острове Сены, но он совсем не имеет того величия, чтобы владычествовать над всею массой Парижа и собирать ее вокруг себя в одну живописную панораму. Это не то, что св. Стефан в Вене, мюнстер в Страсбурге, или Домо в Милане.
Две башни, усеченные сверху гладкими плоскостями без шпицев и куполов, едва заметны на пространстве ю тыс. арпанов, покрытом 30 тыс. домами. На всем правом берегу Сены взор различает много две или три значительные башни, из которых выше и резче всех бросается в глаза уродливая масса прежде бывшей церкви Сен-Жак-ла-Бушери[26], ныне обращенной в фабрику.
Левый берег богаче выпуклостями: Сорбонна, Валь-де-Грас[27], св. Сульпиций[28], св. Женевьева[29], аббатство Сен-Жерменское[30], и по обоим концам Парижа – великаны, как будто стоящие на страже: Пантеон и Инвалиды со своим раззолоченным куполом. Но эти два последние здания, бесспорно принадлежащие к великолепнейшим памятникам зодчества, находятся в таком беспредельном расстоянии друг от друга, что их нельзя подвесть под один взгляд во всем их величии. Какое различие от любого немецкого, любого итальянского города! Коротко сказать: Париж в целости не представляет ничего ландшафтного! И вот почему ни один живописец не воплотил его на полотне; вот почему французы довольствуются только отдельными изображениями отдельных памятников своей столицы!
Но если Париж почти ничтожен для глаза, то взамен производит своей необъятной массой удивительное впечатление на другое чувство, на слух! Вы улыбаетесь! Да! Я говорю серьезно, не шутя! Города не безмолвны, они имеют свой характеристический шум, свой так сказать говор! Хотите ли слышать Москву? Ступайте в тихий летний вечер на Воробьевы горы или на сторожевую башню Симонова монастыря. Между тем как дневной шум природы постепенно умолкает под ризою сумрака, вы услышите яснее и яснее другой шум, долетающий к вам из волнующегося под вами города. Этот шум смутен, глух, не определен, как гул отдаленного моря. Но вслушивайтесь пристальнее: вы различите в нем бесконечное разнообразие характеристических звуков, и все эти звуки сливаются в один чудный аккорд, понятный для чувства, красноречивый для воображения!
Париж в этом отношении гораздо красноречивее, гораздо музыкальнее, если можно так выразиться. Это чудовище – я повторяю выражение Бальзака – никогда не умолкает; тишина ночи делает только внятней его оглушительный шум; там нет покоя даже и в таинственный час между полночи и рассвета, столь любимый задумчивостью поэта!
И что это за шум? Не стук запоздалого фиакра, возвращающегося с уединенной беседы, проведенной за дружеским вистом; не тихий говор ночных рыцарей, сбирающихся осадить железную решетку окна, не нарушая общественного спокойствия; не громкая перекличка часовых, или звонкий рог ночного сторожа, раздающийся в немецких городах для успокоения честного бюргера. Нет! Это шум жизни, для которой нет сна, нет отдыха. Право, кажется, народонаселение Парижа чувствует невозможность жить в одно время на отведенном ему пространстве; оно разделило двадцать четыре часа суток, и, тогда как одна половина спит, другая живет и движется. Во мраке ночи Париж запасается для дня. Из-под одеяла вы слышите кряхтенье носильщика, перебранки торговок, вопль ребятишек, преследующих фуры, нагруженные съестными припасами. Самый сладкий сон, который по уверению знатоков бывает на заре, прерывается уже пронзительными криками разносчиков. Вслушайтесь в эти последние: что из них выливается громче, покрывает собою все? Это не наше: «По ягоду, по клюкву!», а возвещение афиш, продажа разных новостей! Заметьте это хорошенько: это тон, который господствует в музыке Парижа; им выражается главная стихия, характеристический признак парижской жизни!
Я не смею взять на себя представить вам эту жизнь в ее подробностях, в ее полном развитии. Конечно, отличительное свойство парижской жизни состоит в удивительной гласности, открытости, публичности; она не любит таиться, она вся наружи, вся на лице. Нигде, кажется, не развита менее семейная, домашняя жизнь; нигде нет такой холодности к Ларам и Пенатам. Парижанин живет за дверьми своего дома. Сен-Жерменское предместье, принимающее наименьшее участие в современной парижской жизни, показывает еще некоторый вкус к отшельничеству: там двери заперты булавою швейцара, улицы пусты и тихи. Но не обманывайтесь этим наружным спокойствием: Сен-Жерменское предместье, чтобы сохранить свое достоинство, пол-сутки отдыхает – с тем, чтоб другие полсутки провести также за порогом: на бульваре, за городом, в театре, на бале. При всем том, я бы взял на себя геркулесовский труд, если б вздумал ловить в очерки эту многосложную, эту бесконечно разнообразную, эту чудовищно пеструю жизнь, от которой глаза разбегаются, мутятся. В Париже миллион жителей: и весь этот миллион живет, движется, волнуется по-своему. Есть, однако, некоторые постоянные оттенки, периодические приливы и отливы масс, подчиненных строгой дисциплине житейских потребностей, которые, в неизменяемом порядке сменяя друг друга, сообщают парижской жизни какую-то историческую последовательность, делят парижские сутки на определенные эпохи, отличающиеся своим особым движением, своим особым шумом. Постараюсь изложить здесь в кратком очерке эту стереотипную историю парижского дня, которая повторяется через каждые двадцать четыре часа в том же порядке.
Еще центр города не успеет порядочно заснуть (а он засыпает после полуночи), как в оконечностях начинается самое деятельное движение. При тусклом мерцании догорающих фонарей тысячи возов, нагруженных зеленью и фруктами, тащатся из окрестных деревень, стуча по мостовой тяжелыми колесами. За растительным царством следует животное: коровье масло, яйца, дичь, птицы. Всё это продается и раскупается оптом до свету; в девять часов утра вы уже не встретите ни одной крестьянской фуры на улицах Парижа; даже пестрый рой молочниц и цветочниц перестает порхать по тротуарам со своими кувшинчиками и корзинками. Народ рабочий, мастеровой, поднимается обыкновенно с шести часов утра. Тут начинается механическая жизнь Парижа: наковальня звенит, дерево визжит под пилой, под настругом, на токарном станке, прялка вертится, челнок ныряет в шелку, в шерсти, в бумаге, кирка и резец сражаются с камнем. В то же время и купец открывает свою лавку.
Но еще раньше встает особый класс людей, купцов и ремесленников вместе, которые делают и продают то, чего нет дороже человеку – здоровье! Я разумею жрецов Эскулапа, которые, дорожа утром, разорванным на билеты, с пяти часов отправляются в больницы, где служат; там ожидают уж их толпы молодых аспирантов, чтобы воспользоваться их теоретическими уроками или практической опытностью. Собственно умственная деятельность просыпается позже. Школы и лицеи отворяются в восемь часов: это период студентов. Они слушают лекции до десяти часов, и потом опять собираются в два пополудни. В десять открываются музеи и библиотеки; они всегда наполнены. Жизнь гражданская начинается в одно время с умственною. С восьми часов адвокаты, поверенные, нотариусы принимают своих клиентов; в девять отворяются суды и палаты; в полдень они битком набиты. Но это всё еще низшие слои гражданской жизни; в верхних движение обнаруживается позже. Высшая администрация и высшие расчеты почивают долго. В восемь часов всё еще пусто на улице Вивьен, в конторах банкиров и негоциантов; передние министров и их канцелярии также пусты. С десяти, не прежде, на улицах рисуется и медленная, ровная поступь биржевого агента, и борзая рысь министерского столоначальника. Курьеры, комиссионеры, просители шныряют взад и вперед. В два часа начинаются шумные операции Биржи и шумные прения Палаты депутатов. Тогда гражданская жизнь Парижа достигает своего зенита. В четыре часа всё вдруг прекращается: суды, конторы, присутственные места, канцелярии – всё запирается. Час обеда! Тогда наполняются ресторации, трактиры, пансионы. Процесс питания поглощает всё. В шесть часов театры и другие публичные увеселения, сады, бульвары, гулянья, кофейные дома наполнены! Все ремесленные работы прекращаются в восемь часов. Зажигаются фонари, лавки освещаются газом. Всё горит и кипит. Позже всех начинает жить Пале-Рояль. Наконец, в одиннадцать часов наружное освещение гаснет, лавки запираются. Деловой народ идет спать. Тогда начинается жизнь высшего класса: это время балов! Таким образом, по общему закону соприкосновения крайностей, высшее общество Парижа сталкивается в заполуночное время с самой низшей ступенью народонаселения; и раззолоченные кареты, возвращаясь к утру домой, встречаются с фурами поселян, начинающих новый день, новое повторение той же истории.
Но это непрерывное кругообращение есть прозаическое выражение жизни. Наблюдать его любопытно и поучительно; каждая волна парижского народонаселения имеет свою отличительную физиономию; из соображения их можно вывесть множество занимательных результатов. Но всё это, должно признаться, носит на себе печать необходимости; всё это более или менее обще и другим городам, где те же нужды, тот же порядок, то же суточное колесо. Интереснее жизнь в ее поэтическом развитии, там, где она не стесняется никакими внешними условиями, там, где она есть свободная игра, свободное выражение народного духа. И в Париже есть особенный, многочисленный класс людей, которых по всей справедливости можно назвать поэтами жизни. Это так называемые flaneurs[31], которых весьма несобственно можно перевесть русским словом: зеваки![32] В них-то жизнь парижская является во всей своей чистоте; в них-то должно ловить и изучать ее коренную, неискаженную физиономию.
Что такое парижский flaneur, зевака? Известно, что все столичные, даже большие провинциальные города служат притоном для людей, которые, не имея нужды в поте лица приобретать хлеб свой, сбираются туда изнашивать жизнь с возможным спокойствием, удобством и наслаждением. Главный характер этих людей, основание их бытия, есть праздность; главная цель – наполнить чем-нибудь полегче эту праздность! Но везде почти, праздность есть мать скуки, по прекрасной аксиоме детских прописей. И у нас есть праздные, но что они делают? Одни пьянствуют, объедаются, иногда пускаются в ханжество или в разнос сплетней – и скучают; другие ездят в театр, развозят визитные билеты, танцуют до упаду, просиживают ночи за картами – и скучают! Это от того, что у нас праздность не наполняется никаким призраком душевного движения, сопровождается совершенным отсутствием всякой даже пустой мысли, всякого даже фальшивого чувства.
Не таков парижский зевака! Это существо, которое ничего не делает – а мыслит, а чувствует, а живет! Он не смотрит, а глазеет на всё, не слушает, а прислушивается ко всему – и счастлив! Его жизнь наполнена, он вечно занят! Чем? – спросите вы; на это нелегко отвечать одним словом, или лучше, должно отвечать одним словом «Всем!». Но я лучше постараюсь набросать здесь в кратком очерке его жизнь, его поэтическое существование. Разумеется, по многочисленности и разнообразию этого класса парижского народонаселения, есть и в нем разные оттенки. Свои особенности имеет парижский гамен (gamin[33]), который, собрав поутру несколько су от доброхотных дателей, от замаранных башмаков, или от чужестранцев, не знающих города, которым всякий низшей степени flaneur навязывается в проводники – собрав, говорю, насущный капитал на целый день и, следовательно, обеспечив себе целые двадцать четыре часа будущности, беззаботно шныряет по улицам, останавливается при каждой толпе народа, провожает громким смехом каждую уродливую физиономию, каждый брызг грязи с колес фиакра на беленькое платьице гризетки или на запачканные табаком брызжи старого кавалера св. Людовика, одним словом, каждое уличное приключение.
Поль Гаварни, «Фланёр», 1842 г.
Свои напротив причуды у ветхого жителя Инвалидов[34], достопочтенного обломка Наполеоновой армии, который на деревянной ноге, с подвязанной рукой, с черной тафтой на лице бродит по Парижу день-деньской, останавливается пред колонной Вандомской с благоговейным умилением, слезящими глазами смотрит на арку Звезды, хвалит старое время и клянет сквозь зубы всё новое; или у счастливого обитателя бистро, который, владея полным умом и наслаждаясь совершенной независимостью, сушит на солнце табачный платок, чертит палкой затейливые арабески на песке, или водит любопытного путешественника по своему жилищу и рассказывает ему по доверенности, на ухо, о привезенной ночью карете с шестью неизвестными, которые вон там, в пятом этаже, где окна с железными решетками. Я возьму среднюю ступень на этой обширной лестнице и расскажу вам жизнь поэта-зеваки, у которого есть тысячи три франков годового дохода, который живет на улице Сент- Оноре, берет полный обед у Вери[35], ходит в Оперу и в Итальянский театр[36], имеет билет в Палату депутатов[37].
Просыпаясь часов в семь и сделавши туалет, он идет в ближний кабинет чтения или, если погода хороша, и недалеко, в какой-нибудь публичный сад, освежиться воздухом и прочитать утренние газеты. Здесь распоряжает он, по указаниям афиш, всею бесконечностью дня. Если в Уголовном суде назначено слушанье какого-нибудь любопытного дела вроде процесса Ла Ронсьер[38], или Исправительная полиция объявляет о богатой добыче воров, бродяг и мошенников, собранных на улицах Парижа, он отправляется в девять часов в Палату судебных мест (Palais de Justice), не забыв мимоходом взглянуть на Моргу[39], где выставляются мертвые безымянные тела. Если заседания еще не начались, или слушаются дела не очень интересные, скучные интермедии, которые дают сначала для съезду, он прохаживается по длинной зале Теряющихся шагов (salle des pas perdus), кланяется с знакомыми адвокатами, вступает с ними в разговор, взвешивает дело и предугадывает заключение трибунала. Когда нет ничего интересного по части судебной, он отправляется в другие публичные места, открываемые для всех с десяти часов, в каждый день недели поочередно: в Луврскую или в Люксембургскую галерею, в Библиотеку, на лекции известных профессоров. Нужды нет, что он всё это видел, что ему нет никакой охоты брать уроки. Он знает, что здесь встретит много людей, заметит различные физиономии, услышит много разных речей, каламбуров, анекдотов, новостей. Всё это дает пищу его размышлению и обогащает запасом для рассказов. Сверх того, везде есть тьма людей невинных, провинциалов, или и вовсе иностранцев, жаждущих просвещения; он предложит им свои услуги, поделится с ними всем, что сам знает и чего даже не знает, будет для нас самым радушным, самым поучительным чичероне. В двенадцать часов – завтрак в кофейном доме, и потом десерт из нечитанных журналов, преимущественно литературных. К двум часам – новое путешествие: или в Бурбонский дворец (Palais Bourbon)[40], послушать шумных прений депутатов, полюбоваться громозвучной речью Одильона Барро[41], запальчивым криком Сальверта[42], грубыми сарказмами Арраго[43], насладиться замешательством Персиля[44] и проклясть холодную, непоколебимую твердость Гизо; или в Ботанический сад (Jardin des Plantes), потолкаться у решеток зверинца, взглянуть еще раз на прогуливающегося жирафа, подразнить русского медведя, выкидывающего разные штуки на дереве; или в Биржу, посмотреть на прилив и отлив курса, на ломку и трескотню волнующихся капиталов, на весь этот гигантский банк, где миллионы лопаются, как ракеты; или наконец, если в душе нет потребности сильных движений, если для разнообразия хочется ей тишины, уединения, чего-то буколически-идиллического, то в Тюльерийский сад, который к тому времени наполняется самыми прелестными картинами семейного счастья, бесчисленной толпой детей, окруженных нянюшками и мамушками, вооруженных веревочкою, мячом, воланом, обручиком – всеми этими забавами резвого, невинного возраста.
В этом последнем случае, наш герой имеет еще ту выгоду, что избавляет себя от труда спешить сюда же к четырем часам, что необходимо; ибо в это время в Тюльерийский сад сбирается высшее общество, beau monde Парижа. Решетки у въезда улицы Риволи загромождаются блестящими экипажами; аллеи и террасы пестреют всею роскошною весной новых мод. Летом, конечно, лучшие цветы парижского общества уносятся за город, и там распускаются на чистом воздухе, под тенью Булонского леса; но для Тюльери всё еще остается довольно! Здесь постоянный приют фашионабля[45], у которого не хватает на тальбюри[46], амазонки, которой жестокая судьба отказала в верховой лошади; сюда стекаются пешеходный дендизм и кокетство в наемной карете.
Неизвестный художник.
Вид Тюильри с высоты птичьего полета, 1848 г.
К пяти часам сад нередко разнообразится другою, менее шумною, но зато более величественною картиною, которой суровая важность отливает весьма резко на этом живом, пестром, блестящем грунте. Депутаты, окончив заседание, по большей части заходят сюда продолжить свои прения, излить негодование, сорвать сердце, приготовиться движением к спокойствию, так необходимому для обеда. Наш герой преследует их любопытными взорами, вслушивается в их речи, угадывает по лицам волнующие их мысли, делает соображения, и потом – сам идет кушать!
Я не буду описывать его обеда, в котором он следует свободному выбору желудка, или предается самовластию ресторационной программы, смотря по обстоятельствам. После обеда он отдыхает за карикатурными журналами, так способствующими пищеварению, или с внимательным участием наблюдает за партией домино, шахмат, если, разумеется, сам не играет. Всё это неприметно доводит его до часа спектаклей. Тут он может выбирать, что ему угодно. В Париже столько театров, и каждый из них имеет свой особый род зрелищ, эффектов, впечатлений. Хочет он понежить слух классической мелодией Расина[47], перенестись мечтами в прошедшее, видеть спектакль осьмнадцатого века во всей его пышности, на фижмах и в париках, с косами и с мушками? Он идет во Французский театр[48]. Хочет ужасов, крови, прелюбодеяний, убийств, кровосмешений, зажигательств, всей этой мрачной фантасмагории девятнадцатого века? Отправляется к Воротам Сен-Мартенским или в Амбигю-Комик[49]. Хочет посмеяться от души, послушать острых куплетцев и эпиграмм, похлопать язвительному намеку на события прошедшего утра, посмотреть фарсов и гримас? На это есть Водевиль[50], Варьете[51], Пале-Рояльский театрик[52]. Наконец, если люди ему надоели, и он жаждет зрелища безмолвного и бесстрастного, но тем не менее ослепительного, великолепного, он может идти в Олимпийский цирк[53], к Франкони, где актеры о четырех ногах, с гривами и хвостами. Коротко сказать, в театрах Парижа он находит каждый вечер всё, что нужно для предохранения себя от скуки, для занятия. Разумеется, если погода хороша, и он предпочитает свежий воздух духоте театра, он может остаться в Тюльерийском саду, где гремит музыка, или отправиться в Тиволи[54], слушать болтовню арлекинов, смотреть великолепный фейерверк. Я не говорю уже о других мелких зрелищах: диорамах, косморамах, георамах[55] и других бесчисленных «рамах», которыми наполнены все углы Парижа.
Но спектакль не есть еще окончательный подвиг, за которым следует успокоение. Возвращаясь домой, он заходит еще в Пале-Рояль, посмотреть на бьющий фонтан, прислушаться к речам, а пуще всего прочесть вечерние газеты… Так проходит целый день поэта-парижанина; на другой то же повторяется, но с разнообразием, с периодическою последовательностью занятий. Парижа достанет не на одну, на две недели, чтобы пройти рундом по всем его любопытным местам, а две недели не шутка! Сверх того, журналы, насущная пища зевак, неистощимы в новостях; они выдумывают их в случае недостатка. И потому парижский зевака всегда имеет занятие, предмет для мысли, для рассказа, для спора (если запальчив); всегда весел, и никогда не скучает!
Теперь, если по этой совершенно пустой и между тем всегда наполненной жизни, определить, в чем состоит основная стихия парижского быта, что служит воздухом и питанием для всей этой огромной, разнообразной массы, живущей на улицах, спящей только дома, не знающей семейных наслаждений, не дорожащей гражданскими обязанностями, жадной к рассеянию и забавам, суетной, живой, легкомысленной, праздной, но не бездейственной, не бесчувственной, не поглощенной одними физическими потребностями, чуждой немецкой флегмы, английского сплина, голландской расчетливости, итальянского безмыслия, славянской беспечности, испанского фанатизма; смело можно отвечать: «Газеты, газеты и газеты!».
Отнимите эту кипу листов, выходящих ежедневно в Париже, рабочее народонаселение его не будет иметь над чем отдохнуть, зеваки – чем заняться. Парижанин без газет не сумеет распорядиться своим днем, не знает, куда пойти, на что посмотреть, во что одеться, о чем поговорить, где даже позавтракать и пообедать; без газет он умрет в антракте великолепнейшего спектакля, его желудок не сварит самого вкусного блюда. В Риме народ требовал: «Хлеба и зрелищ!». В Париже общая потребность, общая нужда, общий крик: «Хлеба и газет!». Какое житье ресторантам и журналистам!
Всем известно, что Франция существует в Париже, что Париж есть голова, которою мыслит, сердце, которым чувствует Франция. Но отчего это? Одно титло столицы не может дать такой важности городу: столица есть в каждом государстве Европы, но нигде она не поглощает в такой степени, как Париж, всей деятельности государства, всей жизни народа. Причина тому находится, во-первых, в тесном единстве всех частей, составляющих Францию, во-вторых, в исключительной единственности Парижа как столичного города Франции. В Германии и Италии, разделенных на множество независимых государств, разумеется, не может быть одного центрального города, который бы сосредоточивал в себе все богатства германской и итальянской народности. Британские острова в политическом смысле составляют одно государство; но это государство слагается из трех соединенных королевств, а каждое из этих королевств имеет свою особую народность, свои нравы и обычаи, свой язык, свои предания, свою столицу.
Конечно, ни Эдинбург, ни Дублин не могут идти ни в какое сравнение с Лондоном по обширности и богатству, силе и политическому значению, но это не мешает Эдинбургу и Дублину быть средоточиями шотландской и ирландской народности, не мешает им состязаться с Лондоном в самобытном развитии мысли, в самобытной философии и литературе, где особенно Эдинбург с давних времен играет роль важную, блестящую. Я не говорю уже об огромных колониях Британии в Азии и Америке, где отношения к митрополии, вследствие такого ужасного расстояния, такой резкой разности во всех условиях жизни, натурально должны быть очень слабы, куда физически не может достигать пример и влияние столицы.
Но во Франции совсем другое дело. Нынешняя Франция есть целое самое плотное и связное, самое однодушное и однообразное. Все провинциальные различия, остававшиеся в ней от Средних веков, теперь сглажены, уничтожены; если в некоторых уголках существуют еще остатки отдельных племен, сохраняющих свою самобытную народность, эти остатки так малочисленны в сравнении с общею массою, так ничтожны умственной жизнью и так давно отучены от политической независимости, что их и не приметишь в целой Франции. И в этой-то однородной массе, уже несколько веков говорящей одним языком, имеющей одни идеи и потребности, одни предания и верования, одну умственную, нравственную и художественную жизнь, в этой, говорю, массе только один город имеет все права и преимущества столицы, только один город возвышается колоссально над всеми и огромностью народонаселения, и сосредоточением всех нитей правительства, и совмещением всех способов к образованию, всех побуждений и средств к развитию жизни. Самое географическое положение Парижа удивительно как способствует к его центральному влиянию: он находится не на краю Франции, а почти в ее средине; тридцать миллионов французов рассеяны вокруг него, и никакие физические преграды, ни горы, ни степи, не затрудняют сношений их с ним по радиусу, которого самая большая длина не простирается и на тысячу верст. Вот почему Франция вся в Париже, вот почему Париж всё для Франции!
Не только в политических переворотах, но и во всех отраслях жизни, в науках, в художествах, в литературе, в промышленности, даже в наречии и выговоре, даже в покрое платья и прическе волос, Париж имеет безусловный авторитет для Франции, дает законы, которые везде исполняются беспрекословно и безропотно. Всё, что может располагать средствами или чувствует призвание, всё, что имеет полный карман или полную голову, спешит в Париж растрясти первый и пустить в ход последнюю. Провинциальные города, между которыми есть много и больших, и богатых, и образованных, каковы, например, Бордо, Лион, Тулуза, Марсель, несмотря на превосходство местоположения, здоровье климата, живопись окрестностей, все они считаются ссылкою, пустынею, Сибирью! Французы, обязанные жить в них недостатком средств или делами службы, обращаются к Парижу, как магометане к Мекке.
Я помню, что в Бельфоре встретил я молодого врача, которого всё наслаждение состоит в том, чтобы всякую свободную минуту приходить в гостиницу, где останавливаются дилижансы, и освежать себя разговором с путешественниками, едущими из Парижа. Наше знакомство с ним продолжалось только полчаса, но в эти полчаса мы, пассажиры дилижанса, несмотря на то, что все были чужестранцы (один англичанин, двое немцев, двое швейцарцев, и я русский), сделались поверенными всего негодования его на провинциальную жизнь и всего энтузиазма к Парижу, выраженного с задушевным красноречием. «Что мы здесь? – говорил он, стуча по столу. – Китайские тени фонаря, который движется в Париж!». И однако молодой человек родом не из Парижа, следовательно, не мог получить к нему привычки; да и Бельфор городок прекрасный, с отличным обществом из офицеров, занимающих крепость, городок почти швейцарский, перед лицом Юры, не больше, как в трехстах верстах от Парижа, следовательно, не какой-нибудь наш Устьсысольск или Стерлитамак. Это было не личное чувство, вынужденное особыми обстоятельствами, но выражение общего народного сознания, что Париж есть средоточие Франции, что Париж есть вся Франция!
И действительно, в Париже сосредоточено всё, чем живет, чем дышит эта нация, считающая себя законодательницей просвещения, образованности, вкуса. Возьмем, например, ее литературу, так славную, так громкую, так соблазнительную своим примером, так ужасную своим могуществом! Литература французская вся в Париже; там ее горнило; там все ее корифеи, наполняющие мир шумом своих имен. Нигде провинциальность не находится в такой решительной несовместности с репутацией, с авторитетом, со славою, как во Франции. Вне Парижа нет достоинства, нет таланта, нет литературы! И вот почему вся французская словесность есть выражение не Франции, а Парижа, не народа, а столицы. Что некогда Буало предписывал в своей «Науке стихотворства» как необходимое правило поэтам:
- Connaissez la cour, etudiez la ville![56]
- Знакомьтесь с двором и изучайте город!
– то самое исполняется и ныне в буквальном смысле французскими литераторами, только вместо «сопг» надо поставить «гпе», вместо «двора» – «улицу, площадь». Тот же шум, та же бурная, кипящая деятельность, та же ослепительная пестрота, то же суетливое, неугомонное движение, которое поражает вас в Париже, господствует и в литературе французской. Красоты природы, описываемые поэтами, сняты с окрестностей Парижа, изучены в ландшафтах Со, Медона,
Сюреня[57]; жизнь в частных своих сценах носит яркую печать парижских предместий, в общей панораме блестит яркой пестротой Пале-Рояля. Само собою разумеется, что личная разность писателей, рожденных в различных частях Франции, под влиянием разных климатов, под внушением разных преданий, не может не отражаться и в их произведениях; вы узнаете в Шатобриане суровое величие Арморики[58], в Бальзаке цветистую роскошь Турени[59], в Дюма сладострастный зной французского Юга. Но все эти различия подводятся под общий уровень парижского сгиба мысли, парижского образа изложения, парижской риторики и диалектики, всё отпечатлевает более или менее общий тип Парижа!
Итак, французскую литературу надо изучать в Париже. Но в Париже, как я уже имел случай заметить, вся разнообразная игра, весь смутный шум жизни покрывается одной главной потребностью, выражает одно господствующее направление, направление к жизни общественной, гласной, публичной, к политике! Как из всех криков, оглушающих парижские улицы, выливается один громче всех, крик разносчиков, продающих афиши; как во всех задушевных разговорах, образующихся между поэтами парижской жизни, в их прогулках на бульварах, в саду, в театре, в кофейном доме, на выставке, главный предмет составляет 1’ordre du jour[60], сегодняшний вопрос палат, сегодняшняя новость журналов; так и в литературе, которая есть печатное выражение общего мнения, общего разговора, общего движения, просвечивают более или менее, но всегда неизбежно и неотвратимо, политические идеи и страсти!
Литература французская не имеет той отрешенной самостоятельности, какой требуют от нее немецкие ученые. Она не есть плод безусловного, бессознательного и бесцельного вдохновения, не есть чистое излияние души, сосредоточенной в одной себе, переполненной одной собою. Это был всегдашний ее характер, отличавший ее от всех прочих европейских литератур, характер, которому она и теперь остается верною, которого может быть никогда и не утратит, вследствие национального духа французов. Что ни говорят о литературном космополитизме наши подражатели французам, события противоречат им безжалостно; французская словесность есть и была всегда в высшей степени народною, проникнутою характером Франции, или лучше – Парижа. Французы не могут жить вне жизни общественной; это отличает их от немцев и итальянцев, из которых первые живут в себе, последние в прекрасной природе своей благословенной родины. В этом отношении они имеют некоторое сходство с англичанами, с тою, однако важною разницей, что англичанин больше движется вкруг материальных интересов общественной жизни, двигается осторожно и медленно, тогда как француз, со свойственным ему легкомыслием и суетностью, играет идеями этой жизни, тормошит ее в своих основаниях. Отсюда происходит и различие литератур этих народов, председательствующих в ареопаге Европы.
Литература итальянская есть прекрасный цветок, вырастающий под прекрасным небом Авзонии, среди нежных, детских лобзаний с прекрасною природою Юга; она рассыпается цветочною пылью конфетти, блестящей всей радужной пестротой воображения, напитанной всем роскошным сладострастием чувственности. Литература немецкая стелется седым туманом в атмосфере самоисследования, самосозерцания; она мечтает и умствует; рядит идеи в образы, дает смысл бреду. Эти две литературы очевидно противоположны друг другу, но с тем вместе имеют то важное сходство, что обе равно независимы, равно самобытны, не признают цели вне себя, не определяются механизмом жизни. Оттого политика с ними не вяжется, и если, в позднейшие времена, это чужое начало заносилось в них соседними бурями, оно производило болезненные явления, литературные припадки: в Италии крики бешенства, в Германии помешательство, сумасбродства. Литература английская гораздо зависимее: она вся состоит под властью действительности; она есть зеркало жизни. Этот характер она выразила давно с таким блеском в своем великом Шекспире. Канцлер Бэкон[61], отец английской философии, высказал то же самое, когда, рассуждая вообще об умственной жизни, смеялся над бесполезным круженьем жаворонка в воздухе и отдавал преимущество полету сокола, который плавает в высоте для того, чтоб легче заметить и вернее пасть на добычу.
Литература английская действительно подражает этой соколиной зоркости и меткости: она теребит жизнь, над которою носится; она не дает ни одного круга даром, всё с целью, всё с пользою, всё с более или менее близким приложением. Оттого политика в Англии имеет непосредственную связь с литературою. Но это политика материальная, практическая, торговая, политика фактов без идей, с одной выкладкой непосредственных барышей, с одними расчетами процентов; оттого и литература английская, принимая политический цвет, отзывается желчью памфлета, скаредностью наемного пасквиля.
Не то, совсем не то во Франции, хотя и здесь литература также в рабстве, также есть эхо действительности, выражение жизни. Англичанин любит, чтоб было ему тепло на свете, чтобы жизнь покорялась его прихотям, чтобы общество доставляло ему то, что он называет comfortable, в чем состоит идеал его блаженства; если обстоятельства идут напротив, он приходит в бешенство или предается мрачному сплину, клянет свет, ожесточается против жизни, плюет в глаза обществу.
Напротив, француз, ветреный и легкомысленный, но с тем вместе пылкий и живой, предается всем сердцем, всей душой, всем бытием не факту, а идее, выражаемой этим фактом, хлопочет не о цели, а о начале, живет не в расчетах, а в софизмах. Он есть добровольный мученик жизни, мученик света, мученик общества. Ему неважно, чем кончатся для него самого мечты, которые он проповедует, химеры, за которые он ратует; он готов спорить и драться с самим собой, лишь бы иметь минуту торжества; готов оторвать у себя одну руку, чтобы сделать другою красноречивый, эффектный жест, которому бы захлопали зрители.
Таков всегдашний характер французской общественной жизни; такова и французская литература. Политический цвет ее состоит не столько в памфлетизме на текущие события, сколько в извлечении из этих событий самых крайних начал, самых отъемных идей, самых сумасбродных утопий. И вот почему, несмотря на явную противоположность, она братается с немецкою литературою, которая также ищет начал, живет общностями, разрешается в химеры. Только это братство никогда состояться не может, оттого что немец гнездится в неприступных высотах чистого умозрения, тогда как француз кружится в сфере явлений, от которых оторваться не может.
Если продолжить аллегорию Бэкона, то, оставив за английской литературой символ сокола, я бы назвал итальянскую резвым жаворонком, немецкую выспренним орлом, французскую легкой, суетливой ласточкой, которая беспрестанно улетает и прилетает, вестницей разных перемен года; часто, увлеченная слишком раннею мечтой о весне, она попадает на зиму, от которой и замерзает, упорствуя в своей мечте; и горе тому, кто, понадеясь на ее вероломный извет, сбросит с себя зимнее платье: басня о «моте и ласточке», забавлявшая нас в детстве, имеет здесь глубокое, философское значение.
Но я слишком далеко увлекся, я хочу говорить о современном состоянии французской литературы, которой горнило в Париже. Так как отличительный характер ее состоит в зависимости от жизни, в рабстве политике, то естественно следует, что она должна выражать в себе всё разнообразие, всю вражду политических стихий, волнующих Францию. И действительно, французская литература представляет все партии французского общества, со всеми их мельчайшими оттенками, дробностями, котериями[62]. Конечно, и везде литература, которую напрасно величают мирною обителью Муз, раздирается междоусобиями партий, но во Франции литературные партии происходят не из зависти литераторов, не из куска хлеба, отбиваемого друг у друга служителями Аполлона. Нет! Они ведут свое начало из раздробления общественного духа, из междоусобий общественного мнения.
Оттого и распри их выражаются не как в иных прочих литературах: не желчною, злостною полемикой, которая кидается змеей на ненавистного противника, жалит его правдою и неправдою, с тем чтоб, если не задушить, так по крайней мере обезобразить его славу, и тем удовлетворить своей личной злобе, равно и не рыночными, торгашными проделками, перебивающими покупщиков на свой товар, в свою лавку. Литературные партии во Франции идут каждая к своей цели, развивая свои идеи каждая в своей форме; их различие выражается больше догматически, чем полемически. Схватки завязываются только на литературных аванпостах, между журнальными наездниками, но и здесь не для мародерства по карманам читателей, не для того, чтоб отбить от чужой книги и переманить к своей, а чтоб потревожить мысль, пощекотать систему, уязвить партию, к которой принадлежит книга.
Конечно, самое положение французской литературы относительно публики таково, что нет нужды прибегать к подобным дрязгам. Книгу там нельзя уронить бранью: если ругает ее одна партия, то это самое верное ручательство ее достоинства для публики противоположного мнения. Только тогда книга убита, когда все единогласно называют ее пошлою, а это бывает, когда она действительно пошла; ибо при малейшей тени достоинства партия, к которой принадлежит книга, не замедлит поддержать ее всеми силами, чтоб не выдать своих идей, своего учения. Итак, партии французской литературы, происходя не из мелких личных страстей, а из борьбы мнений, имеют высшее значение, чем обыкновенные литературные сплетни; они находятся в войне правильной, методической, постоянной; каждая из них считает в рядах своих большее или меньшее количество признанных талантов; каждая имеет свой круг читателей, свои журналы, своих даже книгопродавцев; каждая образует плотную, сильную массу.
Конечно, везде не без греха; где есть люди, там есть и страстишки, эгоизм, корысть, зависть; и во Франции бывают дезертиры, которые, смотря по ветру, перебегают из рядов в ряды, перечинивают свое перо и перепродают свои таланты, но таких переметчиков неумолимо казнит общее мнение. Разве, когда вся партия вследствие политических переворотов изменяет маневры, перекрашивает знамена, становится в другую позицию, тогда натурально следует раздробление: одни переходят, другие остаются на старом посте, третьи образуют новую фалангу. Тогда, если употребить любимое выражение Наполеона, переделывается литературная карта Франции. Но как скоро всё установится, идеи очистятся, формулы уяснятся, вы увидите опять те же массы, те же враждебные колонны, стоящие друг против друга и выражающие своим разделением политическое состояние общественного мнения.