Золотое подполье. Полная энциклопедия рок-самиздата. 1967-1994 бесплатное чтение
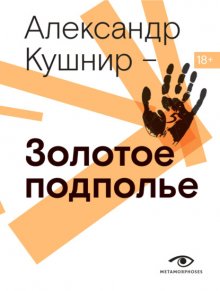
© Кушнир А. И., 1994
© Издание. Оформление. ООО «Издательство «Омега-Л», 2025
Составление энциклопедии рока является, несомненно, крайне глупым предприятием.
Ник Логан, Боб Уоффинден
Культура совершилась и требует энциклопедизации.
Андрей Вознесенский
Неоценимая помощь:
С. Бабенко, А. Гильдебрандт, А. Сипявская, М. Чеснокова, О. Шишкина, О. Шляхтина.
Стоицизм, долготерпение и виртуально-техническая поддержка:
Всеволод Гродский & Денис Кирьенин («Public Totem Ltd.»).
Много светлого и полезного для издания сделали также:
В. Андреев, Аня (г. Соль-Илецк), Е. Ардабатская, бабушка, О. Барабошкина, Н. Баранова, О. Барбаков, B. Батуев, А. Беликов, Т. Бирчинов, Г. Блинчук, А. Богданович, А. Бурлака, А. Вернерова, П. Вильямс, Н. Винник, К. Волков, С. Гапоненко, В. Гойденко, И. Голубенко, Ю. Гурьев, А. Данилов, Джулиан, А. Дмитриева, Т. Долбинина, Я. Г. Дубенко, Е. Дьяконова, В. Елбаев, С. Ельчанинова, А. Жаринов, М. Зуйков, В. Иванов, О. Каминская, Д. Карасюк, А. Касьян, Е. Киселев, О. Коврига, С. Коротков, К. Костин, С. Кошеверов, К. Кривова, И. Кричевский, С. Крюков, Л. Кузьминова, А. Кузнецов, А. Кутинов, М. Левнер, С. Леготин, Ю. Лысых, Е. Матусов, А. Мезенцев, Ф. Минлос, Г. Моисеенко, В. Мурзин, В. Наумов, М. Немиров, М. Немцов, И. Осадчая, О. Осетров, А. Осина, М. Осина, Г. Пилипенко, C. Попович, Г. Рамазашвили, М. Ромм, В. Рудницкий, А. Семенова, А. Сенин, С. Сериков, С. Симонов, С. Скворцов, Б. Слива-Штайн, В. Соседкин, Д. Стэнфорд, В. Тихомиров, А. Тищенко, К. Томас, С. Трофимова, А. Турусинов, Р. Тухватулин, С. Фоменко, Р. Цапина, С. Чернов, Ю. Чернокошкина, И. Чикунова, В. Щеголев, М. Шишков, Н. Шульгина.
Авторский коллектив благодарит редакторов и других представителей изданий, включенных в энциклопедию рок-самиздата, за предоставленную информацию.
Пограничные столбы рок-самиздата (опыт описания описания)
Мифы – души наших поступков и наших страстей. Действовать мы способны не иначе, как устремляясь к некоему призраку. Любить мы умеем лишь то, что творим.
Поль Валери
Сергей Гурьев
Смысл данной книги на первый взгляд не вполне очевиден. Современный обыватель, быть может, и готов смириться с переводом леса на труды по истории искусствознания или литературной критики, но «должны же быть какие-то границы». Отечественный рок-самиздат все-таки не уходит корнями в глубину веков и существует всего лишь немногим более четверти века, а по большому счету – и того меньше.
Парадокс заключается в том, что сейчас, когда весь русский рок находится в стадии известного упадка и вырождения, рок-самиздат, напротив, спокойно продолжает плодиться и развиваться. Фразы типа «интерес к рок-музыке в нашей стране заметно упал» здесь по определению не попадают в цель – потому что цель отсутствует. Рок-самиздат уже по законам жанра не рассчитан на серьезный общественный интерес, что обусловлено средним тиражом изданий «от пяти до пятидесяти». Смертоносная для «неподкупных художников» проблема коммерческого спроса на продукцию здесь не существует: выпуск подобного рода журналов имеет чуть ли не единственный смысл – самовыражение.
Как в свое время абсолютно справедливо утверждал журнал «Юность», «самиздат – это когда человек садится за пишущую машинку, не особенно раздумывая, КОМУ ЭТО ВСЕ НУЖНО, когда у него не существует никаких внешних обязательств перед окружающим миром, перед редактором или читателем, есть только внутренняя потребность, внутренние обязательства, внутреннее ожидание от своего творческого процесса. Когда он пишет не ЗАЧЕМ, а ПОЧЕМУ».
В этом смысле рок-самиздат оказался своего рода экстрактом самиздата в целом, той его областью, в которой наиболее интенсивно развернулись спонтанные эксперименты с языком и журнальной формой. В отличие, например, от политсамиздата, понятие свободы приобрело здесь чисто стилистический смысл. Фанатики – меломаны брежневских времен видели в гитарных пируэтах королей рок-н-ролла некий творческий абсолют, максимально удаленный от вездесущих идеологических клише эпохи. Напрашивался лозунг «Ударим Блэкмором по Шолохову». Околомузыкальный сленг и приемы разговорной речи успешно ложились в основу языка рок-журналистики, альтернативного помпезному академизму официозной прессы.
С течением времени рок-самиздат приобрел необратимо массовый характер, и ныне почти во всех крупных городах России и сопредельных стран бывшего ЗБ возникли свои региональные издания. Собственно рок-н-ролл все чаще превращается в только лишь повод для создания очередного журнального артефакта, имеющего к отправной точке весьма свободное отношение. Музыкальный андерграунд создает локально-своеобразное жизненное пространство со своими законами, и наиболее интересные журналы сейчас анализируют скорее жизнь в этом пространстве, чем непосредственно музыку. Тем более что последняя, как отмечалось выше, дает все меньше поводов для серьезного анализа.
Рок-самиздат, наконец, можно рассмотреть как своеобразную форму молодежно-индустриального фольклора эпохи массовых коммуникаций. Сама форма журнала здесь теряет функциональный смысл и приобретает жанровый характер. Из всех видов массмедиа – радио, телевидение, пресса – последняя лучше всего поддается домашнему моделированию. А современное подсознание гораздо плотнее забито кодами имиджей «Ровесника» и «Плейбоя», нежели хохломой или вологодскими кружевами.
Отсюда – внешне неожиданное стремление выразить себя не в сочинении «народных песен», а через журнал, связанный с рок-музыкой как «исконно молодежной» формой творчества. Стихийная компетентность здесь определяет тематику, которая, в свою очередь, предполагает свободное до фамильярности обращение с материалом. Так самораскручивающийся механизм «рок-издания» оказывается закольцован и запущен. Далее он может затянуть в свои пределы, перемолоть и выплюнуть любые социокультурные имиджи – от даосов до Кастанеды.
«Все это – рок-н-ролл».
Основной несформулированный принцип рок-самиздата, таким образом, произвол андеграундного сознания. Опьяненный сумасшедшим драйвом своих кумиров маргинал, взявшись за перо, превращается в миниатюрный трансформатор реальности. Банальный тезис о том, что язык – мощный инструмент социальной власти, сужаясь пропорционально камерности тиражей, начинает предполагать власть криптосоциальную. Ее обычный диапазон – от узкого круга друзей («карнавальных апостолов») до рок-общины русского провинциального города.
Опорные фигуры, задающие систему координат в таких изданиях, могут быть как общественно значимыми (Джон Леннон, Фрэнк Заппа), так и субкультурно-эзотерическими (локальные культовые тусовщики). Причем последние нередко оказываются предпочтительнее, так как формируют присущую рок-самиздату «масонскую» атмосферу, уютную для ориентации посвященных и изобилующую «слепыми» символами для внеположных.
Древние греки обозначали ситуацию, создающую препятствия для понимания, словом atopon – т. е. «лишенное места» в схеме наших ожиданий. В случае с рок-самиздатом atopon предполагает обманутые ожидания от текста. Именно такой реакции можно ждать от непосвященного читателя, случайно нарвавшегося на пестрый спектр музсамиздатовских эссе. Он по большей части не сможет «прочесть» цепочку опознавательных фетишей и понять смысл канона каждого отдельного издания, вне контекста которого «темнеет» извлеченная оттуда статья. Никакие комментарии и сноски не спасут новоявленного референта от горькой необходимости созерцать приводимые артефакты сквозь густой частокол пограничных столбов рок-самиздата.
Но тот, кто сможет пересечь эту границу, совершит увлекательнейшее путешествие в вербальный мир по ту сторону ответственности, исчезающей в царстве микроскопических тиражей. В этом заповеднике можно отслеживать самые невероятные миазмы мысли, слова и провоцируемого действия: «закон джунглей» и иезуитский кодекс чести здесь нередко соприкасаются полюсами.
Рок-самиздат – своего рода архипелаг необитаемых островов, где выброшенные на берег журналисты могут обустраивать жизнь по своему усмотрению, вне поля зрения всевидящего ока «власти взрослых». Необитаемые острова вошли в историю человечества двумя полярными методами решения проблемы: «Робинзон Крузо» Дефо и «Повелитель мух» Голдинга. Независимая рок-пресса прекрасно овладела обоими.
Робинзоны рок-журналистики преуспели в создании конструктивно-аналитических путеводителей по сложной паутине мирового музиндепендента. Аналоги героев Голдинга сбиваются в волчьи стаи разрушителей психосоциальных мельниц. Грань между Дон Кихотом и Плюмбумом в последнем случае оказывается размыта до основания.
Вытекающий отсюда и упоминавшийся выше морально-эстетический беспредел требует развернутого философского комментария.
В эпоху субкультурной революции конца 60-х годов в кругах неоавангардистов широко использовался термин «мифопластика». Он как бы метафорически обозначал право художника на неограниченную свободу в лепке собственных мифов, на отказ от всех традиционных устоев искусства ради неистового, экстатического выражения чувств и ощущений личности. Рок-самиздат, сделавший из журнала художественный жанр, фактически вывел мифопластику за пределы искусства в сферу формы (но только формы!) культурной информации.
Другими словами, в рок-самиздате осуществилась самая, пожалуй, сокровенная мечта знаменитого основателя герменевтики Г. Г. Гадамера. Общеизвестно, что вся философская ситуация нашего столетия восходит в конечном счете к критике понятия сознания. Утверждая вслед за Хайдеггером, что понимание смысла артефакта неизбежно выходит за рамки субъективного замысла автора, Гадамер говорил: «История так устроена, что прокладывает себе путь вовне, за пределы знания отдельных лиц о самих себе. То же самое относится к опыту искусства. Было бы прекрасно применить эту мысль к сфере интерпретации текстов, но, увы, их смысловое содержание не допускает той неопределенности в истолковании, какая возможна с артефактами».
Разрушив жанровые рамки между искусством и текстом в понимании Гадамера, рок-самиздат возвысил и одновременно низвел язык информации до адекватного (с точки зрения современной философии) состояния. Набор фактов и умозаключений как бы перестает быть собой и превращается в полуабстрактный рисунок мысли, рассчитанный на дальнейшую интеллектуально-игровую орнаментализацию. Одновременно работает и принцип «а глупый пусть примет за чистую монету». Именно так примерно выглядит самый, может быть, самобытный жанр рок-самиздата – т. н. «телега», внебрачная дочь бессвязных нарко-хиппистских монологов.
Характеризуя этот жанр, крупнейший его мастер Александр Серьга пишет: «Что значит „толкать телегу“? Это когда человек в устной или письменной форме высказывает какие-либо мысли, идеи, теории, причем он говорит не всерьез, а из спортивного, так сказать, интереса. Некоторые телеги годятся в основу солидной диссертации, в иных „опять изобретается велосипед", в прочих совершенный вздор, но для автора это неважно. Он не примеряется к традиционным нормам научности или философской истины – он знает, что к настоящему качеству ума они отношения не имеют… Телега – жанр мертворожденных, серийных образцов. Это – к лучшему. Вся современная литература (художественная, научно-философская, публицистическая) – большой постскриптум. Что нужно, было написано до нее. Точнее, была надежда, что пишут то, что нужно, а сейчас очевидно, что нет… Самое достойное в сложившейся ситуации – давать, не мудрствуя, справочную информацию и „толкать телеги“».
Разумеется, «неформальная рок-журналистика» редко дифференцировала последние два понятия, активно используя метод «тележной информации». Русское общество также не желало фетишизировать силуэт реальности, и с воцарением свободы печати вышеозначенный провокативный ход оказался успешно опошлен типографской желтой прессой. Массовый тираж без труда просчитал количество шагов между элитарным эстетическим приемом и безответственным пустозвонством.
Как сказал бы Джим Моррисон, «дети несчастий смешались со стаями бродячего зверья».
Мифотворческий произвол, однако, нельзя считать преобладающим в рок-самиздате явлением. Журналы подобного плана (свердловское «Палевой, столичные «Сморчок» и «Связь времен» etc.) – это как бы пики, вырастающие над средней массой конструктивно-аналитических (да и просто графоманских) изданий. Но сам принцип рок-самиздатовского творчества создает пространство для подобной реализации потенциала, где возможное часто оказывается существеннее реального.
Тот же Гадамер неоднократно отмечал, что напряженная жизнь языка протекает под знаком антагонизма между конвенциональностью и тенденцией к революционным переменам. Граница между взаимоисключающими формами понимания своих задач нередко проходит через отдельный журнал, что делает крайне интересным отслеживание судьбы издания и его отдельных участников. Поэтому в статьях энциклопедической части книги немалый интерес представляет жизненная драматургия участников процесса, история их микроиздательских побед и поражений – последние запросто могут вывести автора за борт истории.
Естественно, борьбе за чистоту творческого принципа на уровне подсознания конгруэнтна борьба за власть в криптосоциальной структуре. Language is an efficient tool of power, как говорила Ирина Сандомирская. Чем важнее стратегическое положение города, тем острее конфликты в его рок-общине. Закономерно, что наиболее драматичной в этом смысле оказалась судьба московского рок-самиздата, волны от взрывов внутри которого достигали Балтийского моря и Тихого океана. История крупнейших московских рок-журналов неразрывно связана с острейшей квазиполитической конфронтацией, осложнявшейся до 1988 года давлением и интригами со стороны КГБ.
Сами деятели рок-самиздата, конечно же, не осознавали, в какую зловещую игру с ними играют язык и контекст. В работе со сленгом и инвективной лексикой они обычно видели лишь путь к освобождению от очевидной власти официозного языка тоталитарного социума. «Свой маленький тоталитаризм» неизбежно терялся на таком могучем фоне.
«Искусство должно предпринять широкую атаку на язык средствами самого языка ради достижения полнейшего молчания», – писала Сьюзен Зонтаг в своей книге «Стили радикальной воли». Наследуя и здесь традиции неоавангардизма конца 60-х, деятели рок-самиздата довольно часто на излете творческого пути упирались в финал процитированной фразы. Экзистенциальный тупик обозначился, когда в качестве апофеоза духовного нонконформизма был зафиксирован суицид – что, в частности, привело к остановке одного из флагманов рок-самиздата журнала «Контр Культ Ур’а» в 1991 году. Дальнейшее развитие предмета статьи протекало под знаком известной деинтеллектуализации – что, впрочем, отнюдь не свело на нет мифотворческие тенденции.
Внешняя оболочка жизни – точно такой же миф. Однако он может столкнуться с контрмифом, и тогда на выходе просвечивает метафизический мрак, скрытый обычно павлиньим хвостом иллюзий.
«Подполье любит сумерки, и поэтому, когда туда заглядывает лучик света, всякая нечисть сразу расползается по углам», – утверждал Борис Гребенщиков. Добро бы так! Иногда она лезет на свет.
За всю свою недолгую историю подпольная рок-пресса последовательно оппонировала двум «верхним жителям» – советскому обществу (до 1987 года) и «дикому капитализму» (с 1990 года). В переходный период социальных иллюзий рок-самиздат, чувствуя себя на коне, пытается встать на рельсы легализации и профессионализации, но одновременно теряет свои патогномоничные жанровые признаки, оказываясь в арьергарде официальной демократической прессы.
Метафорически эта драма описывалась на удивление однообразно.
Несколько лет назад журнал «Декоративное искусство» сравнивал самиздат с Русалочкой, погибающей, превращаясь в розовую пену, при первых же лучах восходящего солнца. По-видимому, имелось в виду солнце перестройки, в свете которого теряют силу все запреты на свободу слова, коими, в принципе, и был вызван к жизни весь самиздат – в том числе и музыкальный. Но и сейчас, хотя солнце зациклилось и палит все жарче и жарче, в морской пучине продолжают плодиться новые и новые русалки, бегущие мафиозных миазмов неуклюжего российского капстроительства. В этом контексте традиционно неотрефлексированный радикализм провоцирует их на воинствующую духовность – порой даже несколько коричневатого оттенка.
Таков тернистый вектор современного утопического сознания. Следуя канонам лозунговой мифопластики, следовало бы завершить эту затянувшуюся интродукцию дуплетом шоковых тезисов: «свобода – мать фашизма» и «художник сегодня – это реакция». Но, перевернув несколько страниц, читатель увидит, мягко говоря, менее депрессивный портрет явления – и будет прав.
Ибо квинтэссенция смысла сам смысл никак не подменяет.
Из-под пресса времени
Александр Кушнир
Самиздатовская рок-пресса представляет собой одну из самых малоизученных форм существования рок-культуры в России. В течение почти трех десятилетий своей истории рок-самиздат накопил огромный багаж фактического материала, объем которого можно измерять томами. Примерно столько же места занимает информация, ранее считавшаяся недостоверной или утерянной. Погребенные под прессом времени бесчисленные документы уникальных образцов человеческой мысли печальным образом растворялись в пространстве. Данная работа по своей сути является лишь попыткой обобщения и систематизации зафиксированных нами изданий, которые сыграли определенную роль в истории отечественного рока и его развитии.
…По словам академика Лихачева, «самиздат существовал всегда». Любительская рок-пресса появилась в СССР практически сразу после возникновения на территории страны собственной рок-сцены. Следствием создания на Украине первых студенческих бит-групп явился выход в 1967 году в Харькове самодельного журнала «Бит-Эхо». Еще через несколько месяцев юный Артем Троицкий начинает выпускать в Праге общешкольный рок-бюллетень «New Dimond», включавший эксперименты в области коллажно-эротического дизайна.
Оба издания профункционировали сравнительно недолго. «Бит-Эхо» был задушен КГБ, а «New Dimond» автоматически прекратил существование после отъезда его редактора на советскую родину. Первый период существования рок-самиздата на этом можно считать завершенным.
Все последующее десятилетие обернулось для рок-прессы неправдоподобно глубокой паузой. Сегодня объяснить этот факт непросто – временной промежуток 1968–1977 годов так и остался белым пятном для исследователей рукописных рок-журналов[1]. На том этапе истории в «левой» идеологии господствовали хиппистская созерцательность, а сами музыканты на долгие годы завязли в рутине классического хард-рока. В подобных условиях эпицентр подпольной прессы находился в сферах литературного и политического самиздата. По стране сотнями копий распространялись в машинописи Оруэлл и Солженицын, постепенно возникали первые литжурналы («Вече», «Часы», «37»), и даже у джазистов в начале семидесятых появился собственный «профсоюзный орган» – «Квадрат».
Рок-самиздат возродился лишь в 1977 году. Произошло это там, где, скорее всего, и должно было произойти: в Ленинграде околоаквариумистская тусовка во главе с Гребенщиковым начинает издавать легендарный машинописный журнал «Рокси». Несмотря на тягу редакции ко всевозможным формам литературного анализа, это было первое советское издание, целиком ориентированное на субкультуру и отечественный рок. Опять-таки, «Рокси» был одним из первых, кто сразу же сделал принципиальный шаг от расплывчатых идеалов хиппизма к живительно-провокативной «новой волне» и торпедирующему общественное сознание панк-року.
…Вслед за локальными изданиями в Литве и Грузии любительская рок-пресса начинает выходить и в Москве. В отличие от «Рокси», появившийся в 1981 году первый столичный музсамиздат «Зеркало» поначалу никаких новых веяний не принес. В нем преимущественно печатались студенческие статьи, которые по тем или иным причинам нельзя было опубликовать в официальной прессе. Одним из немногих достоинств этого альманаха оказалось приобретение его редакцией бесценного опыта организационно-концертной деятельности в условиях пока еще неявной конфронтации с властями[2]. После того, как в конце 81-го года институтское начальство запрещает издание «Зеркала», журнал начинает выходить нелегально под новым названием «Ухо». Полученные в «Зеркале» необходимые литературно-редакторские навыки реализуются в «Ухе» на качественно новом уровне. Основной акцент теперь делается на последовательном освещении событий московско-ленинградской подпольной сцены, а идейный вектор журнала направляется в сторону еще толком не оформившегося в России панк-рока.
…Подобно «Бит-Эху» «Ухо» был раздавлен в конце 1983 года силами КГБ по всем правилам военного искусства. Наползавшую на страну черненковскую стагнацию отечественный рок-самиздат встретил, находясь в глубоком подполье.
Вслед за «Ухом» искусственным образом прекратила существование алма-атинская рок-газета «ЗГГА»; затем были задушены московские «Попс» и «Око», а также новосибирские «ИД» и «Стебель». В течение полутора лет фактически вся андеграундная рок-пресса оказалась разогнанной, уничтоженной или достаточно плотно опекаемой[3]. Тем не менее именно в подобной атмосфере «выжженной земли» в стране зародилась третья, и, как оказалось впоследствии, наиболее яркая генерация отечественного рок-самиздата.
Ориентированный на группы «национального рока» «Урлайт», культурологический «Сморчок» и рекламно-скандальный «Зомби» появились в Москве почти одновременно – в конспиративных условиях, которым могли бы позавидовать даже создатели «Искры». Первой полосой защиты служили камерные тиражи, уничтожение оригинал-макетов и распространение самих номеров при помощи фотоспособа: 36 страниц = 36 кадров на пленке. В наиболее тяжелый период «Зомби», к примеру, попросту выходил в единственном экземпляре, и в те времена это было по-человечески понятно и оправданно.
Помимо специфического тиражирования, в журналах применялась целая система неповторяющихся псевдонимов, обратные переводы с английского на русский («Урлайт»), пропущенные выпуски и умышленная путаница с нумерацией («Сморчок»), использование различных пишущих машинок («Зомби»). Вместе с тем, следуя традициям «Зеркала» и «Уха», создатели третьей волны самиздата продолжали организовывать квартирные концерты, продюсировать записи альбомов андеграундных рок-групп и т. д.
Приблизительно с осени 1986 года по всей стране наметились первые признаки потепления, и жесткий идеологический прессинг в отношении самиздата начинает постепенно ослабевать. Следствием этого процесса явилось массовое появление региональных рок-журналов, в основе концепции которых лежало ярко выраженное игровое начало. Многие из возникших изданий («ДВР», «СЭЛФ», «Тусовка», таллинский «Про рок») взамен сухого и насквозь пропитанного штампами языка официальной прессы принесли в журналистику самобытную жанровую эстетику – от иронично-вежливого или издевательски-глубокомысленного тона статей до тщательно выверенной глобальной мифологизации происходящих перемен. Еще одной отличительной чертой этих журналов стала тенденция быть несколько умнее и глубже, чем хотелось бы их усредненному читателю – восторженным фанам, музыкантам или просто тусовщикам.
…Несмотря на очередную, последнюю серию рокофобских репрессий (антисамиздатовские статьи весны – осени 1987 года, отмена ряда фестивалей), идеологи подпольной прессы вновь становятся в ряд основных катализаторов возникающего по всей стране мощного рок-клубовского движения.
Показательным моментом явилась кулуарная сторона V Ленинградского рок-фестиваля, на который съехалось рекордное по тем временам количество представителей андеграундной прессы и всевозможных рок-деятелей. Их повторный сбор осенью 1987 года в Свердловске ознаменовал собой создание т. н. «Рок-федерации», явившейся в дальнейшем подводной частью того айсберга, на вершине которого затем оказались «ведущие рок-группы страны». Одновременно Свердловск-87 символизировал зарождение мощных межрегиональных связей и появление реальной информационной инфраструктуры.
Пиком всего движения стали события Подольского и Черноголовского рок-фестивалей. В праведном порыве к «новым горизонтам свободы» самиздат в данный период пытается выйти на новые рубежи тиражирования и воспламенить своим боевым глаголом более обширную аудиторию. Прямым следствием запоздалого доступа к ксерокопировальной технике становится выход ряда изданий на отметку трехзначных тиражей. Вместе с тем все попытки «Зомби» и «УРлайта» выпустить в 1988–1989 годах свои очередные номера типографским способом завершились неудачей – в Москве и Таллине соответственно. В обоих случаях выход уже готовых журналов оказался сорван по причинам идеологического характера, а вся продукция пущена под нож.
Тем не менее именно в это время впервые на страницах солидной прессы начинается серьезное обсуждение самиздатовского феномена. «Литературное обозрение», «Вопросы философии», «Аврора», «Неделя», «Столица», «Юность» – вот неполный список тех изданий, которые в числе первых стали вести всевозможную полемику и дискуссии на данную тему. О русской неофициальной прессе начинают писать за рубежом – от известных рок-журналов («Rolling Stone», «Maximum Rock-n-Roll») до книг, посвященных специфике самиздатовского дизайна[4].
На границе десятилетий отечественная рок-пресса естественным образом разделилась на две группы: ориентированные на массовые вкусы официальные рок-издания и оставшиеся в осознанном андеграунде журналы, несущие в себе глубокий Контр Культурный импульс. Последние, в свою очередь, либо вышли на офсетный и ротапринтный способы тиражирования («Ура Бум-Бум!», «Окорок», «Охота», «ОРЗ», «Мицар»), либо, исчерпав все свои идеи, в течение двух последующих лет прекратили существование («Контр Культ Ур’а», «Шумелаъ Мышь». «Палево», «ДВР»). Представители этих журналов провели в декабре 1991 года первый съезд самиздатовской и независимой рок-прессы, состоявшийся в Вятке.
Заключительный период 1992–1994 годов оказался характерен для бывших подпольщиков сразу тремя обстоятельствами: прекращением деятельности фактически всех флагманов 80-х годов, появлением журналов с откровенно примитивистской эстетикой «назад к корням» – написанных и размноженных вручную («Польский батон», «Субанда») и, наконец, возникновением очередной волны новых изданий, специализирующихся на исследовании чуть ли не всего околомузыкального спектра – от гневно-обличительных гражданских рок-манифестов («Подробности взрыва», «Связь времен») до возведенных в культ экспериментов с компьютерным дизайном («Уголовное дело №»).
Так выглядит к середине 1994 года ситуация внутри андерграундной и независимой прессы. Несмотря на то, что политические притеснения уступили место не менее беспощадным экономическим, рок-самиздат по-прежнему существует. При этом он был и остается не столько формой утонченного нонконформизма или эстетских изысканий, сколько состоянием человеческой души в ее самых светлых и искренних проявлениях.
Раздел I. Энциклопедия
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Читать эту книгу не очень легко, но можно. Нужно только соблюдать правила игры. Их немного.
Самое главное при знакомстве с разделом «Энциклопедия» – не пугаться ее языка, доверчивых стилистических оборотов. Соль авторского замысла состоит в том, что, как говорится, «язык описания должен соответствовать предмету описания». Qualis grex, talis rex. Статьи, вошедшие в раздел «Антология», – «высший пилотаж» рок-самиздата, не дающий представления о среднем, расхожем уровне его журналистики. Напротив, язык большинства статей «Энциклопедии» вполне адекватен рок-самиздатовскому мейнстриму – поэтому при подготовке книги к печати они почти не редактировались. В результате эти материалы сохранили свою «первозданную свежесть» – совмещая канцеляризмы, жаргонизмы, внезапные стилистические приколы, псевдоинтеллектуальные навороты, детскую восторженность и т. д.
При составлении «Энциклопедии» за основу был взят алфавитный порядок городов – «портов приписки» рок-самиздата. Названия их даны в соответствии с общеупотребительными «в народе» на данном участке истории: Ленинград, Свердловск, но: Вятка, Кёнигсберг и т. д.
В разделе «Антология» полностью сохранена авторская орфография всех статей – в силу ее непреходящего, на наш взгляд, историкосоциокультурного значения.
АЛМА-АТА
ЗГГА
Три номера: № 0 – дек. 83 г., № 2 – февр. 84 г.; 8 стр., тираж до 30 экз., рукопись + графика / ксерокс.
Ред.: Рашид «Кразин» Нугманов, Е. Бычков, М. Джумагазиев, А. «Моррисон» Хиль (художник)
Не лишенный разнообразных достоинств первый и очень стильный рок-н-ролльный самиздат Средней Азии, выпускавшийся в виде сложенного ввосьмеро плакатного листа с двумя графическими постерами.
Название «згга» было позаимствовано редакцией из боевого сленга русских ямщиков XVIII–XIX вв. Этим нестрого-научным термином называлось кольцо в вершине дуги конской сбруи, к которому привязывались колокольчики или поводки коренника, являвшееся необходимым элементом в убранстве знаменитых русских троек. Фраза «не видно ни згги», вынесенная на обложку пилотного номера, означала в контексте российского бездорожья настолько плохую видимость, что ямщик даже не мог рассмотреть находившуюся у него перед носом пресловутую згу.
В начале 80-х не менее тяжко было узреть витающий над местными барханами мираж казахского рока. Робкими носителями рок-цивилизации в ту пору являлись пригородная меломанская толкучка, невинные тусовки в одном из кафе на «Броде» (центральная улица Алма-Аты) и обласканная вниманием властей фри-джазовая группа «Бумеранг».
…Не смирившись с выстраданной в народе теорией о том, что «на безрыбье и джаз – рок-н-ролл», создатели «ЗГГА» сориентировали курс издания исключительно на западный рок. Появившийся в декабре 83 года т. н. нулевой выпуск был посвящен двум его легендам – Джону Леннону и Джиму Моррисону. Под гигантским графическим изображением Моррисона, помещенным на центральном развороте номера, находилось написанное от руки посвящение: «…Чувство одиночества, обреченности и безысходности в голосе и жизни „лучшего поэта рока“ в свое время попадет в резонанс с BAD VIBRATIONS души каждого человека… Американские ребята, не успевшие смыться от призыва и оказавшиеся в гиблых джунглях Вьетнама, слушали не „Битлз“ или „Роллинг Стоунз“, они вслушивались в звучание „Дорз“.
Рей Манзарек на юбилейной сходке фанов в третий день июля 81 года на парижском кладбище Пер-Лашез сказал:
- „Он не умер! Он в Мексике!"
- И все закричали: „Да, он там!"
- Он был им нужен».
Второй постер – Джона Леннона – сопровождался не менее трогательным текстом, разительно контрастирующим с официозным стилем вырезанной из «Правды» заметки о гибели певца.
По многовековой традиции вся последняя полоса была отдана на «легкое чтиво» – раздел стебных новостей «узун-кулак» (перев. «длинное ухо»), стилизованные комиксы и краткие ломовые рецензии на свежие западные диски. Оперативность получения алма-атинскими меломанами аудиоинформации «оттуда» была такой, что цветной типографский «Ровесник» мог лишь нервно курить бамбук.
«ЗГГА» писала об альбомах, появившихся на Западе всего несколько месяцев назад и, рецензируя их, как правило, не давала спуску никому. Особенно доставалось на страницах газеты нудноватым немецким электронщикам (от Вольфганга Бока и Рейнарда Лакоми до Клауса Шульца и «Тэнджерин Дрим») и находившемуся тогда в топе Боуи с его последним опусом «Let’s Dance». Несмотря на прочное первое место в английских национальных чартах и наличие на диске с полдесятка проверенных «боевиков» («China Girls», «Cat People», «Let’s Dance», «Modern Love» etc.), «ЗГГА» не оставила от знаменитого «хамелеона рок-н-ролла» и камня на камне:
«Выйди этот альбом под именем Дэвида Спинера (бэк-вокал у Боуи), он не попал бы и в 200-местный „Биллборд“. Эх, паблисити, паблисити…»
По словам одного из редакторов «ЗГГА» Евгения Бычкова, «хотя это был всего лишь стеб, но стеб, сделанный на полном серьезе».
…С будущими соредакторами издания Рашидом Нугмановым и Маратом Джумагазиевым Бычков познакомился в довольно экзотическом месте. Вышеупомянутая алма-атинская рок-толкучка проходила, строго говоря, не в самом городе, а на территории близлежащего совхоза «Дружба». Аккурат посреди зарослей кукурузно-конопляных полей, внедренных в казахские степи неугомонными последователями хрущевской аграрной политики.
Теперь тут вовсю менялись привезенным из Питера и Москвы винилом, а также ветхими «Melody Maker» 5–7-летней давности. Именно здесь и пересеклись пути-дороги редакторов «ЗГГА».
«Ребята не ищут легкой жизни. Они ищут тяжелый рок», – шутил впоследствии на эту тему Рашид Нугманов.
Рашид с детства принадлежал к тому типу людей, у которых «каждый день проходит под знаком „Битлз“». Под влиянием своего старшего брата Мурата (купившего чуть ли не первый в Алма-Ате ламповый магнитофон), Нугманов заразился рок-н-роллом еще в школе. За пять лет до создания «ЗГГА» он окончил архитектурный институт и теперь, в тридцатилетием возрасте, был с головой поглощен рок-культурой. Помимо неплохих познаний о героях питерско-московского андеграунда, Рашид на досуге свободно переводил тексты «The Doors», P. Gabriel’a и «Talking Heads», керуаковскую «On the Road», собирал материалы об алма-атинских битниках. Одним словом, Нугманов-младший рвался в атаку: «Лишь бы идти и делать».
Следующий, второй номер «ЗГГА»[5] стал его настоящим бенефисом. Помимо напичканного меломанскими анекдотами репортажа с местной рок-толкучки, Рашид (под псевдонимом Кразин) развил начатую еще в предыдущем выпуске идею с комиксами. Сам сюжетный ход был прост: два типичных раздолбая, эдакие «разл-дазл», сходят с ума от прослушивания LP «НЛО» фирмы «Мелодия». Сейчас в это сложно поверить, но найденный Нугмановым в 83 году имидж «чувака-пофигиста» с характерной внешностью и неизменной bubblegum во рту спустя десять лет начал вовсю использоваться в модных MTV-мультфильмах о Бивисе и Батхеде…
Еще одной дизайнерской находкой Нугманова стал изображенный на развороте якобы реальный диск собственной группы «ЗГГА» – с круглым отверстием, сделанным вручную в самом центре пластинки.
«Взгляни в эту дырку. Может быть, увидишь Люси», – непритязательно гласила надпись на «яблоке». Поверьте на слово, выглядело это крайне эффектно. Еще более эффектным смотрелся центральный материал номера – телефонный блиц-опрос двух десятков популярных музыкантов и журналистов страны на тему перспектив советского рока и их места в оном. (На фоне невразумительных бормотаний не избалованных вниманием прессы рокеров выделялся лишь ответ Троицкого, не без иронии назвавшего себя «паразитом номер один».)
Венчал номер феноменальный по степени эрудированности составителей рок-кроссворд, напичканный вопросами типа «резофоническая гитара, которой пользовался Джонни Винтер на альбоме «№ thin’ But Blues». По воспоминаниям редакции, кроссворд готовился коллективно – напомним читателю, что Бычков и Джумагазиев тоже были шиты отнюдь не шиитским шилом.
Евгений Бычков, большой поклонник групп «Pink Floyd» и «Beatles», также достаточно свободно владел английским. Купив однажды с рук целую подшивку западных рок-журналов («по червонцу штука»), он легко ориентировался в запутанных лабиринтах мирового рок-н-ролла. В принципе, именно Бычков был основным добытчиком информации об отечественной рок-музыке, так как довольно часто мотался в Москву «за впечатлениями и новостями» к знакомым журналистам – Шавырину, Сигалову, Троицкому[6].
В свою очередь, Марат Джумагазиев являлся главным специалистом непосредственно по Западу. Как-то в читальном зале библиотеки он наткнулся на югославский журнал «Арена», в котором были опубликованы адреса коллекционеров разнообразной рок-продукции. Специально подучив югославский язык (!), Марат начал вести регулярную переписку с братской страной и вскоре чуть ли не ежемесячно начал получать по почте свежие номера журнала «Джубокс».
Но самым значительным достижением Марата оказалась созданная им уникальная система независимого распространения разнообразной рок-информации внутри страны. Во все времена в самых разных городах находились десятки, сотни людей, ищущих себе подобных единомышленников. То же самое происходило и внутри рока. Джумагазиев был одним из первых, кто путем прозаичной почтовой переписки начал создавать зачатки межрегиональной инфраструктуры еще толком не зародившегося отечественного рок-движения. Первоначально он «вычислил» по следам тбилисского фестиваля 80 года Сергея Мозгового, издававшего в столице Грузии журнал «Диско-старт». Затем по каким-то старым каналам нашел ребят из харьковского «Бит-Эха», Алексея Волкова из Казани[7] и многих других.
Процесс обмена информацией носил двухсторонний характер. К примеру, Александр Побелов из Донецка регулярно присылал в Алма-Ату свежие западные рок-материалы и, получив обратно их ксерокопии, распространял дальше по стране[8].
Долгое время с южанами достаточно тесно переписывался свердловчанин Леонид Баксанов, один из основателей городского фан-клуба «Битлз» (см. ж-л «Эплоко»).
Полученные с Урала статьи рассказывали о самозабвенном выступлении в общежитии Свердловского архитектурного института уфимского изгнанника Юры Шевчука, о визите в город легендарного Майка («с каким-то неведомым Цоем») и т. д.
Возникает вопрос: каким образом в 83–84 годах именно позабытая Аллахом Алма-Ата стала центром подобных рок-коммуникаций? Ларчик открывался просто: общительные и обаятельные ребята из «ЗГГА» чуть ли не единственные во всесоюзной рок-тусовке имели сравнительно доступный выход на ксерокопировальный аппарат. В скобках заметим, что ксерокс появился в России значительно позднее, чем на Западе, и первоначально использовался исключительно на предприятиях закрытого типа. Любой агрегат подобного рода тщательно контролировался, и возможность его использования «в личных целях» представлялась тогда крайне редко.
Восток – дело тонкое, а советский Восток – тонкое вдвойне. У «ЗГГА» такая возможность была. После того как макет очередного номера ксерился в количестве трех десятков реальных экземпляров, почти весь тираж экспортировался «в Европу» – вышеперечисленные города плюс Москва, Питер и Прибалтика. Подобная полулегальная дистрибьюция была, конечно, делом достаточно рискованным. По словам одного из иногородних корреспондентов газеты, «это был почти криминал – в восемьдесят четвертом я разворачивал принесенную с почты бандероль не без опасения».
Опасения оказались не напрасными. После выхода третьего номера «ЗГГА», содержание которого навечно утонуло в памяти редакции, в дело все-таки вмещался местный КГБ. Весной 84 года была устроена целая облава на немногочисленные алма-атинские ксероксы в надежде запеленговать источник вирусной инфекции.
…«ЗГГА» ксерилась на одном из госпредприятий города, на котором работали родственники художника по кличке Моррисон – собственно, автора всех графических постеров газеты. На самом ксероксе в тот черный день ничего не нашли, но народ тем не менее испугался не на шутку. После этого случая Моррисон, по его словам, «решил выйти из игры».
Это означало конец – больше «ЗГГА» уже не выпускалась.
…Спустя годы в одном из интервью Нугманов как-то обронил фразу о том, что «…рок… особенно в его ранние годы был колоссальным прорывом к взаимопониманию людей».
«Мы – это поколение, которому повезло, – писала сама редакция в одном из номеров. – Мы успели к рок-застолью».
Дальше судьбы членов «ЗГГА» сложились по-разному и совершенно непредсказуемо. Джумагазиев с головой ушел в химию, защитив несколько лет назад кандидатскую диссертацию. Бычков, будучи старшим преподавателем консерватории, выпустил прекрасную монографию о «Pink Floyd» и параллельно продюсирует музыкальные программы местного «Радио Мак».
Рашид Нугманов поступил во ВГИК на курс Сергея Соловьева и затем начал снимать фильмы с участием рок-музыкантов: «Йя-хха» (86 г., ленинградский рок), «Дикий Восток» (92 г., «Объект насмешек») и, естественно, «Игла» (88 г.) с Цоем и Мамоновым. В 93 году Нугманов женится на француженке и переезжает жить вначале во Францию, а затем – в Голливуд. Похоже, что он оказался единственным человеком, у которого сохранился последний выпуск «ЗГГА», который он увез с собой, словно горсть родной земли.
ТЕЗАУРУС
17 номеров: № 1 – неизв. № 16–17 – дек. 90 г., в средн. – 35 стр., тираж – 50–200 экз., маш./ксер.
Окололитературное издание филолого-юридической тусовки Казахского университета, содержащее блок статей на музыкальную тематику. Непосредственно сам «Тезаурус» любопытен эпизодическим участием Игоря Полуяхтова – переводчика и составителя серии брошюр «Классика рок-поэзии», в которую вошли сборники текстов «ранних» и «поздних» «Beatles», «Rolling Stones», «Pink Floyd».
Под продюсерством И. Полуяхтова алма-атинская коммерческая фирма «ИСКЕР» в 1991 году выпустила типографским способом 30 000 экземпляров последнего в истории выпуска легендарного московского журнала «Урлайт».
Р. S. Также отметим, что в начале восьмидесятых годов в стенах вышеупомянутого университета несколько раз появлялись номера настенной рок-газеты, в основном состоящей из переводов югославского «Джубокса» и болгарского «Лика». Газету выпускал человек по имени Вадим Ганжа, в ту пору студент университета, а впоследствии – один из первых алма-атинских хоум-тейперов и электронщиков.
АРХАНГЕЛЬСК
СЕВЕРОК
I этап – 6 номеров: № 1 – март 1987 г., № 6 – осень 1988 г., от 20 до 60 стр., тир. – 5 экз. (№ 6 – 80 экз.), маш. + графич. обложка (№ 6 – ксер.) (№ 1–4 – «ИБ АКФФ», № 5–6 – «Северок»).
II этап – 6 номеров: № 1 – осень 1988 г., тир. – 500 экз., № 6 – зима 1990 г., тир. – 5000 экз., 50–60 стр., ротапринт. Ред.: А. Бредлев, Г. Валов (до № 6), А. Мезенцев, А. Турусинов (до № 6), А. Афанасьев, Е. Джериев, О. Смирнов и др.
История первого в городе рок-издания ведет свой отсчет с осени 1986 года. В это время местные филофонисты с горем пополам легализовали свою деятельность, перебравшись с воскресной барахолки (т. н. «тучи») под крышу ДК завода «Красная кузница». До этого из года в год основная масса любителей винила пассивно обменивалась попиленными дисками и баловалась добычей технического спирта с территории ближайшего гидролизного завода. С обретением клубом официального статуса архангельских меломанов вдруг резко потянуло в дебри житейской философии. В принципе они и раньше были не против порассуждать о значимости собственного увлечения; теперь же у них появилась реальная возможность придать своему хобби подспудный характер некоего культурного андеграунда.
Идея создания музыкального журнала возникла в этих кругах на волне слухов о каких-то самопальных изданиях, уже несколько лет существующих в Питере и Москве. Постепенно информация стала обрастать «достоверными» подробностями и невероятными историями о закрытии одних рок-изданий и открытии других, антисамиздатовских репрессиях и т. д. В общем, в Архангельске решили рискнуть.
Первый номер журнала появился на свет в марте 1987 года и содержал 22 страницы, напечатанные на изумительной бумаге болотно-глиняного цвета. Как гласило вступление, издание было призвано «восполнить отсутствие специализированного журнала для любителей рок-музыки» и в основном предназначалось для активистов клуба.
Инициатором всего проекта стал Александр Бределев, предложивший в пылу бурных споров о названии (всплывали варианты типа «Диск-плэй», «Рок-вестник» и масса иных модификаций слова «рок») нейтральное «Информ-Бюллетень Архангельского Клуба Филофонистов».
Первые номера «ИБ АКФФ» состояли из бойко написанных Бределевым обзоров британской инди-музыки, а также переводов Александра Афанасьева и Григория Валова из польского «На пшелай» и немецкого «Мелоди унд ритмус» о бунтовщиках типа Элтона Джона и рок-звездочках стран «социалистического лагеря». Примерно на этапе третьего номера в бюллетене начинают появляться материалы об отечественном роке. Андрей Турусинов специализировался на лавине региональных фестивалей, Андрей Коломыйцев (см. «Рот», «ВО!») писал о калининградской рок-сцене и «Литуанике-87», Александр Мезенцев – о концертах в Питере. К слову, именно Мезенцев накануне выхода пятого номера придумывает бюллетеню новое название «Северок», а затем предпринимает отчаянные попытки увеличить его тираж.
Договорившись с директором местного МДСТ Тамарой Ильиничной Гузей, «северковцы» планировали выпустить журнал в формате футбольной программки, выдавая его за совместное пособие Дома самодеятельного творчества и клуба филофонистов. Но… непосредственно в обллите проект зарезали, на чем поиски каких-либо полиграфических вариантов временно прекратились.
Осенью 1988 года на одну из редколлегий «Северка» неожиданно забрел комсомольский лидер среднего звена Владимир Станулевич, предложивший техническую помощь Соломбальского райкома ВЛКСМ в вопросе размножения журнала. Тогда мало кто верил, что из этого альянса что-либо получится. Однако, вопреки прогнозам, шестой номер все-таки вывалился из чрева комсомольского ксерокса умопомрачительным тиражом чуть ли не в 100 экземпляров. На обложке красовалось название «Северок», а над стилизованной под русскую вязь надписью «INDIE» был изображен угрюмый северный медведь, мирно писающий на сугроб. Так «ИБ АКФФ» навсегда превратился в «Северок».
После того как местное телевидение посвятило изданию несколько коротких сюжетов (в контексте достижений комсомола в деле приручения диких неформалов), журнал оказался на пороге кардинальных преобразований. Продолжая модные политические игры, Станулевич предложил создать в рамках райкома комсомола молодежный центр на хозрасчетной основе, который будет заниматься выпуском «Северка», звукозаписью, организацией рок-концертов и всевозможной издательской деятельностью. Подобное сотрудничество автоматически предполагало целый ряд компромиссов, и в частности обмен независимого статуса издания на жесткую редактуру, цензуру и стыдливую шапку «Методические материалы по современной музыке» (в помощь диск-жокеям, клубным и комсомольским работникам). Недолго раздумывая над извечным в ту пору вопросом «продаваться ли комсомольцам или размахивать флагом „Индепенденса“», Бределев покидает свою прежнюю работу и становится директором „Молодежного центра досуга „Северок“».
Ряд членов редакции, почувствовав, что первоначальные идеи журнала «хиреют и тают на глазах», не согласились с подобными авторитарными нововведениями и организовали собственные проекты: Г. Валов и А. Турусинов – «Тиф», А. Афанасьев – «Фрипс» и «Железные будни» (см. ниже).
Дальнейшая история «Северка» была довольно странной и в чем-то даже поучительной. С одной стороны, в ней имели место позитивные моменты – в частности, организация редакцией ряда концертов («Калинов Мост», «Телевизор», «ЧайФ», «Band of Holy Joy»), демонстрация в стенах областной библиотеки уникальной экспозиции рок-самиздата и, конечно же, беспрецедентная для 1989 года подписная кампания на «Северок». По воспоминаниям Мезенцева, в этой акции была задействована вся местная пресса, все личные связи, все случайные и неслучайные поездки и встречи. Первую масштабную рекламу (3×4 см.) дала рижская «Советская молодежь»; резонанс был мощнейший, т. к. подписчиков из Прибалтики на первых порах было чуть ли не 60–70 %. Потом информация о «Северке» проскользнула в «Собеседник» (февраль 1989 г.), «Комсомольскую правду» (7.05.89), киевскую «Молодую гвардию» и даже журнал «Библиотекарь».
Любопытно, что в числе подписчиков оказались библиотеки Театрального института в Питере, литературы по искусству им. Маяковского (одна из крупнейших в стране в данном направлении), Архангельская областная библиотека им. Добролюбова, а также вышеупомянутая «Комсомольская правда», «Аврора» и десятки региональных рок-изданий.
Не менее мощно «Северок» экспортировался на Запад – во Францию, Англию, США, Канаду и т. д. Во многом это обстоятельство объяснялось тем, что Мезенцев работал электромехаником Северного морского пароходства и стабильно совершал кругосветные вояжи «по странам и континентам», устанавливая столь необходимые для журнала транснациональные контакты. В частности, в 1989 году в Хельсинки он представлял «Северок» в беседе с главным редактором «Румбы» Рами Куусиненом, а затем – на страницах хьюстонской газеты «Public News».
В это же время Бределевым, Евгением Бачиным и Мезенцевым была проделана гигантская работа по учету лицензионных и пиратских пластинок в СССР, результат которой впоследствии был направлен в Великобританию Терри Хоунсому для его ежегодного издания «New Rock Record». В свою очередь, небезызвестный «Sounds» в течение нескольких лет исправно высылал все номера еженедельника в Архангельск.
Итак, машина под названием «Северок», запущенная усилиями нескольких энтузиастов, постепенно набирала обороты. Но одновременно с увеличением тиража (от 500 до 5000 экз.) журнал начал пробуксовывать в вопросах творческого развития. Уход лучших авторов и масса времени, затраченного на решение организационных проблем, не прошли для издания бесследно. Несмотря на многочисленные контакты «Северка» с рядом иногородних журналов («Рот», «Тыл», «РИО», «ПНЧУ»), количество так и не перешло в качество. Номера по большей части оставались серыми и безликими, как назойливое мелькание МТУ, а подбор информации в них в основном был направлен на ликвидацию рок-безграмотности усредненного читателя.
Светлые идеи «внебрачного периода» были задушены под тяжестью «Инспекции международного металла»; «за покровом облаков» скрылся «Облачный край» – чуть ли не главная изюминка тех степей и полей. К числу редких удач можно отнести «Горячий репортаж» Бределева с Таллинского фестиваля 1989 года (на котором он не был), ретрообзор Николая Харитонова (см. «Норд») гастролей питерских групп в Архангельске, а также два обстоятельных интервью – с Троицким и Шахриным, подготовленных изначально для публикации в официальной прессе.
Достаточно профессионально освещая многочисленные нюансы развития западной авангардной музыки, «Северок» откровенно поверхностно воспринимал отечественный рок – с его традиционной ставкой на слово и общее духовное воздействие. «Редакция до сих пор считала и продолжает считать, что основная масса того, что называется „советский рок“, – явление вторичное, если не сказать большего», – писал «Северок» в своем последнем выпуске (№ 6, зима 90 года). Практически сразу же после выхода этого номера деятельность журнала принимает откровенно конъюнктурный характер. Увлекшись финансово-беспроигрышными проектами (издание массовым тиражом рекламно-информационных брошюр о популярных западных рок-группах), редакция во главе с Бределевым так и не выпускает обещанный подписчикам «Северок» № 7. Затем, во многом из-за пассивности и нерешительности главного редактора, журнал упускает уникальную возможность первым в стране издать отдельной книгой рекшановский «Кайф» (с раритетными фотоснимками из авторского архива). Отчаянные попытки того же Мезенцева хоть как-то спасти положение, изменив политику «Северка» и объединив в единый печатный орган раздробленный архангельский самиздат, ни к чему конкретному не привели. В свою очередь, создатели хозрасчетного молодежного центра вполне органично слились с банками, коммерческими структурами и прогрессивными местными депутатами. Как видите, в общем-то, ничего принципиально нового.
ТИФ
(Текущая Информация Филофониста)
16 номеров: № 1 – апр. 1988 г., 10 стр., № 16 – дек. 1992 г., 40 стр., тир. – до 50 экз., маш./ксер., б/илл., № 15, 16 – комп.
Ред.: Г. Валов («Б. Кляссер», «П. Короленко», «Г. Хазанович» и др.), А. Турусинов («П. Дюков», «Г. Внюков», «О. Уелов», «Т. И. Фоззи» и др.)
Этот яркий журнал появился на свет в недрах вышеупомянутого клуба филофонистов в апреле 1988 года как отдельный проект Григория Валова и, чуть позднее, Андрея Турусинова.
Дебютный номер состоял из введения (в котором «ТИФ» клятвенно божился не составлять конкуренцию «Северку»), отменно ругательной редакторской статьи, рубрики новостей «Собака лает – ветер носит» и двух рецензий Турусинова – на «Группу крови» и на свежую демо-запись альбома «Зубы» еще не известного стране «Комитета Охраны Тепла».
По аналогичной схеме были сделаны и несколько последующих номеров. Валов писал вступительные статьи (в традиционной для рок-самиздата того времени манере охаивания окружающей музыкальной среды) и подбирал новости для «Собаки»; Турусинов рецензировал новые пластинки или записи, после чего номер считался готовым. Напечатанные на солидном «Роботроне» очередные пять экземпляров подписывались не всегда пристойными псевдонимами и отличались свежестью восприятия бытия, свободной манерой изложения и бескомпромиссностью общего тона статей. «Критический взгляд и бойкий язык», – охарактеризовал позднее стиль журнала местный «Северный комсомолец».
Сами редакторы относились к своему детищу куда более сдержанно и трезво: «„ТИФ“ всегда будет изданием для своих, что подчеркивается принципом размножения, изданием типа домашней стенгазеты, которую рисует по ночам муж для того, чтобы ее прочитала утром жена, спавшая в одиночестве».
Фрагменты подобных семейных радостей содержал, в частности, «ТИФ» № 4, в котором публиковалось интервью, якобы взятое Валовым у главного редактора «Северка» Бределева. В реальности все интервью от первого до последнего слова было придумано Валовым, а для полноты сюрреалистического пейзажа сам текст печатался на машинке Бределевым.
Как выяснилось несколько позднее, смысл этой акции во многом напоминал пакт о ненападении между Германией и Советским Союзом. В роли Риббентропа выступил Валов, который, по его признанию, «постепенно стал принимать меры к подрыву и подавлению своего основного конкурента».
Формальным поводом для разрыва отношений послужило некорректное поведение Молодежного центра «Северок», отказавшегося оплатить заранее оговоренные расходы на спродюсированные «ТИФом» концерты «Комитета Охраны Тепла». Реальные причины ухода «ТИФа» в оппозицию были значительно глубже и во многом объяснялись новой политической линией уже ставшего ротапринтным «Северка».
Этим событиям почти полностью посвящался «ТИФ» № 7, представлявший собой крик души Турусинова (ст. «Эх, комсомольцы!»). Также заметим, что впервые в истории «ТИФа» выпуск сопровождался фотоиллюстрациями все-таки состоявшегося концерта «Комитета» – в рамках «джазовой ночи» на старый Новый год, по традиции проводимой легендарным джазменом В. П. Резицким. Ни до, ни после «ТИФ» не содержал никаких намеков на дизайн: по замыслу редакции оформление журнала изначально должно было стать крайне рациональным и аскетичным; все выпуски сопровождались черно-белой обложкой, технология изготовления которой состояла из наляпывания названия тушью через специально сделанный трафарет. В итоге принципиальное отсутствие иллюстраций стало возводиться редакцией в культ авангардного примитивизма: «„ТИФ“ не разменивается на картинки. „ТИФ“ – это голая информация»».
…После окончательного разрыва с «Северком» помощь и новые импульсы были получены «ТИФом» со стороны все того же Резицкого. После тура джаз-группы «Архангельск» по Америке он привез домой один из последних выпусков журнала «Sound Choice». Американское издание содержало подборку материалов о советском джазе, интервью с Лео Фейгиным (затем переведенное в «ТИФе») и массу контактных адресов западного индепендента. Знакомство с его представителями резко изменило стиль и содержание архангельского журнала – на смену Хендриксу и «King Crimson» пришли Крис Катлер, Джон Зорн и Зина Паркинз.
В истории «ТИФа» наступал новый этап.
Период 1989–1990 годов оказался поистине золотой эпохой: как-то незаметно журнал разросся до 40–50 страниц, а его тираж увеличился в несколько раз за счет партизанских вылазок редакции на бесхозные ксероксы различных государственных структур.
Одновременно явный прогресс произошел и внутри самого издания. Начиная с шестого номера вслед за редакторской статьей следовала одна из основных рубрик «Читализм», в которой острые на язык кудесники современной критики безжалостно рецензировали отечественную рок-прессу. Небезызвестный принцип «лучшая защита – нападение» методично воплощался ими в жизнь с нетипичной для самиздата последовательностью:
«Пока ни одно издание… не способно удовлетворить потребности серьезных меломанов. Одни ударяются в стеб, другие, не будучи в состоянии написать хоть сколько-нибудь серьезную статью, перемалывают всякую чушь, третьи – вообще некомпетентны в вопросах современной музыки».
Теперь несложно догадаться, какой резонанс вызывали эпизодические публикации «тифовских» материалов на страницах «Северного комсомольца». Планомерно разрушая устоявшиеся вокруг того или иного рок-кумира стереотипы, «тифовцы» тем самым осуществляли настоящий «взрыв в кастрюле» массовых обывательских настроений. Вершиной вкусовых конфронтаций стала рецензия Турусинова на альбом «Radio Silence», послужившая поводом к написанию массы разгневанных писем, поступивших от оскорбленных аквариумистов в редакцию молодежной газеты. «Эта заметка получилась единым духом, – вспоминал впоследствии Турусинов, – она была опубликована где-то в январе 90 года, что было вроде бы как-то поздно после выхода пластинки предыдущей осенью. Но к этому времени накопилось достаточно информации о поведении БГ в процессе ее презентации, раздачи направо и налево различных интервью и улеглась вся рекламная шумиха, связанная с этим проектом. Появилась возможность трезво все осмыслить. Название „Нечестность" совершенно точно отражает мое мнение о поведении БГ как таковом вообще. Причем мнение это не изменилось, даже по прошествии нескольких лет, и лишь утвердилось после просмотра по ТВ фильма „Long Way Home“… Сам же альбом, собственно, вовсе и не ругается – пластинка как пластинка – на уровне тех же „Eurythmics“. Но я думаю, что основная мысль о нечестном поведении БГ была тогда и остается сейчас актуальной». После выхода «ТИФа» № 11, содержащего, помимо данной статьи, еще ряд нашумевших материалов, журнал становится известным за пределами своего обычного референтного круга. Часть тиража начинает целенаправленно распространяться в метрополиях и Прибалтике, а состав редакции публикуется с эксклюзивными материалами в журналах «Контр Культ Ур’а» и «Спидъ». После посещения Архангельска социологом Николаем Мейнертом (с семинарами по неформальной прессе) один из номеров «ТИФа» был продемонстрирован в «Программе А».
С тех пор каждый новый выпуск журнала поражал неожиданностью композиционного решения. К примеру, эстетские переводы из «Sound Choice» и «Melody Maker» сменялись ироничными обзорами региональных рок-фестивалей и архангельских «Дней Джаза», а серьезнейшее интервью с рижскими музавангардистами («Popolznowenie» могло чередоваться с псевдофилософской беседой одного из редакторов с самим собой. Без всяких внутренних противоречий бок о бок сосуществовали рецензии на полузабытый альбом «ДК» и «Очищение» Васи Шумова, а блестящие эссе на темы последних опусов Майлза Дэвиса и Элвиса Костелло соседствовали с научным исследованием долгожданного альбома «Облачного Края»… «Это было время, – говорит Турусинов, – когда наши противоположности уравновешивали друг друга, и в этой разнополюсности внутри журнала рождалась столь желаемая истина».
Тем не менее «ТИФ» № 14, датированный 31 декабря 1990 года, стал последним совместным выпуском тандема Валов – Турусинов. В пору своего расцвета издание оказалось слишком тесным для двоих редакторов – синдром «двух хозяек на кухне» напомнил о себе и на этот раз.
Лебединая песня журнала, вопреки пессимистическим прогнозам, в реальности оказалось не унылым романсом, а скорее ассоциировалась с бодрыми ритмами «Турецкого марша». Григорий Валов, усилив акценты на западный индепендент, выпустил еще два номера «ТИФа», напечатанные по последней моде на настоящем матричном принтере… На волнах местного радио периодически стала всплывать его авторская передача «Программа непопулярной музыки Radio Pilorama». Андрей Турусинов начал издавать соло новый журнал «Результаты».
РЕЗУЛЬТАТЫ
4 номера: № 1 – февр. 92 г., № 4 – апр. 94 г., в средн. – 40 стр., тир. – 50 экз., комп. + фото/лазерный принт.
Ред.: А. Турусинов
Одно из наиболее серьезных и профессиональных изданий последней волны, целиком посвященное «home-taping», «cottage-music» и вопросам индустриальной субкультуры. Образовано в начале 92 года в результате вычленения одного из редакторов «ТИФа» Андрея Турусинова в собственный журнальный проект.
Отличительной чертой и одной из основных задач «Результатов» стало налаживание контактов между хоум-тейперами всего мира «хотя бы на уровне элементарного обмена информацией».
«Ибо человек, записывающий свою музыку в одиночестве дома, часто страдает от отсутствия возможности показать кому-либо свое творчество».
Пользуясь относительно легальным доступом к современной издательской технике и средствам международных коммуникаций, «Результаты» в течение года запустили свои щупальца не только в самопальные отечественные студии, но и в закордонные норы американских и европейских электролабораторщиков.
К третьему номеру на страницах архангельского журнала уже начал проступать эскиз самобытной инфраструктуры. Помимо бесчисленных рецензий Турусинова на целую тучу всевозможных demo электронно-футуристического плана, внутри издания возникли еще как минимум два блока. Первый состоял из оригинальных материалов, присланных специально в «Результаты» испанцем Хорхе Мюннше (автором «Энциклопедии композиторов электронной музыки»), американскими фанзинами «Cybernetik Reneissance» и «Н-23 Magazine» и т. д. Советский шумовой авангард оказался представлен Вадимом Ганжой (Алма-Ата) и Андреем Коломыйцевым (см. журналы «ВО!» и «РОТ») – бывшим клавишником «Комитета Охраны Тепла», а до этого – создателем собственного хоум-тейперного проекта «StirliTZ».
Второй блок состоял из переводных интервью с известными муз-экспериментаторами и статей из немецкого «Джазтетика», респектабельного «Blank Generation», раритетных «рок-ЖЗЛ» и фестивальных буклетов. Эта часть издания стала поистине бесценным подарком поклонникам «Can», «The Residents», Фрэнка Заппы и Штокхаузена. О двух последних, к слову, было опубликовано навалом всяких веселых баек и полулегенд со вкраплениями иронии высочайшей пробы. Помимо этого шквала информации в 94 году журнал начал выпуск на аудиокассетах музыкального приложения «„Результаты" представляют», содержащего образцы наиболее ярких композиций, рецензируемых на страницах издания.
В качестве коды видится уместным процитировать высказывание небезызвестного Лео Фейгина, назвавшего «Результаты» «совершенно уникальным изданием», вокруг которого в перспективе может произойти «объединение любых форм и направлений современной авангардной музыки».
ФРИПС
15 номеров: № 1 – окт. 88 г., 50 стр.; № 15 – весна 92 г., тир. до 10 экз. (кроме № 8 – 500 экз., ротапринт), маш. + фото.
Ред.: С. Перчиловский, А. Афанасьев, В. Жилтухина, И. Прокопьев
Малотиражный журнал, настойчиво издававшийся в течение пяти лет с явным креном в сторону ветеранов хард-рока и всевозможный мейнстрим.
Идеологический и географический разброс в этих направлениях достаточно широк: от угрюмого местного «Тора» до «Blue Oyster Cults» с классикой – «Beatles», «Rolling Stones» и «Led Zeppelin» посередине. Сведения о группах поданы в стиле справочника для усредненного периферийного коллекционера западных дисков. Робкий намек на драйв прослеживается лишь в «Истории „Rolling Stones"» (№ 1, 2), а в стебно-сатирическом плане неплох памфлет о группе «Малинов Тост».
АП’СЮРД
Три номера: № 1 – конец 89 г., 50 стр.; № 3 – лето 92 г., средн. тир. – 100 экз., маш. + комп. + граф. + фото + коллаж/ксер.
Ред.: С. Супалов, М. Голубев, Л. Сасонова, Я. Павлова, О. Ситов
Провинциальный аналог позднего «Зомби» (см. с. 197), созданный профессиональными фотохудожниками С. Супаловым (автором конвертов LP «Облачного Края» («Мелодия»), «Новая Земля» («Антроп Рекордз»), «Серебряных Звонов» («Русский Диск») и др.) и Мих. Голубевым.
Отличительной чертой данного издания является трагичный в своей масштабности контраст между формой и содержанием: абсолютно безликие материалы выполняют, казалось бы, исключительно декоративные функции заполнения пустующего пространства между сериалами великолепных рок-иллюстраций.
Несмотря на то, что общая ситуация в провинции резко ужесточилась и, со слов редакции, «количество экземпляров теперь прямо пропорционально смыслу всей затеи», в 94 году готовился к выпуску следующий номер.
ЖЕЛЕЗНЫЕ БУДНИ
Один номер: дек. 89 г., 72 стр., тир. – 300 экз., ротапринт.
Ред.: А. Афанасьев
Одноразовый пиратский набег на местный областной ротапринт с явно коммерческими целями. Под традиционной «крышей» конца восьмидесятых – «для сети комсомольского просвещения» скрывались малоинтересные переводные статьи хеви-металлического плана из германских журналов «Айрон Пэйджес» и «Хоррор Инферналь».
«Judas Priest», «King Diamond», «Slayer», «Helloween» – репортажи с турне групп, интервью с героями, обзоры новых дисков.
К плюсам «Железных будней» можно отнести в общем-то нетипичную для нашей рок-прессы оперативность в переводах и (как ни странно) андеграундный характер самих западных журналов. Минусы «Железных будней» достаточно относительны: они являются недостатком всего жанра heavy metal – сплошная чернуха, интеллектуальная убогость и… «сексуальность для бедных» явно люмпенского плана.
НОРД
2 номера:№ 1 – весна 88 г., тир. – 50 экз., комп. набор; № 2 – неизв.
Ред.: Н. Харитонов
Культовый журнал президента арх-рок-клуба Николая Харитонова, впоследствии более известного в качестве издателя северодвинской многотиражной газеты «Кайф» и ряда книг, в той или иной степени связанных с русским роком.
Что же касается «Норда», то больше всего он тяготел к форме «литературно-независимого альманаха молодежной культуры», печатался на компьютере аж в самом Ленинграде, содержал в одном из номеров стихи Сергея Богаева и в основном посвящался успехам в импорте титанов питерского рока в город Архангельск.
В 94 году Н. Харитонов подписал контракт с «ДДТ» и пишет трехтомный фолиант об истории группы.
ЗА ДЕРЕВО
4 номера: 89–91 гг., 20 стр., тир. – 10 экз., маш. + фото/ксер.
Редактор неизвестен
Хранящийся в архиве «Норда» очень веселый фанзин группы «Нате!», выходивший в свет где-то под Архангельском – то ли в Новодвинске, то ли в Новохоперске.
Издавался абсолютно бескомпромиссными и начисто лишенными комплексов барышнями, пылко любящими творчество Славы Задерия и его пост-алисовской банды. Как вы догадались, отсюда – название журнала.
Дамские эмоции в эпоху массового тиражирования «Пентхауза» и «Эммануэль» крайне редко носят теоретический характер… Посему редакция преданно посещала концерты своего кумира (в частности, в Архангельске), завершая эти концептуальные визиты традиционным процессом взятия интервью.
АШХАБАД
РОК-КЛУБ
Три номера: № 1 – неизв., № 3 – осень 91 г., (14 стр., тир. – 10 экз., маш. + граф. + фото/ксер.
Ред.: рок-клуб
Информационно-рекламный буклет, нежданно-негаданно всплывший на страницах сан-францискского «Maximum Rock-n-Roll» в роли абсолютно беспомощного издания».
Экзотической стороной «Рок-клуба» является беспрерывная реклама местной звукозаписывающей студии и подвизавшейся по соседству целой когорты китов туркменского рок-н-ролла. Весь этот рок-кооператив носит многообещающее название «Союз свободных музыкантов» и насчитывает в своих рядах добрый десяток разностилевых рок-банд: «Анальгин», «Блюз-Офис», «Информбюро», «Контора», «Крестовый Поход», «Проспект Свободы» и так далее.
Тем не менее, несмотря на массовость, дела в регионе идут из рук вон плохо:
«Как-то раз рок-клуб решил заработать немного денег для предстоящей рок-панорамы и исключительно с этой целью пригласил Наталью Гулькину и группу „Звезды“.
…Нас постигло полное фиаско.
Не идут на Гулькину ашхабадцы. А куда они идут?
Да никуда».
Вот что с людьми делает климат.
БАКУ
РОК-ОКО
13 номеров: № 1 – апр. 89 г., № 13 – дек. 92 г., 20 стр., тир. – 30–50 экз., маш. + граф. + фото/ксер. (кроме № 8 – маш.).
Ред.: В. Мустафаев (до № 9), Н. Гусейнова, М. Гусейнова, С. Мустафаев, З. Мустафаева (худ.), Л. Багирлы
Долгие годы в Азербайджане условное отношение к року имели лишь самобытный национальный джаз, популярный портвейн и пошлая фанк-группа «Чарли Атл». И даже тринадцать вышедших номеров «Рок-Око» оказались невообразимо далеки от предмета предполагаемого исследования и гораздо более любопытны судьбами людей, их создававших.
«Рок-Око» был основан весной 89 года по инициативе Сейфуллы Мустафаева, проходившего в то время службу в аспирантуре Ленинградского госуниверситета. Мустафаев выполнял в журнале функции питерского собкора, а непосредственно в Баку номера «выплавлялись» его родным братом Вахидом. Начиная со второго номера в этом нелегком труде ему помогали бывшая сотрудница панк-газеты «Молодежь Азербайджана» Натаван Гусейнова и ее родная сестра Мехрибан Гусейнова.
На радость местным энтузиастам, уже были выпущены первые семь номеров, когда в патриархальную жизнь азербайджанской столицы ворвались январские события 90 года.
Кульминационная часть гражданской войны проходила прямо под окнами редакции; в связи с чрезвычайным положением все множительные аппараты в городе охранялись военными…
Жизнь вокруг резко изменилась. По словам Н. Гусейновой, «в течение 90-го года из Баку уехали многие отличные музыканты и в городе не состоялось ни одного рок-концерта». Вахид Мустафаев, выпустив восьмой номер машинописным способом, отошел от издательской деятельности и, подобно шахматному королю Гарри, с головой окунулся в политику.
В мрачной атмосфере политических катаклизмов девичий состав «Рок-Око» не только не прекратил выпуск журнала, но и организовал издание многотиражной восьмиполосной газеты «Тропой грома». На ее страницах редакция пропагандирует (на двух языках – азербайджанском и русском) т. н. вторую волну местного рок-движения.
ПРОК
6 номеров: № 1 – июнь 90 г., № 6 – дек. 90 г., 20 стр., тир. – 100–250 экз.
Ред.: Ш. Агаев, Н. Самедов
Полудайджест коммерческой направленности. Казенный обзор на грани попса выигрышных тем не первой свежести – в основном из питерско-московского рок-н-ролла. Гребенщиков, Цой, Башлачев, «Ва-банкъ». С 91 года «ПРОК» видоизменяется в музгазету «Информация Ш. А. Н. С.!» (аббревиатура – Ш. Агаев, И. Самедов, то есть редакция), а затем – в дайджест «Меломан».
БАРНАУЛ
ПНС
(Периферийная Нервная Система)
Два номера: № 1 – осень 1989 г., 80 стр., тир. – 100 экз.; № 2 – осень 1990 г., 40 стр., тир. – 150 экз.; маш. + граф. + фото/ксер. с уменьшением
Ред.: Е. «Дядя Ко» Колбашев, В. «Депа Побков» Макашенец, А. «Р. У. Санов» Русанов
«Журнал возник на гребне расцвета «Рок-периферии» – мощного движения, объединявшего зауральские рок-клубы двенадцати городов и проводившего в период 1987–1991 годов ежегодные фестивали в Барнауле.
Название издания задумывалось по ассоциации с медицинским термином «периферическая нервная система», а основной первоначальной идеей была презентация зауральского рока и его лидеров.
«Человеку свойственно ошибаться. Это замечание можно смело отнести и к высказываниям типа: „В Сибири рока нет“ – и добавить вопрос: „А где же еще он, по-вашему, есть?“ Уж не в той ли части страны, что бескрайними дикими просторами раскинулась западнее нашего пограничного форпоста – г. Свердловска?»
Помимо информационного блока об основных очагах движения (Красноярск, Омск, Барнаул, Томск, Новосибирск), дебютный выпуск «ПНС» знакомил читателей с могиканами барнаульского муз-андеграунда, изысканными образцами периферийного хармс-рока, блестящими комиксами на тему приключений «Битлз» в Ленинграде и избранными фрагментами киевского «Гучномовця».
На фоне отсутствия «эстетических изысков и экстраординарной концептуальности» журнал выигрывал за счет неподдельной теплоты, мягкого юмора и специфического колорита добротного семейного альбома. Создатели «ПНС» – корреспондент «Молодежи Алтая» Андрей Русанов, президент барнаульского рок-клуба и в миру преподаватель истории Евгений Колбашев, художник-график Вадим Макашенец – придали изданию атмосферу, созвучную духу концертов «Рок-периферия’89», на которых и распространялись отксеренные в последний момент сто первобытно-непереплетенных экземпляров.
Спонтанный примитивизм внутри «ПНС» непроизвольно усилился жутчайшим цейтнотом на финишной стадии подготовки. «Такие мелочи, как исправление стилистических и даже орфографических ошибок, просто опускались нами как досадные условности. <…> Мудрено ли, поэтому… что сквозь тексты, снимки, рисунки явственно проступал совок?» – самокритично вопрошала редакция в «Увертюре» к следующему номеру, выпущенному через год, накануне фестиваля «Рок-Азия’90».
Фестиваль на сей раз был международным и, вообще говоря, весьма представительным – от флагманов магаданского рока до экзотических импортных проектов из Японии, Китая и Голландии. Прямо пропорционально уровню данной акции более глубоким и качественным получился и сам журнал.
В отличие от предыдущего выпуска, основная часть «ПНС» № 2 была подготовлена в одиночку Вадимом Макашенцем.
«Так получилось, что я начал излагать свои мысли на бумаге – брать интервью, писать статьи и т. д. Этим я занимался год, – вспоминает он. – Каждый раз, когда я заканчивал макет очередного листа, я обнаруживал необходимость продолжения. Я писал, не осознавая написанного; я хотел насытить информацией каждый миллиметр бумаги».
Помимо традиционных интервью с сибирскими рокерами и журналистами, номер содержал программную рецензию на барнаульский концерт «Дядя ГО» – «Гражданская Оборона», завершавшуюся характерной для Макашенца философской кодой:
«Это был триумф освобожденного человеческого духа, вырвавшегося на волю из-под вековой задавленности. Это было еще одним доказательством того, что сейчас русский рок – единственный рок в мире. Единственный потому, что чем больше у человека шансов стать грешным, тем больше у него шансов стать святым. И чем сильнее человека принуждают ползать, тем выше он взлетит».
Эта статья с симптоматичным названием «Пир во время чумы» обрамлялась с обеих сторон очередным апокалиптическим интервью с Егором Летовым, впоследствии продублированным в журналах «Сдвиг» и «Maximum Rock’n’Roll». Остальные блоки освещали события иногородних фестивалей («Череповец-90», Красноярск), знакомили с присланными из Владивостока переводами лирики «The Pogues» и «U-2», лучшими хитами общества «Картинник» и т. д.
Отксеренная с двойным уменьшением машинопись сопровождалась, помимо фотоснимков, запредельными рисунками Макашенца – «Плаха», «Падший ангел», «Осознанная необходимость»…
Любопытно, что уже после «Рок-Азии’90» часть тиража (примерно 50 экземпляров) распространялась в Питере и Москве на каких-то очередных фестивалях и рок-концертах. Номер имел определенный резонанс, и фрагменты из него затем неоднократно цитировались во всевозможной рок-прессе. Мало кто мог предположить тогда, что этот выпуск «ПНС» в итоге станет последним.
Однако больше журнал не выходил: слишком разными оказались пути-дороги его создателей. Русанов покинул «ПНС» еще в процессе подготовки второго номера, Колбашев профессионально занялся рок-менеджментом, а Макашенец стал идейным вдохновителем и автором текстов «Теплой трассы» – «первой в Барнауле группы летовско-неумоевского направления».
Возвращаясь к эпохе активной жизнедеятельности «Периферийной нервной системы», Вадим Макашенец оценил ее как «предтечу нашего нынешнего существования под видом рока… В нем – ключ к реальности, в которой мы все терпеливо умираем, пока человек надеется на чудо».
Р. S. Помимо «ПНС», в Барнауле издавался прекрасно оформленный андеграундный журнал «Графика».
БЕЛАЯ КАЛИТВА
КОЗЛЫ
1 номер: июль 88 г., 12 стр., маш./ксер.
Ред.: Иван «Вениамин Кац» Трофимов
Яркий пример «блестяще проведенной операции» ростовскими органами госбезопасности. Из 28 экземпляров тиража журнала 20 уничтожено в день выхода, один хранится в КГБ, 7 – ходят по рукам, причем один – где-то в Москве. В журнале освещалась «dark side» всевозможных «винтов» с критикой местных козлов.
БЕЛГОРОД
РОК-Н-РОЛЛЕР
4 номера: № 1 – 88 г., № 4 – 90 г., до 30 стр., тир. – 10 экз., маш./ксер.
Ред.: Евгений «Рок-н-роллер» Крамской
Откровенно слабое издание, безлико и неумно освещающее жизнь местных групп «Глиняный кот», «Пилорама КЗ», «Сталкер». Географическая близость к Харькову совершенно не повлияла ни на журнал, ни на белгородский рок-н-ролл, самым ярким событием которого, к примеру, в 89 году стал «уход в тину группы „РГМ“». «Сменил палочки на гитару барабанщик…» И так далее. Все, чем мы занимались, заключено в словах «не роком единым жив человече», а посему периодически в альманахе появлялись стихи, проза и публицистика. Чего мы добиваемся? – риторически вопрошала редакция.
– А ничего. Мы только хотим, чтобы нас читали». Не об этом мечтали Маркс и Энгельс…
БОКСИТОГОРСК
РОК-ПЕРИФЕРИЯ
Два номера: № 1 – сент. 87 г., 28 стр., тир. – 20 экз.; № 2 – дек. 88 г., 77 стр., тир. – 5 экз., маш. + фото
Ред.: Олег «Бродяга» Соколов, Ж. «Джордж» Русманов, О. «Лева» Левинская, Т. «Загариха» Загар
По словам редакции, таинственная история этого журнала скорее похожа на сон, который, в свою очередь, очень похож на историю. 31 августа 1986 года грандиозным концертом было ознаменовано торжественное открытие бокситогорского рок-клуба. Просуществовав менее двух лет, клуб, впрочем как и освещавший его достижения журнал, с успехом развалились за ненадобностью.
Но даже в этом болоте нашелся какой-то жук, умудрившийся подбросить в бокситогорский отдел культуры… черновики готовившегося к изданию первого номера «Рок-периферии». Следствием сей бериевской акции явилось ужесточение контроля над деятельностью клуба со стороны соответствующих кураторов, суета в вышеупомянутом отделе культуры и неприятности «по месту работы» главного редактора. После этих событий второй номер готовился уже в одиночку Олегом «Бродягой» Соколовым – «основным типографом, завфотоотделом, писателем, расклейщиком и т. п. одновременно». В отличие от предыдущего выпуска, «Рок-периферия» № 2 в основном посвящалась событиям ленинградской рок-сцены, поданным в литературно-романтическом ракурсе изголодавшимся по настоящему рок-н-роллу журналистом. По воспоминаниям редактора, «на продолжение не хватило сил… наступало Новое Время, но еще до сих пор вздымается рука над клавишами, возникают бухнущие папки с материалами и облизываются пересохшие от жажды творчества губы…».
БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ
МИЦАР
3 номера: № 1 – зима 92 г., № 3 – лето 94 г., 70 стр., тир. – 200–1000 экз., маш. + фото/ксер.
Ред.: Эд. Елисеев, А. Захарьянц
Напомним непосвященным в нюансы астрономии и географии, что Мицар – это одна из звезд Большой Медведицы, а Большой Камень – городок, расположенный на самой кромке Тихого океана.
Данный населенный пункт знаменит своими экологическими рок-фестивалями, собственно альманахом «Мицар» (аббревиатура – Музыкально-Информационный Центр Авангарда России), литературным фанзином «Апельсина» и рукописным журналом «Яквампишус», содержащим разножанровые художественные произведения учеников-старшеклассников местной гимназии.
Непосредственно сам «Мицар» представляет собой подборку разнородных статей о вышеупомянутых акциях, разбавленную мутными восторгами местных газет на ту же тему и бессистемными пресс-релизами восточноевропейских рок-групп.
БРАТСК
ЖИТИНСКИЙ № 7
4 номера: № 1 – лето 91 г., № 4 – дек. 91 г., 40 стр., тир. – 10 экз., маш. + фото/ксер.
Ред.: Сергей Анисин
Свое знакомство с Братском заезжие туристические группы по доброй традиции начинают, как правило, с посещения и осмотра местной ГЭС. На наш нестрогий взгляд, подобный выбор маршрута в корне неверен, так как основной достопримечательностью города является, казалось бы, обыкновенный самиздатовский журнал.
Путешествие по его страницам мы начнем с мини-рецензии на альбом «Калинова Моста» «Выворотень»:
«Когда-то Нопфлер сказал, что хочет написать песню, после исполнения которой воцарилась бы тишина. Не в смысле плохо, а… Короче, понятно. Так вот, тут целый альбом. Длительное молчание Ревякина вылилось в совершенно потрясающее Нечто. Полное осмысление придет потом, а сейчас как раз именно ТО молчание».
…«Житинский № 7» – это типичный фанзин, издаваемый студентами братских вузов, коих судьба из этих самых вузов периодически выкидывает, а затем благополучно возвращает на место. Первые выпуски журнала были слегка сыроваты, изобиловали плотной ненормативной лексикой (в отношении местных групп «Мисс Марпл» и «Красная Книга») и откровенными наездами на рискнувшие выступить в Братске рок-н-ролльные легенды:
«БГ – не старая галоша, а что-то типа поношенных лицензионных кроссовок, которые любишь уже как-то по привычке, да и выбрасывать жаль».
Но основную изюминку в контексте города Братска содержали изысканные перепечатки из раритетного сибирского рок-самиздата, в частности «Истории ГО»[9] и интервью с Романом Неумоевым[10].
Приблизительно к четвертому номеру количество затраченных на редактуру усилий перешло в качество журналистских публикаций – в «Житинском № 7» наконец появилось собственное электрическое поле:
«Мы сознательно не ставили перед собой задач просвещения и являемся, по сути, эдаким сборником сугубо личных впечатлений по разным поводам. И все, что хотелось бы, – это быть неким цветным стеклышком во всей разноцветной мозаике самиздата».
От себя заметим, что в данном журнале, несмотря на легкую нервозность и «детскую болезнь матюгизны», есть и любовь, и солнце, и воздух. А значит, есть чем дышать…
«А Житинский – это не фамилия вовсе, это такое волшебное слово, почти как «бошетунмай»».
ВАРШАВА
ВIДРИЖКА
7 номеров: № 1 – конец 1987 г., № 6/7 – весна 1991 г., 44 стр., тир. – 500 экз., комп. + фото + граф./ксер., на укр. языке
Ред.: Вл. Наконечный
История, рок и судьба распорядились так, что многочисленные осколки нации оказались разбросанными вдали от родины-нэньки – в Канаде, Австралии, США и, конечно же, в Польше.
После того как в последнее время граница между Украиной и Польшей стала достаточно условной, на зов предков ринулись обе стороны: толпы коммерсантов, «деятелей культуры», мелких авантюристов – «як усе не з'iм, то хоч трохи понадкусую». Ринулись в Польшу и многочисленные рок-группы: «Иванов Даун», «ВВ», «Коллежский Асессор», «Банита-Байда», «Сахар – белая смерть» – нет им числа. В огороде бузина, а в Киеве… Как вы правильно заметили, все они родом оттуда.
«Вiрижка» – журнал, издаваемый в Варшаве союзом польских украинцев (входящим в «их» совет нацменьшинств) и в основном посвященный укркультуре как таковой. Наряду с философией, утонченной эротикой и нюансами национального фольклора исследуется и укрязычный индепендент – благо материал под руками и ездить далеко не надо. Помимо наших туристов в журнале скрупулезно изучается укррок всего мира – в частности, «Идиот Годе» и «Юкрэйнианз» (Англия), «Осэлэдэць» (Канада) и другие.
Ряд названных групп в свое время выступил на андеграундном фестивале «Украинские ночи» в Гданьске, который проводился как альтернатива пресловутому «Сопот». Последний характеризуется в журнале как «фестиваль издевательств над укркультурой».
…Что же касается остальных материалов, то они, как правило, напоминают талантливую попытку украинизации сознания во вселенной.
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
ЛЛОР-Н-КОР
31 номер: № 1 – май 1986 г., № 31 – апр. 1994 г., 4 стр., тир. 10–30 экз., маш. + фото/ксер.
Ред.: Г. «Дядя Джи» Моисеенко, Н. Моисеенко, Е. Моисеенко, А. Сидоров (до № 6)
Идея создания первой и единственной на последующие два года рок-газеты России возникла еще осенью 1985 года. Возможно, что толчком к этому послужило знакомство будущего редактора «Ллор-н-кора» Дяди Джи с Колей Васиным, ибо, побывав в его квартире-музее «Битлз», невозможно не заразиться какой-нибудь сверхидеей на благо соврока. Совместно с А. Сидоровым (обитавшим тогда на берегах озера Ильмень, а позднее в Москве: «Метал Хаммер», «Московский комсомолец», «Рок-Сити» и т. д.) был составлен ряд прожектов – от переорганизации газеты в рок-бюллетень до выпуска чисто металлической газеты «П-Молот». Пока Сидоров в течение полугода находился в душевном согласии со своими планами, Дядя Джи, вконец отчаявшись и на все плюнув, накатал несколько заметок; затем, снабдив их фотографиями, придумал названия и все это наклеил на лист ватмана с предварительно расчерченной шапкой.
Купив килограмм конфет, он отдал свое творение на ксерокс в организацию N, долго пуская слезу перед недоумевающей и трясущейся сотрудницей, обещая, что все будет шито-крыто.
Получив 2 мая 1986 года десяток экземпляров «Ллор-н-кора», Дядя Джи поставил Сидорова перед фактом выхода газеты.
Несмотря на множество недостатков, «Ллор-н-кор» уже тогда выделялся среди общей массы рок-изданий уникальной системой дистрибьюции. Распространялась газета по почте в конвертах с нечеткой печатью и с неподписанным обратным адресом: в родном городе на раннем этапе «Ллор-н-кор» хождения практически не имел.
Рок-жизнь в стране кипела в полную силу, и первые пять номеров выходили с завидной регулярностью – раз в месяц. В газете сложилась редколлегия из трех человек. По истечении первых пяти безоблачных месяцев «Ллор-н-кор»… прекратил существование. Не вдаваясь в подробности этой темной истории, отметим зловещую роль одного из членов тогдашней редколлегии в том, что Дядя Джи отправился отдыхать на неопределенный срок… в колонию усиленного режима. В течение двух лет главный редактор «Ллор-н-кора» так и не знал (если не считать официальной версии) за что.
«Я давно на все это плюнул, и если меня посадят еще раз, я нисколько не удивлюсь».
После выхода Дяди Джи из колонии газета стала издаваться вновь. Пострепрессионный период ознаменовался для «Ллор-н-кора» явным улучшением информационного качества (интервью с Задерием, Ал. «Макетом» Дегтярем и т. д.). Львиная доля материалов отныне посвящалась рок-жизни на периферии (поселок Лазаревское, Туркестан, Великие Луки, Орехово-Зуево, Саратов, Хабаровск, Ярославль, Псков). Не отрицая факт наличия рока в Питере (существуют питерские спецвыпуски), газета чуть ли не единственная из динозавров самиздата наглухо блокировала своим вниманием… московский рок. О нем в «Ллор-н-коре» нет ни слова.
Вместе с тем на своих страницах «Ллор-н-кор» пытается искренне и честно бороться со всевозможными негативными моментами в русском роке. В частности, газета активно выступает против:
• употребления рок-прессой инвективной лексики;
• действий ОМОНа на рок-концертах (например, на «Алисе» в Питере, на Дне города в Пскове и т. д.);
• защиты сексуальных меньшинств. Дядя Джи даже отказался подписать знаменитое письмо в защиту гомосексуалистов и лесбиянок, составленное Веселкиным (несмотря на то, что в числе подписавшихся были такие издания, как «РИО», «Контр Культ Ур’а», «Гучномовець» и примкнувшая к ним газета «Энск»).
…В июне 1992 года братиславская газета «Смена» опубликовала ретроспективный материал «Дядя Джи сидел два года» с весьма оптимистичным резюме в финале. Чешские коллеги не знали, что ровно через две недели после выхода статьи Дядя Джи будет избит во время концерта на Дне города псковским омоном за «вмешательство в действия».
Так что за последние несколько лет вокруг нас, по сути, мало что изменилось.
«В этой стране не бывает зимы, как, впрочем, и весны, и лета. Это страна вечной осени. И будет ли воля Божия на Весну – нами не знамо. И не дано никому предсказать будущего, и только упование на любовь даст нам силы не рехнуться окончательное («Ллор-н-кор» № 24).
ПЕРГАМЕНТ
5 номеров: № 1 – весна 93 г., № 5 – зима 94 г., 10 стр., тир. – 20 экз., рук. + комп. набор + граф. + фото/ксер.
Ред.: Игорь «Хэви» Ракчев
Малозначительный десятистраничный орган местной группы «Цербер», выходящий с 1993 года и в основном посвященный региональному хард-н-хеви. Характеризуется наличием комиксов и бойких графических иллюстраций – на фоне лошадиных доз крестьянского юмора, поданных читателю в жесткой металлической упаковке.
ВЕНТСПИЛС
ЕРЕСЬ
9 номеров: № 1 – дек. 88 г., 10 стр., тир. – 6 экз., комп.,№ 9 – осень 91 г., 80 стр., тир. – 12 экз., маш. + граф. + фото + коллаж/ксер.
Первая ред.: А. «АС» Штатский, Ю. «В. Бастен» Нагайцев, Стэк, А. Лебедев
Вторая ред.: А. «АС» Штатский, С. «Сте» Струневский
В свое время среди идеологов музсамиздата была модна так называемая теория выживаемости. Суть ее сводилась к тому, что сильные журналы задыхаются уже к своему второму-третьему номеру («Вопросы Олигофрении», «Шумелаъ Мышь», «Контр Культ Ур’а»), а если этого не происходит, то журнал развивается лишь по инерции, паразитируя на старых приемах.
И наоборот – у изданий с малоинтересными первыми номерами при наличии известной доли «непотопляемости» в будущем весьма возможны определенные достижения.
По правде говоря, многое в этой теории вилами по воде писано (см. «Урлайт», «Сморчок»). Тем не менее ее вторая часть подходит к обозреваемой «Ереси» просто идеально. Если бы в самиздате, подобно футболу и хоккею, существовал «Кубок Прогресса», то в сезоне 91/92 его обладателем однозначно стал бы журнал из Вентспилса.
…Нынешний Вентспилс – это настоящая внутриреспубликанская кормушка, т. к. за счет порта в нем добывается до 70 % латвийской валюты. В итоге – комфорт, сытость и абсолютно не рижский микроклимат. Вроде бы не до рока, тем паче – не до самиздата…
Возвращаясь к предмету разговора, нелишне для сравнения вспомнить, что на протяжении первых шести номеров «Ересь» представляла собой всего лишь малоактуальный вариант очередных рок-н-ролльных «Аргументов и Фактов». С той лишь разницей, что в данном случае это было рок-обозрение с креном в рижские дела; пресловутым «духовным посланием» там и не пахло.
Все, что произошло потом, напоминало финал сказки про гадкого утенка. То ли сыграли свою роль изменения в составе редакции, то ли до нее дошла суть неудачи альянса с «Комсомольской правдой»[11]… А может, работающим над собой людям просто свойственно с течением времени взрослеть и расти вглубь. Короче говоря, все последующие номера не имели ничего общего со своими предшественниками. Давно не приходилось наблюдать столь разительный качественный скачок одного журнала за столь короткий промежуток времени.
Хотя начиная с седьмого номера около половины каждого выпуска посвящалось альтернативной музыке, узкие рамки рок-журнала остались для проекта где-то в далеком прошлом. Условно говоря, поздняя «Ересь» удачно синтезировала в себе особенности камерноэстетического самиздата с формами крайнего радикализма в их прибалтийском варианте. Что касается самой андеграундной культуры, то она в журнале исследовалась вдоль и поперек – от проблем русскоязычного музиндепендента до некрореализма, спонтанной эссеистики и радикально космополитических материалов.
Так как на финишной стадии журнал делался Андреем Штатским чуть ли не в одиночку, уместным видится наличие в нем дайджест-блока, содержание которого отличалось немалым вкусом: «Индекс», «Часы», «Фонограф», «Гумфонд», «Шумелаъ Мышь» и т. д.
По сравнению с изначальным бесцветным компьютером, до неузнаваемости изменился дизайн – утонченные коллажи с «двойным дном» и провокативные рисунки привели в равновесие форму и содержание.
Что касается менеджмента и дистрибьюции, то в целом «Ересь» оказалась одним из самых раритетных изданий, распространявшимся исключительно на экспорт в литературно-музыкальные круги за пределами Латвии.
К слову, фрагменты одного из последних номеров журнала были представлены на страницах нью-йоркского альманаха «Черновик», выпускаемого поэтом-авангардистом Александром Очеретянским.
ВЛАДИВОСТОК
ДВР
12 номеров: № 1 – весна 87 г., № 12 – лето 91 г., в среднем 100 стр., № 1–5 – тираж до 7 экз.; № 6–8 – тираж до 20 экз.; № 9–12 – тираж до 150 экз.; № 1–5 – маш., граф.; № 6–10 – ксер.; № 11, 12 – комп., ксер.
Ред.: Максим Немцов («Мх», «А. Архипов», «А. Андреев» и др.), Ольга «Чудненко» Немцова, А. Воронин, Мих. Павин
Практически первый дальневосточный рок-журнал, возникший осенью 86 года с целью осмысления рок-ситуации на Дальнем Востоке и основных тенденций рок-музыки в стране»[12].
Первоначально проект назывался «Фуникулер» и носил функции типичного фанзина Владивостокского рок-клуба, существовавшего в городе чуть ли не с 1984 года.
Загадочная «инициативная группа», принимавшая участие в создании «Фуникулера», состояла из четырех человек, сыгравших впоследствии основную роль в истории «ДВР».
К тому времени один из будущих редакторов журнала Максим Немцов, закончив учебу на факультете английской филологии Дальневосточного университета, работал по распределению в местном морском пароходстве, совмещая тем самым приятное с приятным и полезное с полезным.
Второй редактор – Ольга Немцова – еще находилась на стадии сдачи зачетов и экзаменов по программе IV курса филологического факультета вышеупомянутого учебного заведения.
Игорь «Дэйв» Давыдов был председателем джазовой секции, обладателем прекрасной фонотеки и, по совместительству, научным сотрудником Дальневосточного политехнического института.
Последним членом редакции и автором названия «Фуникулер» стал Александр «Дема» Демин – «интересный блюзовый исполнитель»[13], окончивший отделение японской филологии и карьеру моряка почти одновременно – «за скандальную связь в Сингапуре с Тиной Тёрнер».
…Владивостокский рок-клуб, несмотря на бурное боевое прошлое (включавшее в себя и «годы подполья», и неоднократное участие в первомайских демонстрациях), реально представлял собой «всего лишь кучу народу, которые рады друг друга видеть и раз в неделю ходят пить кофе в один и тот же подвальчик»[14]. По большому счету местных «Синдромов» и «Антициклонов» в городе, увы, не наблюдалось.
«Когда мы начинали делать журнал, – вспоминал через несколько лет М. Немцов[15], – наше отношение было такое: „Да, конечно, во Владивостоке ничего нет, все дерьмо. Все мы в нем сидели. А вот не попытаться ли нам сделать из подобного дерьма конфету?“»
В результате первые два номера (с июля 1987 года «ДВР») были органично ориентированы исключительно на местную рок-сцену с акцентом на описание и осмысление первых крупных домашних рок-акций. (Интересно, что впоследствии одна из статей подобного плана о владивостокском рок-н-ролле несколько неожиданно всплыла в Москве – в виде пиратской перепечатки в журнале «Зомби».)
Часть материалов в ранних «ДВР» была связана с питерской тематикой. Непосредственно на ней специализировался Михаил «П. Пилатов» Филатов – один из первых азиатов, совершивших в 83–84 годах паломничество на квартиру Гребенщикова… Легенда гласит, что странник был радушно принят в конечной точке маршрута с распитием на кухне экзотического напитка «грузинский чай». Под впечатлением этого тура спустя несколько лет Филатов покинул городскую суету и выехал за пределы Владивостока «назад к корням» в деревню с целью выращивания разнообразных цитрусовых культур.
Оставшаяся же в черте города редакция к концу 87 года выпустила «ДВР» № 3, который «по уровню отражения рок-н-ролльной жизни страны был для своего времени достаточно крут»[16].
Дело в том, что осенью 1987 года в столицу Приморья впервые нагрянул настоящий рок.
Первым дебютировал «Телевизор» – в забитом публикой большом зале, на приличном аппарате, с хорошим звуком и со своей гиперреволюционной программой. По воспоминаниям редакции, «это было потрясение»…
Затем, после концерта, последовало групповое интервью с Борзыкиным, которое пошло в номер без литературной обработки со всевозможными «а-а» и «э-э».
«Шоком номер два» стал приезд «Алисы». Причем не только концерт, но и простое человеческое общение с Кинчевым. Небезынтересно, что спустя всего три года «ДВР» после вторичного налета группы посвятил ей следующие строки:
«Если раньше концерт „Алисы“ был словно глотком чистого воздуха в провонявшем портянками подвале, если раньше он передавал опыт, который был просто бесценен, то нынешнее шоу стоило ровно столько, сколько мы платили за вход. Три рубля и ни копейки больше, исключая стоимость Костиных бутафорских сапог».
В связи с гастролями «Алисы-87 в «ДВР» № 3 имела место крайне нетривиальная публикация – похищенная с Дальневосточного Радио («ДВР»!) расшифровка не вышедшего в эфир интервью с Кинчевым, представлявшего собой многостраничное хамское издевательство Константина над глупой владивостокской радиожурналистикой[17].
Осеннюю рок-вакханалию 87 года во Владике завершали «Звуки Му»: дежурное интервью с Мамоновым было взято лидером группы «Туманный Стон». Л. Штиттельманом и содержало подчеркнуто серьезные и спокойные рассуждения московского мэтра «про дискотеки».
И наконец, венчали этот «хитовый» номер критический отчет спецкора «ДВР», легендарного Дрюли, о фестивале в Подольске и размышления о творчестве Умки & Юрия Наумова.
«ДВР» № 4 стал чем-то типа «подведения первых итогов». К тому времени стабилизировался состав редколлегии (Ольга и Максим Немцовы, фотохудожники Алексей Воронин и Михаил Павин) и определились основные принципы редакторской политики:
«а) печатать материалы, отражающие любые точки зрения, могущие способствовать развитию и укреплению ДВРока к его вящей славе;
б) не печатать ничего, что может привести к расколу нашего домашнего рок-движения» [18].
Номер по традиции посвящался внутрирок-клубовским делам с акцентом на «зарубежные гастроли» местных групп по Дальнему Востоку. Остальные события были «разбросаны» в соответствии со строгой системой рубрикаций: «Вести из-за» – понятно, «У Дерсы и у Залы» – обзор концертов в стиле «РИО», только поинтеллектуальней; «Рекордз энд Тэйпс» – владивостокские магнитоальбомы; «а/я 690» – письма читателей; «Владивостокские хроники» – что-то типа «Сплетеня» в «Рокси»; «позиция ОП» – публикация спорных суждений и так далее.
…«ДВР» № 5 ознаменовался дебютом нового автора:
«В ночь накануне XIX Партийной конференции Система наводила макияж. Точно девица перед смотринами, она подкладывала ваты под корсаж, подводила тушью бельмо на глазу и спешно удаляла больные зубы»[19].
Так начиналась статья Димы «Дум Думыча» Коваленина – видной личности, нарытой редакцией на восточном факультете все того же университета. Окончив его, Коваленин отбыл на стажировку в близлежащую Японию, откуда начал бомбить журнал «Письмами из Хиппонии» – первой попыткой перехода в культурологическую стилистику мышления.
В это же время Ольга и Максим Немцовы разрабатывали в издании две дополняющие друг друга стратегические линии. Макс тяготел к переводным материалам и небольшим рецензиям, Ольга – к интервью и крупным академическим статьям. На тему всевозможных внутренних конфронтаций «ДВР» № 5 опубликовал следующую байку:
«Редакционная политика и степень несхожести взглядов скоро, видимо, приведут к тому, что во Владивостоке будут издаваться два совершенно независимых журнала: „ДВР Ж“ и „ДВР М“».
Вообще говоря, с точки зрения редакции, отличительной чертой всех номеров данного периода было то, что они «представляли собой именно продукт самиздатовского творчества – то есть обладали упрощенной пишмашиночной графикой, монтировались в папки-скоросшиватели и так далее»[20]. Первые пять выпусков являлись не только подборкой машинописных страниц со вклеенными черно-белыми фотографиями артистов, но и изобиловали разнообразными пространственными гэгами и дизайнерскими трюками. В иллюстративной плоскости особенно выделялись оригинальные фотоплакаты Михаила Павина и мастерские концертные снимки Алексея Воронина.
«„ДВР“ в своей работе сознательно пытается делать ставку на фотографию авторскую, художественную, не гнушаясь, безусловно, и хроникой… „ДВР“ № 4 со страничными вкладками – это тот путь, который нам ближе, – декларировала редакция свой принцип в одном из поздних номеров. – Фотограф – соавтор журнала. А журнал – соавтор фотографа».
По словам О. Немцовой, «общие концепции и детали дизайна придумывались всеми вместе… Воплощение всех этих идей в жизнь втроем-вчетвером, без машинисток, „завскладом“ и так далее граничило с фанатизмом». Вести такое натуральное хозяйство даже при тиражах «до 10 экземпляров» было весьма непросто, поэтому начиная с шестого номера журнал начал выходить в ксероксном варианте.
Помимо перехода к новым светокопировальным технологиям, № 6 ознаменовался качественно иным региональным охватом и явно выраженными признаками ухода из детства.
«Это легко – стебать, куда труднее найти выход из сложившейся ситуации, когда все приходится мерить на себя впервые, и ощущение от этого – такое же, какое у человека, всю жизнь сидевшего в темноте и впервые попавшего на солнце»[21].
Иной региональный охват прежде всего был связан с появлением творческих контактов с киевской «Рок-Артелью», возникших вследствие поездки О. Немцовой «в Европу» в составе учительско-ученической делегации «по обмену опытом». Результатом обмена стали гастроли «Рабботы Хо» во Владивостоке и дальнейшие продуктивные отношения между «ДВР», киевским «Гучномовцем» и ивано-франковским журналом «Гей-Гоп» (проект «Восток-Запад»).
Помимо материалов, прямо или косвенно связанных с «Рабботой Хо», «ДВР» № 6 подробнейшим образом осветил поднимающий голову магаданский рок и события вильнюсского фестиваля «Литуаника-88». По словам редакции, «к этому времени „ДВР“ окончательно перестает быть печатным органом Владивостокского рок-клуба и все больше начинает становиться самим собой».
«Местная сцена, как это ни грустно, не заслуживала тогда глубокого внимания» (О. Немцова).
«Все проблемы шли оттого, что мы никогда всерьез не относились к тому, что делаем. Поэтому не было особых иллюзий в области того, чем мы занимались, в частности владивостокского рока. Но было очень сильное желание выдавать желаемое за действительное и тем самым подтягивать реальность до состояния этого мифа»[22] (М. Немцов).
Два последующих номера, вышедших друг за другом с недельным интервалом a la «Досуг в Москве» явились логичным завершением второго периода в истории журнала – «периода Нелегального, но Бесплатного Ксерокса».
В журнале продолжается создание различных криптосоциальных структур[23], публикуются уже упоминавшиеся «Письма из Хиппонии», произведение А. Демина «Книга про повадки разных зверей», размышления Э. Курятниковой о творчестве Ю. Морозова (дискуссии о котором велись в «ДВР» на протяжении целых четырех номеров).
Параллельно потихоньку были возведены в ранг местных рок-н-ролльных икон Дема, Дейв и Леня Бородин – первый справедливо избранный президент Владивостокского рок-клуба. Большая часть «Владивостокских хроника» как раз и была посвящена жизни и деятельности этих замечательных (не только по дальневосточным параметрам) людей.
Но настоящей миной замедленного действия стало погружение редакции в пучины советского панк-рока. Кроме уникального интервью с барабанщиком «Гражданской Обороны» Аркашей Климкиным (о всевозможных винтах группы и борьбе с гопниками), в «ДВР» № 8 был помещен отчет о дебюте группы «Коба» на владивостокской рок-сцене:
«Ник… всего-навсего свежим пивом полил себя и первый ряд, шваркнул бутылку о сцену и слегка порезал себе щеку зеленым бутылочным стеклом. Но зато он пел!
…Никогда еще у американского романтика XIX века Эдгара Аллана По не было столько поклонников в среде владивостокской молодежи. Его „Улялюм“, сопровождаемая белым шумом, исполняемым Кэролом на микрофоне, была встречена овацией, какой не провожали даже „Нам приходилось плевать на историю“, которую Ник посвятил рок-клубовской мафии»[24].
Завершал панковский блок основополагающий материал О. Немцовой «К вопросу об эстетике панкам, который впоследствии был оценен автором в русле тезиса «филологи победили тусовщиков»:
«При нищете событий и отдаленности источников информации нам оставалось только одно: думать. Мы росли и росли, и вдруг, как-то незаметно, в „ДВР“ произошел резкий скачок от уровня фанзина до культурологического журнала».
Примерно в это же время происходит знакомство О. Немцовой с представителями московского андеграунда – в частности, с редакцией новорожденного журнала «Контр Культ Ур’а».
В узкие околоурлайтовские круги номера «ДВР» попадали по почте и, в общем-то, были достаточно хорошо известны. Тем не менее попытка О. Немцовой напрямую познакомиться с «Урлайтом» чуть не завершилась поражением одновременно с исторической фразой одного из редакторов журнала: «Ну и чего вы, девушка, собственно говоря, хотите?»
В результате процесс общения материализовался в издание двух последующих номеров «ДВР» в Москве на полиграфической базе «Контр Культ Ур’ы».
Эти выпуски были призваны познакомить с «ДВР» более широкую читательскую аудиторию; часть материалов была написана специально с общеобразовательными целями, часть (в № 9) – взята из предыдущих номеров. Автором дизайна обоих номеров был А. Волков («Контр Культ Ур’а»).
Из концептуальных редакторских программ того периода следует отметить два заявления, по традиции удачно дополняющих друг друга:
«От рок-музыки мы уже оттолкнулись двумя ногами, хотя она была нашей изначальной почвой»[25].
«Мы решили в очередной раз интегрироваться в «рок-сцену» (которая не отпускает все равно). Нам ничего не остается, как пуститься по накатанной колее субъективной описательщины, так как это любимо с давних времен. Чего от нас и ждут, собственно говоря»[26].
Оценивая «московский промежуток» развития «ДВР», Макс Немцов так прокомментировал данный этап: «В 9-м номере была статья «От Токио вверх и налево» – очень трогательная попытка синкретического мифа… Несколько лет подряд мы занимались подобным мифотворчеством, пока не начали уставать. Поэтому последние два года у нас прошли под знаменем полнейшей демифологизации».
Также характерным моментом для «ДВР» стало скрупулезное изучение серьезной англоязычной литературы и текущей западной рок-прессы. Все поздние номера журнала изобиловали художественными переводами М. Немцова – причем не только из свежих выпусков «Melody Maker», «New Musical Express» или «Time», но и эпохальными материалами Контр Культурного и культурологического плана (Robert Pirsig, Suzanne Sontag и др.).
…Одиннадцатый номер «ДВР» подвел закономерный итог пятилетнему развитию и обозначил новые творческие рубежи сотрудничества и внутренней организации материала в области прикладной культурологии.
Рок-часть этого выпуска[27] содержала обзор череповецкого фестиваля «Рок-акустика» – в ходе его видеооператором «ДВР» Дмитрием Стрижковым[28] был снят видеофильм, фрагменты которого впоследствии демонстрировались в «Программе А».
К концу 1990 года журнал по всем критериям вышел на мало кому доступный профессиональный уровень. Казалось, еще немного, и…
О. Немцова: «Мы переросли кустарный период и знали, чего хотим. После общения с „Контр Культ Ур’ой“ мы пошли своим путем и созрели для чего-то своего. Напрочь ушла тусовка, появилась серьезная редакторская и дизайнерская работа, халява свелась к минимуму… Если бы тогда кто-то вложил в нас деньги… Но… не случилось. Мы захлебнулись в проблемах».
М. Немцов: «Владивосток немножко не такой город, каким мы его пытаемся представить. Питерских революций в нем явно не будет, московского интеллектуализма тоже, как и свердловской музыки. Действительно, были у нас статьи о наличии в воздухе некоего „оттяжного начала“. Написано наполовину по наитию, ведь пощупать это не удавалось. Чувствовалось, что есть что-то такое. Перефразируя известное замечание, народ обладает тем рок-н-роллом, которого заслуживает. Последний „ДВР“ мы сделали тиражом 100 экземпляров. Всем давно стало понятно, что фраза „из всех искусств самым важным является рок-н-ролл“ – полный бред. И все, что к нему относится, не должно выходить большими тиражами. Если журнал, то 100 экземпляров вполне достаточно. Получилась неплохая подарочная штучка. Наше последнее „прости“. Ведь уже совершенно ясно, что время такого самиздата прошло»[29].
Несмотря на проанонсированный в «ДВР» № 12 следующий выпуск, последнего не последовало. Беспримерная пятилетняя история журнала завершилась.
В 1992–1993 годах Ольга Немцова работала в фирме «FeeLee Records» и в «Программе А», а затем переехала в Санкт-Петербург; у Максима Немцова вышла книга-перевод «Тарантул» Боба Дилана, готовятся к изданию два эссе Олдоса Хаксли и «Нова экспресс» Уильяма Берроуза. Герои самиздата осваивают новые жизненные пространства…
ДИЛЕТАНТ
(и его приложение «Провинция»)
12 номеров: № 1 – 87 г., № 12–89 г., в средн. – 25 стр., тир. – 5 экз., маш. + граф. + фото/ксер.
Очень солидное и уважаемое издание владивостокских графоманов и политоманов. Иногда (не без помощи «ДВР») внутрижурнальная цензура пропускала небольшие рок-н-роллы.
ШТУЧКА
9 номеров: № 1 – авг. 1988 г., тир. – 5 экз.; № 9 – июль 1992 г., 40–70 стр., тир. – 30 экз.; маш. + комп. + фото + граф. + рукоп./ксер.
Ред.: Эллина Курятникова, Наталья «Барабашка» Баранова, Марина Голенева (фото), Слава «КПСС Жегалов (до № 4)
«Утром я проснулась с легким блэк-догом в голове и отправила всех на завтрак, сказав, что буду краситься».
Перед тобой, читатель, типичный фрагмент так называемого фестивального рок-репортажа, органично вписывающийся в контекст такого неординарного явления, как журнал «Штучка». Пожалуй, немного найдется в данной энциклопедии изданий, в которых живая девичья непосредственность была бы выражена столь самобытно. Прибавьте к этому адекватный содержанию героический изобразительный ряд – и вы получите нестрогие контуры одного из самых милых авторскому сердцу журналов.
…Идея создания «Штучки» зародилась в 1988 году, когда гастролировавший во Владивостоке Рикошет обозвал местную гордость – «ДВР» – «еще одним „Рокси“». Злые языки поговаривают, что «тогда „ДВР“ не был слишком заумным», но все же трио юных барышень, две из которых фотографы, а две – начинающие журналистки (sic!), решили организовать свой оппозиционный журнал.
Название сего музлитературного проекта было придумано Славой «КПСС» Жегаловым и создавало в дальнейшем широкое поле для разнообразных аллюзий и фантазий.
На самом старте «Штучка» вовсю пестрила необузданными тинейджерскими эмоциями на темы заезжих рок-знаменитостей («ЧайФ», «Алиса», «Раббота Хо») и повальным увлечением редакции «говорить о самом сокровенном через стебалово». В этот период ситуацию частично спасали умилительные карманные параметры издания и свежесть дизайнерских решений – дорогие цветные суперобложки дополнялись качественными фотоснимками, оригинальной графикой, наклейками и, позднее, разношрифтовым лазерным набором.
…Примерно после третьего номера Слава Жегалов отходит от издательского процесса, и журнал становится чисто дамским. «Женский ум лучше многих дум» – это как раз из данной оперы. Переболев тусовочным синдромом традиционных рок-репортажей, два основных автора – Лина Курятникова и Наташа Баранова – плавно меняют курс издания на «немалый тупой угол». Разнообразные стилистические эксперименты постепенно превращают лиричную девичью тетрадку с вклеенными фотографиями в нечто принципиально иное.
Исследование этого процесса выглядело в интерпретации самой редакции следующим образом:
«Товарищи! Мы – бабы. Это автоматически подразумевает, что эмпирическое восприятие у нас доминирует над рационалистическим осмыслением происходящего. Поэтому найти в „Штучке“ детальный анализ глобальных проблем чего бы то ни было – такая же безнадега, как искать в „ДВРе“ смешную статью. И поскольку читатель вынужден потреблять опосредованную информацию, наша задача сводится к тому, чтобы опосредовать ее как можно прикольнее».
Итак, после концептуального ухода от рок-публицистики на страницах поздней «Штучки» (№ 7–9) вовсю начинается разгул всевозможных форм свободной журналистики: обратные переводы с английского на русский (см. с. 720), стилистические пародии, публикации внутриредакционной полемики в форме «открытых писем» (см. с. 718) и фирменные коды к рассказам типа «не хочу больше писать».
Тем не менее на самом пике своего взлета журнал завершает активный выпуск номеров. Мы не будем останавливаться на экономических и идеологических причинах распада редакции, а лишь познакомим читателей с атмосферой рабочих моментов фотосъемки очередной заезжей рок-группы.
– Вова, ты бы не мог еще раз поваляться на сцене? А то мы не успели зарядить вспышку…
– Ладно. Валяться буду на «Шабенине». Будет «Сибирский тракт», а потом «Шабенина»… После второго куплета и буду валяться.
Так просто и доверчиво создавались шедевры визуального ряда журнала, снискавшего ему славу одного из самых трепетных изданий отечественного рок-самиздата.
ВАВИЛОН
Один номер: весна 92 г., 11 стр., тир. – 10 экз., комп. + фото/ ксер.
Ред.: В. Слабинский, П. Кушнарев
Буквально в тот самый момент, когда всех китов дальневосточного рок-самиздата вынесло мутной волной на твердый грунт материка и уже начинало казаться, что все романтическое в этой жизни безвозвратно уходит, на горизонте объявилась та самая воспетая БГ «молодая шпана».
Причем – в лучших традициях. Полная анонимность: некие загадочные школьники втихаря и без помпы зарядили новый журнальный проект, где в типичном вавилонском ключе «смешались в кучу кони, люди»…
Пока что «ЧайФ», Башлачев, «Сектор Газа», БГ и «Туманный Стон» стоят в журнале чуть ли не в одном ряду, а «Шабаш» оценивается как «самый крутой концерт за все время существования „Алисы“».
Не будем спорить: в конце концов, «Вавилон» – он и есть «Вавилон».
ВОРОКЕЖ
ВоРОКеж
4 номера: № 1 – янв., 88 г., 20 стр., № 4 – нач. 89 г., 20 стр., тир. 20 экз.
Ред.: Евгений Куцевич, Альберт «Красный Огурец» Попов
Помните ли вы, что наяривал в свое время на всяких там клавишах поляк Чеслав Немен? Да воронежские частушки, блин! «Елочки-сосеночки, зеленые-колючие, в Воронеже девчоночки веселые-певучие!»
Не знаю, как с девчоночками, но славные традиции легкого стеба нынче, похоже, в тех краях утеряны напрочь.
Вот и по нашему вопросу: «ВоРОКеж» – всего лишь очередное добросовестное околачивание местных пальм. Тщательное, по-видимому, с наилучшими намерениями, но тем не менее до смерти скучное.
ОК’ЭЙ, ЖЛОБ!
5 номеров: № 1 – авг. 89 г., № «О» 90 г., ксер., 20 экз.
Ред.: Евгений Куцевич, Альберт «Красный Огурец» Попов
«Жлоб», по утверждению В. И. Даля, – «житель Воронежской и Тамбовской губернии» (г. Липецк до 1956 года входил в Воронежскую область). Редакцией усиленно пропагандируются лидеры «жлоб-рока»: «Сектор Газа» и «Красный Огурец». Первые (если верить «Московскому комсомольцу») – наиболее записываемая в 91–92 годах в студиях звукозаписи группа, и этим все сказано. Что касается «Огурца», то это феномен «Гленн К. наоборот», то есть его музыкальная ипостась значительно веселее журналистской.
ГРИФ
Один номер: 90 г. 26 стр., тир. – 14 экз., комп.
Ред.: неизв.
Тоскливый рок-дайджест «для жлобов», безуспешно пытающийся ликвидировать массовую безграмотность в вопросе изучения жизненных биографий культовых фигур русского рока.
ВОСКРЕСЕНСК
ШТИРЛИЦ
Три номера: № 1 – апр. 91 г., 50 стр., тир. 50 экз.; № 3 – нач. 93 г., 80 стр., не тираж., комп. + рукоп. + граф. + фото + коллаж
Ред.: Алексей «И. Халин» Марков, Наталья «Марк Н.» Маркова (набор, дизайн), Юстас (сборный персонаж), Д. «Джон» Татаренко (графич. постеры), Анна «Энни Двуногая Смерть» Калинина (набор)
В начале девяностых годов это был чуть ли не единственный рок-журнал, редакция которого целенаправленно занималась сбором архивных материалов, прямо или косвенно связанных с жизнью и творчеством Яны Дягилевой, Умки и Александра Башлачева. В результате настойчивых поисков в распоряжении Алексея Маркова (экс-президент Воскресенского рок-клуба) и Натальи Марковой (лидер групп «Кухня Клауса» и «Двуречье») оказалась наиболее полная подборка статей, фото- и аудиоматериалов, текстов неизвестных и малоизвестных песен данных авторов.
Косвенным следствием подобных исследований стало создание специального номера, целиком посвященного творчеству Янки. Этот выпуск был подготовлен через несколько месяцев после ее смерти и, по определению редакции, возник «не из желания „делать журнал", а скорее как подсознательное стремление хоть как-то, хоть в чем-то „вещественно-материальном" оставить Янку здесь».
«Естественно, мы понимали, что она и без наших потуг обойдется, но…»
…Вступление к самому выпуску гласило, что «номер второй[30] возник из печальной необходимости собрать под одну обложку хотя бы немногое из прессы, связанное с Яной при ее жизни, и то, что стало появляться после смерти». После смерти и впрямь «стало появляться» многое. Какие-то левые сборники, несуществующие альбомы, разговоры о «фактах биографии», «фестивали, приуроченные к дате» и т. д. и т. п. Как верно заметил один из журналов[31], «такой андеграундный вариант того, что они сделали с Цоем».
На этом «выигрышном» фоне данный номер «Штирлица» (который, по оценке редакции, «не являлся концептуальным продолжением „Штирлица“ № 1») оказался одной из немногих честных попыток разобраться не только в том, «каким человеком была Янка», но и в самих себе – «встряхнуть основы», остановиться на бегу и оглядеться но сторонам.
«Что ж, видимо, так оно и должно быть – не сразу попадают в резонанс струнам коченеющие да костенеющие души наши. Пока их отогреешь, разбудишь, растормошишь… А очнулись – и больно стало: нет уже человечка. „Никогда“ и „навсегда“ переплелись своей страшной вязью, болотной осокой с камышами, тиной да ряской сошлись над головою…»
Сам номер содержал практически полную подборку статей о Янке из самиздатовской и официальной прессы, стенограммы радиопередач, неизвестные тексты песен, уникальные фотоснимки. Из оригинальных материалов (статьи А. Маркова, М. Тимашевой, Дм. Десятого) выделялось многостраничное интервью с Ником («Откровение от Ника»), взятое А. Марковым примерно через месяц после гибели Янки.
В этом интервью несколько неожиданно всплыла фраза СашБаша «нужно жить так, как если в соседней комнате умирает твой ребенок». Понятно, что, несмотря на доверительный тон, и само интервью, и весь номер в целом оказались пропитаны депрессивным духом и состоянием общей удрученности. В подобном контексте разговоры «о журналистских находках» и прочих «творческих удачах» неизбежно отпадают.
«Глупость определений исходит из глупой необходимости определять».
…Примечательно, что в самом процессе подготовки «Штирлица» № 2 принимало участие немалое количество людей: от обладателей раритетных материалов до непосредственно Янкиных друзей. В результате возникло редкое в начале девяностых душевное единство, когда каждый помогал тем, чем мог. В частности, набор номера производился на компьютерах центральной молодежной газеты, а редакция журнала «Рокада» планировала издать «Штирлица» № 2 трехзначным тиражом с его последующим распространением по подписке.
Алексей Марков занял в этом вопросе достаточно жесткую позицию и выступил против модного в тот момент подпольного сектантства и искусственного ограничения информации на данную тему:
«Я не люблю андеграундщиков-профессионалов. Эгоцентризм в них растет до эгоизма. И девизом выходит фраза «те, кому это очень надо, все равно это услышат, а другим, значит, и ненужно). Я знаю людей, которые услышали уже ПОСЛЕ. Им это было НАДО, но было уже поздно. Я так же познакомился с Сашкой Башлачевым уже после его полета».
Что касается типографского тиража, то в последний момент спонсоры кинули журнал, и бесценная исследовательская работа осталась существовать в ксероксном варианте в количестве десяти экземпляров.
Все как у людей.
Сам Марков в течение 91–93 годов достаточно активно интегрировался в московские рок-круги и, в лучшем смысле, успел за это время немало.
Неполный перечень его конструктивных перфомансов включает в себя организацию (совместно с журналом «Шумелаъ Мышь») квартирного фестиваля акустического индепендента «Тапиры», выпуск на воскресенском ксероксе одного из номеров сыктывкарского журнала «Кукиша, публикации массы фестивальных фотографий в добром десятке рок-журналов, стажировку в должности гитариста и барабанщика в нескольких московских командах второго эшелона и т. д.
Возможно, что-то мы и позабыли.
Приблизительно в начале 93 года А. Марков завершил работу над третьим, и последним, номером журнала. Помимо фестивальных обзоров («Индюки» & «Индюшата» 91–92, VIII ленфест), выпуск содержал два неизвестных стихотворения Башлачева свердловского периода, а также продолжение публиковавшейся еще в первом номере «АДО-истории» А. Горохова. К вящей радости дорзоманов, «Штирлиц» № 3 перепечатал из «Ровесника» конца 70-х полузабытый перевод И. Рудницкой о судьбе Моррисона – еще одну версию жизнеописания тернистого пути «to the next whisky-bar».
Несколько особняком стоял выполненный в языческом ключе рассказ о «Тапирах» и автобиографические воспоминания о воскресенском роке, начинающиеся с того, как родители не пускали совсем еще юного А. Маркова на концерт В. Высоцкого. Завершался номер редакционной статьей «Будет золотой закат», в которой говорилось, что «на этом „Штирлиц“ прекращает свою деятельность в данной инкарнации, поскольку время, черт его побери, по-прежнему двигается все в том же направлении, что и раньше».
Так получилось, что этот номер так и остался в стадии макета и по не зависящим от редакции причинам не распространялся. Согласно легенде, часть его страниц сгорела при артобстреле Белого дома – во всяком случае, люди, знакомые с деталями, клянутся, что это правда. Может быть.
ВЯТКА
ИДИОТ
Один номер: весна 89 г., 44 стр., 1 экз., маш./фото/рис.; рисованная цветная обложка (первый вариант)
Ред.: Вс. Машковцев, Ал. «Брюс Гальтер» Федяков
Литературно-музыкальный журнал, публиковавший на своих страницах стихи и прозу вятских авторов, примыкавших к «новому идиотизму» («„Новый Идиотизм“ имеет целью эмпирическое определение кривизны зеркала, необходимого для получения ясной картины окружающего мира»).
С интересующей нас музыкальной позиции «Идиот» включал подвал, посвященный «Оберманекенам» (родом из Вятки) и их предвыборной программе концепции группы «Вино» (Вятка, затем – Питер) и т. д. Журнал готовили Всев. Машковцев (ныне – реставратор Успенского собора в Вятке) и А. Федяков – лидер «Вина». Единственный номер (в двух вариантах обложки) так и не был растиражирован по причине пропажи макета в Ижевске во время записи.
Готовился к выходу № 2 (для интриги – под № 14), но Федяков, блестящий художник, специализировавшийся на интеллектуальной чернухе (крысы, расчлененные свиньи, дуэт Ленина с Николаем II) ушел в музыку, а затем в составе «Вина» эмигрировал в Питер.
ЗВЕЗДА ИСААКА
1 номер: весна 90 г., 110 листов, тир. 6 экз., маш./граф./ксер.
Ред.: Иван Глухов
Автор, редактор и издатель «Звезды Исаака» – Иван Глухов, солист группы «Попс-бюро». Основные материалы – стихи и рисунки Глухова, история «Попс-бюро», а также стихи друзей Глухова по вятскому литературному клубу «Верлибр».
Р. S. «Верлибр» издавал также самиздатовский литжурнал «Авангард», третий номер которого был посвящен рок-музыке.
ДНЕПРОПЕТРОВСК
ВОЛЯПЮКЪ
(Рок-бюллетень)
6 номеров: № 1 – дек. 87 г., № 6 дек. 88 г., 60–70 стр., тир. – до 10 экз., маш.
Ред.: Дмитрий «Десятый» Десятерик
Надо полагать, не всем известно, что слово «воляпюкъ» было изобретено в конце XIX века немецким профессором Шлейхером для обозначения искусственного языка, построенного на нарочито невнятной эклектичной речи.
В нашей ситуации «Воляпюкъ» – простодушная и непосредственная попытка создания мифа о южноукраинском рок-н-ролле, в котором центральное место занимает жизнедеятельность днепропетровских групп «Репортаж» и «Ток».
Но, как тонко замечено в народе, «каждый из мифов имеет и отрицательную сторону – его небесконечность». Сия истина не обошла стороной и наших героев.
Кто-то из них тупо провалился на «Сырке», кто-то вдруг резко запел на английском, кто-то незаконно начал отлавливать морских котиков. Сам же редактор Дм. Десятерик переехал на постоянное местожительство в Киев, где продолжает публиковаться с рок-материалами в разнообразной официальной («ЭНск», «Вечерний Киев» и др.) и самиздатовской прессе.
ИВАНОВО
АРОКС
(Рок-обозрение)
Три номера: № 1, 2 – неизв., № 3 – дек. 89 г., 50 стр., тир. – 30 экз., маш. + фото/ксер.
Ред.: неизв.
Наивные надежды на то, что воспетое вагантами преобладание в городе женского контингента неким образом выльется в апофеоз дамской рок-журналистики, увы, оказались беспочвенными.
Как показала практика, «Арокс» – это унылое и бесхребетное издание, один из номеров которого целиком посвящен историческому событию под названием «первый фестиваль ивановского поп-рока».
Каков поп, таков, соответственно, и приход, – «на всю ивановскую» полные трузера радости от факта свершившегося чуда:
«ВПИШЕМ КРАСНЫМ ЭТУ ДАТУ В ИСТОРИЮ ИВАНОВСКОГО РОК-ДВИЖЕНИЯ».
Дальше – в том же духе: сплошные лозунги, все очень мелко и максимально серьезно, в стиле посредственного школьного сочинения на тему «Как я провел лето».
УБАХОБО
Один номер: ноябрь 92 г., 26 стр., тир. – 10 экз., маш. + граф. + фото/ксер.
Ред.: М. «Майкл» Морозов, Фоззи
По-человечески хороший сборник статей, несущий в себе «попытку конформного отображениям мифической третьей волны ивановского андеграунда. В ее сточных водах умело маскируется чуть ли не «единственный жизнеспособный музыкант регионам» – ковровский менестрель Александр Непомнящий. Изумительное интервью с ним несколько неожиданно оказывается насыщенным «погружением в должный дым» внутренней свободы и бесконечных полетов души рок-барда.
В номер также включены фрагменты воспоминаний Лукино Висконти о Марке Волане и гастрольное интервью с Арменом Григоряном.
Редактор журнала Майкл Морозов иногда занимается организацией гастролей в Иванове разнообразных в меру андеграундных групп.
Р. S. В недрах ивановской рок-тусовки также имели локальное хождение рукописные номера альманахов «Всьо» и «Неведомости» (90–92 гг.), посвященные, в частности, анализу местной ситуации и эпизодическим обзорам иногородних концертов.
ИВАНО-ФРАНКОВСК
ГЕЙ-ГОП
4 номера: № 1 – июль 88 г., № 4 – февр. 90 г., в сред. 150 стр., тир. 20 экз., маш. + граф./ксер.
Ред.: Юрий «Ю. Кей» Косык, Алик «Товарищ М.» Гнатьев, В. Мулык (худ.) и др.
В условиях полнейшего отсутствия рока в данном регионе несколько «полысевших в боях за неведомую истину меломанов» под впечатлением событий VI ленфеста начали выпускать собственное издание альманахоподобного типа. Дебютный номер включал в себя заметки в стиле «Фантастического рассказа» (см. с. 398) о призраке закарпатского рока, гигантский репортаж с питерского фестиваля (с минимонологами Борзыкина, Кинчева, Гаркуши, Рекшана) и размышления о творчестве «Машины времени» модели 88 года. Вся вторая половина «Гей-Гопа» без ложных комплексов была отдана переводу эпохальной биографии Моррисона «№ One Here Gets Out Alive», осуществленному местными дорзоманами за полдесятка лет до аналогичных публикаций в «Ровеснике». Все последующие номера характеризовались мощным креном в сторону украинской независимой музыки и плотными контактами с редакциями журналов «Гучномовець» и «ДВР» (проект «Восток-Запад»). Из опубликованных в этот период раритетов выделим два интервью: коллективное, с золотым составом «Рабботы Хо» (Попович – Грановский – Довженко) и не попавшая в эфир республиканского ТУ антисоциальная беседа идеологов киевской «Рок-Артели».
Особое место в иерархии издания занимала культовая фигура Алика Гнатьева (он же – «Товарищ М.») – крупного деятеля местного рок-движения, прославившегося своим могучим юмором.
Углубляясь в «кухню» журнала, отметим гигантскую по своему объему ред. работу Юрия Косыка и эпизодическое сотрудничество с изданием Виктора Моргунова – впоследствии лидера одной из самых ярких украинских рок-групп «Мынула Юнь».
ИЖЕВСК
ДАБЛ
(позднее – информационный бюллетень ижевского РК)
6 номеров: № 1 – осень 1985 г., № 6 – 1988 г., 20 стр., тир. – 49 экз., маш./ксер.
Ред.: С. Чирцев, Ал. Сомов
Название обусловлено исключительно количественным составом редакции. Заслуживающие сочувствия попытки распалить тлеющий уголек устиновского рок-н-ролла («220 Вольт», «Капрон», «БМ»), «добитые» перепечатками из «Свердловского рок-обозрения», «Ауди-Холи» и переводами о панк-роке из газеты «Граморевю».
После трех лет борьбы «Дабл» завял ввиду «недостатка материала и нежелания делать из говна конфетку».
В РОЖУ
(Вопросы РОк Журналистики)
7 номеров: № 1–4 назывались «В рожу», № 5 (46) – «За щеку», № 6 (56) – «Поеблу», № 7 – «В жилу» № 1 – март 1989 г. (20 стр.), № 7 – июнь 1992 г. (50 стр.), маш. + граф./ксер.
Ред.: В. «Вл. Вл.» Жилкин, М. «Паховый» Рябинин, Ф. «Фрэдди» Мухаметзянов и др.
После развала рок-клуба и дезинтеграции «Дабла» местная рок-сцена оценивалась специалистами на уровне «предсмертной агонии эмансипированных оленеводов». Тем не менее вскоре последовал неожиданный ренессанс, не в последнюю очередь связанный с появлением мощной волны новых групп – от мейнстримовских «Преффа» и «Дисциплины» до ультрасовременных «Родезии» и «Стук бамбука в 11 часов».
Еще одним следствием подобной культурной революции стало возникновение весной 1989 года нового журнала «В рожу», первоначально ориентированного сугубо на альтернативную музыку. Его создателями стали опытнейшие ижевские меломаны Владимир Жилкин (к слову, обладатель прекрасной коллекции рок-самиздата), Михаил Рябинин и «Фрэдди» Мухаметзянов. Еще задолго до описываемых событий они уверенно одолели диапазон «Sex Pistols» – «Japan», воспринимая после этого, к примеру, «Generation X» исключительно как «позорный попс».
«Мы молились на Брайана Ино, – вспоминает редакция, – и копали информацию о других. Следующий виток был серьезней: „Psychic TV“, „Cindy Talk“, „Cocteau Twins“, „Laurie Anderson“. Это был 1986 год» (!!! – А. К.).
Примерно в это же время будущая редакция знакомится в Омске с местным коллекционером И. Летовым и всерьез увлекается русским андеграундом. В Ижевске возникает некий цивилизованный оазис, бьющий все рекорды по скорости усвоения новейших записей альтернативной музыки. Вскоре компетентность ижевских ценителей обращает на себя внимание одного из менеджеров «Бригады С» Андрея Борисова, приехавшего в 1990 году в город вместе с подопечной группой. По его инициативе в макет первого номера журнала «Экзотика» включается сразу несколько материалов из «В рожу» – жестоко отредактированных и позорно урезанных.
В принципе на страницах «В рожу» было что редактировать. Дело в том, что оперативность получения малейших информационных нюансов начала соседствовать в ижевском издании с их ультраэкстремистской подачей. Буквально восприняв высказывание Jello Biafra о том, что «присутствие у человека чувства юмора еще не означает отсутствие у него чувства ярости», редакция начала эту самую ярость выплескивать ведрами где надо и не надо. Под водопад ненормативной лексики попадало все подряд – и орденоносная Удмуртия (с газетой «Комсомолец Удмуртов» – правописание по оригиналу), и попс (как философская категория), и ненавистный социум:
«Все мы огромное быдло! Все – говно! Весь этот мир засран напрочь!»
После подобных лозунгов где-то перевернулся Вишиус, «но это был не конец». Сокрушая все на своем пути, журнал в погоне за эскалацией радикализма этикетки переименовал себя в малоцензурное «По еблу».
«Следующий шаг удмуртских рок-экстремистов может серьезно задеть честь и достоинство самых отъявленных путан Поволжья», – невозмутимо прокомментировала «текущий момент» московская «Контр Культ Ур’а».
Тем временем ижевская редакция методом проб и ошибок приходит к выводу, что «любая позиция – это попс», и… прекращает выпуск журнала. Круг замкнулся. Перед творческой гибелью проекта редакция все же успела мощно хлопнуть дверью, проведя весной 1991 года крупномасштабный фестиваль с участием «Комитета Охраны Тепла», «Рабботы Хо», «Передвижной Хиросимы», «Пятой Колонны» и др.
Затем в рамках сотрудничества с музпрограммой Российского ТВ в городе состоялся арт-видеофестиваль «Ижевская экзотика» (осень 92), где выступили «Ночной Проспект», «НОМ» и «Ятха», а также ижевские группы «Родезия» и «Самцы дронта».
1993 год ознаменовался появлением в Ижевске еще нескольких адекватных рок-групп – «Чикипаопаппа», «Желтая Маска» и «Везло», продюсируемых экс-редактором «В рожу» Владимиром Жилкиным. Параллельно он продолжает работу над созданием нового журнала об экстремальной и минималистской музыке «Шептало одиночного огня».
ИРКУТСК
БЛАГИМ МАТОМ
Один номер: 90 г., 40 стр., тир. 50 экз., ротапринт
Ред.: Ал. Бенников, С. Терпигорьев («Крестный Отец»)
Обзорные статьи традиционного плана о рок-движении в сибирском регионе.
ИШИМ
(Тюменская область)
АНДЕРГРАУНД
7 номеров: № 1 – нач. 1986 г., № 9 – июль 1994 г., в сред. 40 стр., тир. – 10 экз., маш. + граф. + фото; № 3, 4 – пропущены
Ред.: Михаил «Отец Михаил» Зуйков, Петр Земляных (до № 6)
Что такое «барыга»? Так на сленге называется в здешних краях пассажирский поезд № 673 – единственная ниточка, связывающая Ишим с цивилизацией в облике областного центра. Но, несмотря на порядочную глушь, с середины 80-х сюда загадочным образом начал проникать рок-самиздат.
Оказавшиеся в поселке тусклые машинописные копии «Уха», «Рокси» и «УРлайта» оседали в архиве М. Зуйкова-исследователя и преданного поклонника всего, что связано с отечественным рок-подпольем. Сами журналы Зуйков добывал прозаическим образом, ведя активную переписку с добрым десятком коллекционеров из Ижевска, Мурманска, Мариуполя, Ленинграда, Братска и Киева.
Несмотря на то, что «крепостные стены Ишима не пострадали от пронесшегося мимо вихря рок-революций», Зуйков вместе с тяготеющим к литтворчеству Петром Земляных выпускает в 1986 году два номера машинописного журнала «Андерграунд», состоявшего из перепечаток «Рокси» и малозначительных графоманских экспериментов.
Так как сам Ишим испокон веков представлял собой лишь «почву для взращивания кабацких музыкантов», основные впечатления набирались редакцией в ходе эпизодических марш-бросков на «барыге» в близлежащую Тюмень. Один из таких визитов состоялся весной 1987 года в связи с проходившим в каком-то танцзале рок-фестивалем местных групп. Как гласит история, импровизированный постфестивальный перфоманс «Инструкции по выживанию», устроенный в одном из сквериков города, завершился классическим «винтом» музыкантов и немногочисленной публики.
Посещение ишимскими парнями райотдела милиции, ознаменовалось, помимо риторических протокольных вопросов, засвечиванием уникальной фотопленки с фрагментами вышеописанного мероприятия.
Подобные душевные потрясения не могли не отразиться на судьбе ишимского издания. И действительно, в течение последующих четырех лет журнал не выходил. Зуйков и его новые сотоварищи в поисках смысла жизни мирно брели своим путем и нежданно-негаданно всплыли на тюменском рок-фестивале 91 года «Белая поляна» с собственной группой «Цикабанк» (позднее – «Цикаба»).
Помимо выступления в составе «Цикабанка», Зуйков на протяжении всего фестиваля взял массу интервью у всевозможных гостей и участников акции. В этот «документальный отчет о проделанной работе» вошли беседы с группами «Пифайф» и «Кооператив Ништяк», московским журналом «Шумелаъ Мышь», а также авторизованная история рок-формации «Француз и Обормоты».
Переполненные впечатлениями от увиденного и услышанного, ишимцы возвратились домой, где оперативнейшим образом (за месяц) подготовили новый выпуск журнала. Названный для понта «Андерграунд № 5», он целиком посвящался «Белой поляне» и, помимо статей и интервью, включал массу фестивальных снимков, размноженных в процессе подготовки на исполкомовском ксероксе.
Попав в метрополии накануне эпохального фестиваля «Индюки-91», этот номер реанимированного издания наделал много шума. Основным источником споров, ссор и интриг стало огромное и оглушительно скандальное интервью с Романом Неумоевым («Инструкция по выживанию»), содержащее в себе элементы космогонического антисемитизма[32].
Но главная особенность журнала заключалась не в навязывании скандала и даже не во вскрытии цельного пласта неизвестной рок-культуры, а в мощнейшем духовном импульсе его создателей. Такое банальное, в принципе, событие, как очередной рок-фестиваль, редакция сумела поднять до уровня явления; при этом обобщение авторами самой акции счастливо совпали с их впечатлениями от всей жизни в целом.
К сожалению, данный выпуск оказался для журнала непревзойденным пиком, вслед за которым внезапно последовал резкий спад. Все дальнейшие попытки редакции выглядели, по их собственному признанию, хождением по замкнутому кругу.
Последние номера «Андерграунда» больше всего напоминают усредненный фанзин «Цикабанка» и братской тюменской группы «Кооператив Ништяк» – с одним и тем же набором героев и тем, – вызывая уважение лишь трогательной преданностью духу времени минувшего десятилетия.
НА ГРЕБНЕ ПАНКА
Три номера: № 1 – 90 г., № 3 – 92 г., около 30 стр., тир. – 10 экз., маш.
Ред.: М. Зуйков
Небольшой дайджест, выпускаемый редактором журнала «Андерграунд» М. Зуйковым на базе прекрасного домашнего рок-архива.
Само издание состоит исключительно из материалов о панк-роке и, по-видимому, призвано расширять кругозор и компетенцию населения в данном вопросе. В частности, первый номер «На гребне панка» содержит интервью с Диком (общество «Картинник»), Ником Рок-н-Роллом, репортажи о наиболее значительных панк-концертах в истории русского рока («ГО» на «Сырке», «КОБА» во Владике, «ИПВ» в Барнауле). Большая часть материалов датирована 1989–1990 годами и представляет собой перепечатки из таких флагманов жанра, как «ДВР», «ТИФ», «Вопросы Олигофрении», «Урлайт» и «Контр Культ Ур’а».
КАЗАНЬ
АУДИ ХОЛИ
7 номеров: № 1 – дек. 1986 г., 60 стр., тир. – 10 экз., маш. + фото; № 7 – 1990 г., 100 стр., тир. – 700 экз., ротапринт
Ред.: Г. Казаков, И. Смирнов, С. Кукина, С. Гурьев, А. Ханнанов, А. Коблов
«Журнал возник одновременно с местным рок-клубом в конце 1986 года и изначально задумывался как фанзин группы «Холи».
Появись эта команда сейчас, она наверняка попала бы в топ со своими песенками в духе «Hollies» или ранних «Beatles» – с доверчивой, по-детски чистой лирикой, включающей элементы легкого абсурдизма. Тогда же стиль «Холи» пришелся в Казани не ко двору – группа явно выпадала из рок-клубовской обоймы вторичного хард-н-хеви и арт-рока.
Возможно, что и сам «Ауди Холи» остался бы малоизвестным фанзином, не прояви бурной трансрегиональной активности редактор журнала и барабанщик группы Гленн Казаков.
Нельзя сказать, что за барабанной установкой «Ludwig» Гленн напрочь забивал Билли Кобхэма или Костю Довженко, но журналист и продюсер он был, что называется, от бога. Никто не ожидал от внешне хрупкого и интеллигентного юноши в очках (большого любителя романтики группы «Альянс») того, что сотворил Казаков на заре «Ауди Холи».
Не мудрствуя лукаво, Гленн разослал во все дыры отечественного рок-движения обаятельные письма с приглашением к творческому сотрудничеству:
«Привет! Меня зовут Гленн…»
Все остальное излагалось настолько бескомплексно и весело, что устоять было невозможно. Со всех концов страны в «Ауди Холи» потекли статьи – на письма Гленна откликнулись его друзья из «Хронопа», авторы «Урлайта» и «РИО», масса периферийных корреспондентов. Совершенно непредсказуемо эпицентр самиздатовской рок-журналистики на целые полгода (лето-осень 87-го) переместился в Казань.
По сравнению с ранними номерами, сделанными Казаковым в одиночку, на первый план начали выходить материалы иногородних авторов. В основном они посвящались крупным рок-фестивалям или являлись концертными обзорами за текущий период. Например, специально по заказу «Ауди Холи» С. Гурьев освещал события Черноголовского и Подольского фестивалей, С. Кукина («Пророк», «Нижегородские рок-н-ролльные ведомости») – рижский фестиваль 87 года, В. Терещенко («РИО») – V питерский фестиваль и так далее.
Помимо постфестивальных восторгов, регулярное место в журнале отводилось анализу текущей совпрессы, посвященной вопросам рок-музыки. В рубрике «Союзпечать» (построенной по аналогии с подобным разделом в журнале «РИО») Гленн в коротких и емких выражениях комментировал воцарившийся в отечественной прессе рок-бардак. Одной из наиболее ярких была реплика на тему интервью лидера «Машины времени» газете «Вечерняя Казань»:
А. Макаревич: «О чем мы пели год, два, пять, десять лет назад, о том мы поем и теперь».
Г. Казаков: «По-русски это называется „творческий застой“».
…Третьим определяющим моментом в структуре «Ауди Холи» несколько неожиданно оказался политический фактор. Журнал очень бурно реагировал на либеральное отношение официальной прессы к преступлениям экс-афганцев, «люберецкому вопросу» и проделкам мальцов в клетчатых штанах:
«На мой взгляд, – писал Казаков, – всех, кто возвращается из Афганистана, надо сразу превентивно сажать на 8–10 лет. Все равно кого-нибудь убьют за это время. Или… отправлять обратно в Афганистан».
Увидев в деятельности «Ауди Холи» новое поле для политической борьбы, с журналом начал активно сотрудничать Илья Смирнов («Урлайт»), вовсю «поливавший» в своих материалах плоды «литературного творчествам горьковского мракобеса В. Бармина. Последний специализировался на погромных статьях антирокового содержания в газете «Горьковский рабочий», называя в них «Ауди Холи» «делом рук одного фанатика».
…В самый разгар очередной братоубийственной войны (на этот раз с питерским «Рокси», обвинявшимся «Ауди Холи» в авторитарной политике и создании в ленрок-клубе коррумпированной верхушки[33]) казанский журнал неожиданно выходит в аут. Частично это объяснялось тем, что после издания «Ауди Холи» № 6 резко активизируют свою деятельность «Урлайт» и «РИО», и их авторы целиком переключаются на собственные проекты.
В декабре 1988 года Казаков расстается с группой «Холи» и, становясь ведущим музыкальной страницы газеты «Комсомолец Татарии»[34], начинает постепенно респектабелизироваться как маститый рок-критик. В дальнейшем он эпизодически публикуется в газете «Red Rose», журналах «Аврора» и «Ура Бум-Бум!» и, что выглядит уж совсем алогичным шагом, – в… «Рокси».
Времена меняются и меняют людей. В 1990 году, когда непосредственно о самом «Ауди Холи» все и думать забыли, ни в компот, ни в Красную армию вышел, мягко говоря, устаревший полутипографский седьмой номер, посвященный событиям 1988 года. К этому времени эпоха на дворе была уже совсем другая, и лебединая песня Гленна выглядела лишь ностальгическим экскурсом в седое антилюберецкое прошлое.
ГНИЛАЯ ТУСОВКА
2 номера: № 1 – нач. 89 г., № 2 – 90 г. и спецвыпуски, 30 стр., 15 экз., маш.
Ред.: Александр Стариков («Поджарый», «Чип»), Алексей Волков, Сергей «Мурманский» Муравьев
Скандально-грязный панк, полный скепсис в адрес «совдеповской попсы», творческая и светская жизнь рок-монстров. Локальный оттяг друзей группы «Пятая колонна» – любителей «новой музыки». Поиски новых (гм!) форм развлекательной журналистики. Финансируется движением «За уничтожение рок-н-ролла». Один из самых раздолбайских журналов в СССР.
Ред.: «Погано… жить в неведении да и стремное это занятие не знать что в мире происходит того и гляди атомной бомбой шарахнет и к подружке не успеешь забежать напоследок. Отсюда… следует что мало одного двух трех журналов специализирующихся на р-н-р помоях. Да и качество этого говна („АХ“, „Кросби“, „Рок-агитатор“ и пр.) весьма и весьма сомнительно…» «Жалеть никого не будем и вообще пощады не ждите» (ГТ № 1). «Тут возникают претензии со стороны некоторых читателей. Они нам советуют сначала без ошибок научится писать, уж потом и за журнал браться. Лично я признаю только одно правило как слышится, так и пишится и со своим правописанием вы можете пойти нах» (ГТ № 2).
…Вскоре после выхода второго номера «Гнилая тусовка» разваливается на куски. Ветеран местной рок-журналистики Алексей Волков уезжает из Казани и впоследствии сотрудничает с чистопольским журналом «Юлдуз Ньюз», Александр «Чип» Стариков постепенно отходит от активной рок-деятельности, а Сергей Муравьев начинает издавать собственный журнал «Токсикоз».
КРОКУС
Один номер: 87 г., 32 стр., маш.
Ред.: С. Пучков, Ю. Филонов
Представляет исторический интерес как один из пионеров татарского рок-самиздата. Инерция народных восторгов на тему открытия собственного рок-клуба. Информация о местных группах, тексты песен. Дань тогдашней моде – интервью с Майком.
ХМЫРЬ
9 номеров:№ 1 – февр. 89 г., № 9 – сент. 90 г., 25 стр., 25 экз., маш.
Ред.: С. Муравьев
Один из сольных проектов Сергея Муравьева, целиком ориентированный на всевозможные разновидности металла. Изредка на фоне трэш-, дэт- и спид-эпидемии проскальзывали робкие ростки «интеллектуального пост-панка». Некоторое время журнал сотрудничал с «Советским металлистом» (см. с. 257) и за этот период ушел от него не очень далеко.
Ничуть не лучше и не хуже усредненного хеви-металлического фанзина регионального масштаба.
КРОСБИ
3 номера: № 1 – ноябрь 88 г., № 3 – нач. 89 г., 50 экз., маш./ ксер.
Ред.: Джефф
Тихий последователь идей «Крокуса» (см. выше). Обо всем и ни о чем. Опять казанские группы, тексты, интервью с «Поролоном», статьи о традиционной музыке.
ЕЖИЩЕ
Один номер: 89 г., 5 экз., маш., фото
Ред.: «Записки мертвого человека»
Первоначально – рекламный пресс-релиз казанской группы «Записки мертвого человека», в дальнейшем разросшийся до журнала.
ТОКСИКОЗ
Два номера: № 1 – весна 91 г., № 2 – весна 92 г., в средн. – 40 стр., тир. – 100 экз., ротапринт
Ред.: С. «Мурманский» Муравьев
За исключением, пожалуй, «Пентаграммы», казанская рок-пресса 90-х медленно движется маршрутом «вниз по лестнице, ведущей вниз».
Потолком вычленившегося из «Гнилой тусовки» журнала «Токсикоз» является «хронология музыкальных тусовок за 1990 год, обычное перечисление концертов, сейшенов и т. д.». Этот тусклый набор искусственно подкрашен огромным количеством инвективной лексики, что усугубляет впечатление творческой беспомощности.
ПРОЛЕТКУЛЬТ
Один номер: весна 1987 г., ок. 60 стр., 4 экз., маш.
Ред.: Вл. Соседкин, В. Карцев, дизайн – Майкл Титов
Журнал изначально был задуман Владом Соседкиным (см. «Пентаграмма») как альманах рок-поэзии, но в городском рок-клубе идею максимально приземлили, навесив на содержание массу псевдофилософских эссе и тусовочных статей о сейшенах местного розлива. В редколлегию входил тогдашний президент клуба В. Карцев (солист заунывной группы «Записки мертвого человека»), благодаря чему на страницах издания было представлено не только правое, но и левое крыло рок-движения. Поэтический «брейнбоксинг» вели казанские группы «Постскриптум», «Записки мертвого человекам, «Бегемот», «Холи», «Маневры особого рода», «Инъектор», а также Саша «Чип» Стариков, Марат Тимербаев и другие звезды рок-клуба образца 1987 года. Макет был передан Карцеву, который долго и неутомимо занимался его размножением-распространением. Второй номер так и не вышел, хотя материалы для него готовились (в частности, одно из первых интервью с «Трилистником»). В дальнейшем Карцев, обуянный идеей миссионерства, приступил к реализации собственного журнального проекта «Ежище» (инф. В. Соседкина).
ПЕНТАГРАММА
4 номера: № 1 – дек. 89 г., 45 стр.; № 4 – дек. 91 г., 98 стр.; 5 экз., маш. + фото/ксер.
Ред.: Влад «BLOD» Соседкин, Николай «KIARR» Шатов, Натали «Мэри Джейн» Зимина, Дима «ДиСи» Сафин
Очень веселый журнал, в котором на каждом шагу сквозь призму трэша воспеваются гимны кошмарам, террору и т. д. с явным уклоном в дэт. Смерть преследует читателя на каждой странице: «Записки мертвеца», «Лей кровь», «Погребальные песни», «Ухо на отсечение». Из журналов «Metal Hammer», «Rock Hard», «The Wild Rag», «Metal Forces» и сборника «Great British Tales of Terror» с редкой для самиздата тщательностью скомпилировано и переведено «все самое убийственное». Такой вот, с нашей точки зрения, изысканный кладбищенский мрак. Но, как выяснилось, не все в этом мире так однозначно. Из оригинального покаяния, присланного из Казани, следует, что на самом деле «целью создания антиглэмового журнала „Пентаграмма“ было нечто совершенно иное». Аквариумист-ортодокс Вл. Соседкин попросту решил вытащить своего друга Колю Шатова из трясины тяжелого металла, применив для этого принцип «клин клином вышибают». При этом Соседкин постепенно внедрился в доподлинную трэш-среду «на предмет изучения воздействия экстремальной музыки на собственное рефлексирующее сознание».
«Я не адепт железобетона. I like mail-art, – признается редактор. – Выбранная направленность журнала диктует свои каноны, отсюда – некроэстетика и тому подобное. С одинаковым успехом это могло быть издание о глэм-роке, нью-эйдже или кулинарном авангарде…»
В итоге подбор материалов инспирировался калифорнийским знакомым Вл. Соседкина – редактором фанзина «№ GLAM FAGS» и шефом инди-лейбла «Wild Rags Records».
Основной частью «Пентаграммы» стали переводы с редкими вкраплениями аналитических мыслей: по сути, журнал явился «крайне информированным дайджестом-компиляцией западного самиздата… пособием по суициду посредством дез-, дум-, хард-кор-, грайнд-, нойз-музыки. Помимо данных идей, в рубрике «TARTAR CORE HORDES» был собран отечественный зверинец периферийных трэш- групп, существование которых традиционно замалчивается абсолютным большинством независимых музизданий.
Эсхатологическая концепция «Пентаграммы» способствовала выведению из организма агрессивных комплексов. Через эклектичность и антикоммунистический пафос, заигрывание с оккультизмом и китчем, через овладение всеми стереотипами западной металлической субкультуры, через агностический катарсис Армагеддона журнал двигался в русле вышеупомянутой идеи спасения Коли. На сегодня программу минимум можно считать перевыполненной: в 1992 году соредактор Николай Шатов принял протестантство и стал евангелистским проповедником.
На данном этапе издание тесно связано со звукозаписывающей фирмой «Дессор Корпорэйшн» и студией инвективного творчества «Ибалси». В планах редакции выпуск энциклопедии грайндкора и ряда альтернативных пресс-релизов. С 1991 года на местной сцене успешно выступает редакционный музыкальный проект «GLUE FUCKTORY».
Три долгих года редакция вращала пентаграмму и так, и эдак, окончательно (надеемся) запутав читателей в своем отношении к религии. С № 5 журнал носит название «REPENT!», один из выпусков которого вышел типографским тиражом в качестве приложения к газете «Фикус» (инф. Вл. Соседкина).
КАУНАС
АУ
3 номера: № 1 – осень 79 г., № 3 – 80 г., 48 стр., тир. 100 экз., офсет
Ред.: А. Абраускас, А. Трубицын
Уникальный для конца семидесятых годов рок-журнал, нелегально издававшийся вопреки гримасам развитого социализма на одном из каунасских полиграфкомбинатов.
История возникновения этого издания оказалась на удивление проста. Во время летнего отпуска москвич Александр Трубицын знакомится в одном из каунасских баров с работником местной типографии Андрисом Абраускасом. Быстро находятся точки соприкосновения: незаслуженно зажимаемый «совками» рок-н-ролл и, как следствие, острая нехватка пластинок, прессы и т. д.
Тут же, не отходя от стойки бара, было решено выпускать собственный рок-журнал. На дворе стоял 79 год, но наших героев этот факт волновал в последнюю очередь. Принцип «бензин ваш – идеи наши» воплотился в полноценный издательский процесс, в основу которого было положено рациональное использование специфических особенностей каждого региона.
Поскольку в перекормленной финским телевидением советской Прибалтике нужда в рок-издании на русском языке была значительно ниже, чем в информационно голодной Москве, сам цикл уже изначально планировался по схеме Москва – Каунас – Москва.
На практике это выглядело следующим образом. 26-летний Трубицын, закончив историко-филологический факультет, через каких-то знакомых из «Межкниги» имел выход на свежие номера западных рок-изданий.
«При государственном курсе доллара 1 $ = 67 копеек все журналы доставались мне фактически бесплатно, – вспоминает он. – Получив их, я делал тематическую подборку авторизованных переводов, смешивая в одну кучу актуальную информацию, собственные впечатления и фрагменты вымышленных интервью, которые я якобы брал в роли собкора прибалтийского рок-журнала у Блэкмора, Сантаны и т. д.».
Написанные «с песней по жизни» материалы Трубицын отсылал в Каунас Абраускасу, который, в свою очередь, продюсировал появление в журнале статей о прибалтийской рок-сцене. Это были присланные из Эстонии небольшие интервью с музыкантами «Магнэтик бэнд», «Руи», репортаж с рок-фестиваля «Тарту-79», а также музыкальные слухи и местная информация. Большая часть этих материалов легла в основу первого номера, напечатанного Абраускасом офсетным способом во «внеурочное время». Журнал содержал 48 страниц, а на его обложке с непонятной надписью «АУ» (без аллюзий на Питер) был изображен огромный бешеный глаз, пристально смотрящий в небо. Что касается механизма реализации тиража, то этот процесс Абраускас монополизировал на корню. С учетом конъюнктуры рынка большая часть экземпляров продавалась им прямо в Москве, на одной из толкучек в районе метро «Беговая».
Несмотря на то, что первый номер получился несколько сыроватым, спрос на него значительно превысил предложение. Неполная сотня экземпляров улетела с рук в считаные дни, что настроило неравнодушного к коммерческой части операции Абраускаса на оптимистический лад. С интервалом в несколько месяцев были подготовлены еще два выпуска «АУ». Эти номера включали в себя концептуальные обзоры по классическому хард-року начала 70-х с подчеркнутым вниманием к истокам – черный блюз, белый блюз, «Cream», Хендрикс и т. д. Остальные статьи «западного блока» посвящались монстрам – от «Thin Lizzy» до «темно-лиловых» с «хипами» и «цеппелинами» на десерт. Тема блюза была продолжена в «АУ» фундаментальным исследованием творчества малоизвестной американской команды «James Gang», в которой в начале 70-х успели переиграть Tommy Bolin, Joe Walsh («Eagles»), Dominic Troiano («Guess Who»), Paul Kossoff (ех- «Free»).