Верная Богу, Царю и Отечеству бесплатное чтение
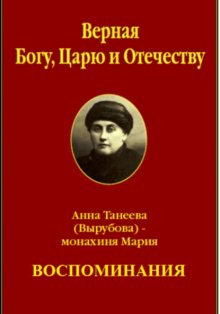
Верная Богу, Царю и Отечеству
Анна Александровна Танеева (Вырубова) – монахиня Мария
ВОСПОМИНАНИЯ
Автор-составитель – Юрий Рассулин
Продолжение книги
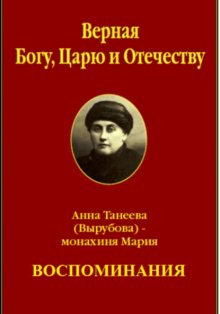
Верная Богу, Царю и Отечеству
Анна Александровна Танеева (Вырубова) – монахиня Мария
ВОСПОМИНАНИЯ
Автор-составитель – Юрий Рассулин