Трагический эксперимент. Книга 6. бесплатное чтение
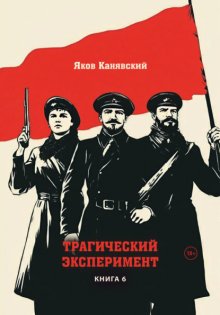
Народ, забывший своё прошлое, утратил своё будущее.
Сэр Уинстон Черчилль
© Канявский Яков, 2025
© Издательство «Четыре», 2025
Судьба победителей
Главный урок всех революций в том, что цель не оправдывает средств, что дурные средства пожирают любую цель и губят её рыцарей.
Философ Григорий Померанц
Мало кто из авторов эксперимента и их соратников дожил до того момента, когда можно было увидеть реальное воплощение своей идеи в жизнь.
Кто-то погиб в период Гражданской войны, кто-то умер от болезней, а кому-то помогли уйти из жизни конкуренты.
Дело в том, что идея идеей, а борьба за власть шла постоянно, кому-то всё время хотелось быть ближе к её вершине. Управлять страной бывшим простолюдинам было заманчиво.
Василий Иванович Чапаев родился в 1887 году в Чебоксарском уезде в семье крестьян. Летом 1917 года он вступил в партию большевиков, через некоторое время его назначили командиром запасного полка. После Октябрьской революции стал организатором отрядов Красной гвардии в одном из уездов, командиром полка, дивизии РККА. Воевал с белогвардейцами – уральскими казаками и чешскими легионерами.
В 1919 году Чапаева назначили начальником 25‐й стрелковой дивизии. В её рядах он отличился при взятии Уфы.
Погиб Василий Иванович 5 сентября того же 1919 года после диверсии уральских казаков. Произошло это в городе Лбищенске (ныне – Чапаев). На тот момент в этом населённом пункте располагался штаб 25‐й стрелковой дивизии. Сейчас это село в Западноказахстанской области Казахстана, районный центр Акжаикского района. Находится в 130 км к югу от Уральска, на правом берегу реки Урал.
О том, как это было, единственно точной версии не сохранилось. Есть несколько историй и несколько легенд.
В сентябре 1919 года командиры Уральской армии белых решили от лобовых атак на наступающие красные части перейти на рейдовые захваты. Таким образом они хотели напасть на штаб красных, находящийся в тылу, в Лбищенске. Для этого они организовали сводный отряд дивизии, которую возглавлял полковник Сладков, и дивизии генерала Бородина. Во главе был последний – генерал Бородин. Численность диверсионной группы составляла (по разным оценкам) от 1200 до 2000 человек. При этом под командованием Чапаева находилось намного меньше людей.
В ночь на 5 сентября дивизия Бородина начала наступление на город с запада и севера, а дивизия Сладкова – с юга. При этом многие казаки были местными и отлично знали Лбищенск. Атака была успешной. Всего погибли порядка 1,5 тысячи человек, а 800 красноармейцев попали в плен.
И вот тут разрушается миф о том, что убийцей Чапаева был Сладков. Участники этого рейда в дальнейшем вспоминали, что Бородин выделил специальный отряд, целью которого был арест Чапаева. Возглавлял его подхорунжий Белоножкин. Он вместе с казаками напал на дом, где квартировался Чапаев, но нападавшие упустили его. Белоножкину удалось лишь ранить красного командира в руку, после чего Василий Иванович смог сбежать через окно.
После этого Чапаев организовал сопротивление, в котором участвовали порядка 100 красноармейцев. А вот дальше – только легенды.
По одной из версий, во время боя Чапаева ранили в живот. Красноармейцы соорудили плот и переправили командира на другой берег Урала, однако он скончался от потери крови. Соратники похоронили Василия Ивановича, но так как русло реки несколько раз менялось, в дальнейшем могилу найти не смогли.
По второй версии, которая для многих и является хрестоматийной благодаря книге Дмитрия Фурманова «Чапаев» и одноимённому фильму братьев Васильевых, Чапаев утонул, когда сам переплывал Урал. В её пользу говорит и то, что тело Чапаева так и не нашли. Считается, что Василия Ивановича настигла ещё одна вражеская пуля, после чего он ушёл на дно реки.
Есть также версии, что после смерти Чапаева привезли в Уральск, где тайно похоронили, что его расстреляли после того, как взяли в плен, и другие. Но ни одна из них так и не получила подтверждения.
А вот особую известность и популярность Василий Иванович снискал уже после своей смерти. В 1923 году Дмитрий Фурманов, лично с ним знакомый, служивший комиссаром его дивизии, опубликовал роман «Чапаев». В 1934 году братья Васильевы выпустили одноимённый фильм. Это привело к всенародной любви и славе. Да такой, что его имя присвоили многим населённым пунктам, улицам, кораблям и т. д. Он и сейчас продолжает оставаться одним из народных героев тех лет и, пожалуй, самым известным красным командиром.
В СССР Чапаев стал одним из самых любимых героев анекдотов. Про первого советского маршала столько историй не сочиняли. По воспоминаниям современников, Будённый завидовал популярности Чапаева в народе, которую комдив приобрёл ещё при жизни. Кто был образованнее? Судя по мемуарам самого маршала, в школу он не ходил: в семье не было средств на обучение. Грамоте Будённого научил сын приказчика, когда будущий герой Гражданской войны работал помощником кузнеца. Кроме неполного года учёбы в петербургской офицерской школе, по окончании которой Семёну Будённому присвоили звание младшего унтер-офицера, другого образования у сына батрака не было. Знаменитые слова Будённого о том, что он советовал «дураку Чапаеву» учиться, стали известными благодаря артисту Михаилу Державину, первой женой которого была дочь маршала: якобы Будённый сокрушался, что такой популярный в народе герой (зять любил травить анекдоты про комдива), а неуч.
В анкете, заполненной перед поступлением в Академию Генштаба, Василий Чапаев в графе «Образование» указал: «самоучка». В некоторых биографиях комдива упоминается об офицерской школе, по окончании которой он получил звание фельдфебеля. Однако дочь Чапаева Евгения в книге «Мой неизвестный Чапаев» писала: отец, имея за плечами три класса церковно-приходской школы, в 1914 году, во время Первой мировой войны, проходил обучение в полковой учебной команде, где готовили кадры для унтер-офицерского состава. В Академии Генштаба комдив проучился всего месяц.
Как пишет Евгения Чапаева, ходатайствуя об отправке в действующую армию, он дошёл до Надежды Крупской. Якобы сам Ленин решил вопрос о судьбе героя Гражданской войны, сказав, что таким как Чапаев на самом деле место на фронте, а не в академии. Биографы комдива подтверждают, что уровень знаний у абитуриента высшего военного учебного заведения был крайне низким: он, к примеру, никогда не слышал о реке Сене, не мог сказать, в какое море впадает Висла. Дочь Чапаева, описывая краткосрочное пребывание отца в академии, объясняла его нежелание продолжать учёбу не только стремлением заниматься более привычным делом – воевать, но и условиями обучения: в академии преподавали царские офицеры, у них был свой подход к подаче материала, с которым практик Чапаев часто не соглашался. Он спорил с преподавателями, но учился хорошо, особенно интересовался топографией, инженерным делом, тактикой и историей…
Новость о том, что в Оренбургской области поставили памятник белогвардейцу Тимофею Сладкову, который вошёл в историю как «победитель Василия Чапаева» во время Гражданской войны, вызвала бурные обсуждения. С инициативой установки памятника Сладкову выступили уральские казаки. Так как местом его рождения является город Уральск, находящийся на территории современного Казахстана, то местом установки выбрали Первомайский район Оренбургской области. Средства на установку собирали среди казачества. Интересно, что появился монумент на улице Чапаева…
В Гражданскую войну казачество разделилось на два лагеря: одни воевали за белых, другие за красных.
Василий Михайлович Чернецов родился 3 апреля 1890 года близ хутора Иванкова станицы Калитвенской в семье потомственного казака, служившего в Войске Донском ветеринарным фельдшером.
Окончив реальное училище в станице Каменской, юноша поступил в Новочеркасское казачье юнкерское училище. Первую мировую он встретил в звании сотника 26‐го полка 4‐й Донской казачьей дивизии. Когда война приняла позиционный характер, возглавил кавалерийский отряд, с которым оперировал в тылу неприятеля. Отвага и дерзость Чернецова были поистине выдающими. К началу Февральской революции он имел чин есаула, был награждён орденами и Георгиевским оружием.
Свержение монархии вызвало у него энтузиазм, а потом Василия Михайловича занесло так сильно «влево», что, будучи избран депутатом Макеевского совета, он даже примкнул к большевистской фракции.
Но в ноябре, когда Временное правительство пало, настроение Чернецова стало меняться. Окончательно всё решила встреча с донским атаманом Калединым, который своей солдатской прямотой направил есаула на путь истинный: Россию сначала надо успокоить, привести в чувство и только потом заниматься реформами.
Чернецов стал ближайшим соратником Каледина – его щитом и мечом одновременно. Когда в декабре 1917 года атаман собрал находившихся в Новочеркасске казачьих офицеров, из примерно пяти тысяч пришло около восьмисот. Чернецов взывал к их патриотизму, а потом и к чувству самосохранения, закончив свою речь так: «Господа офицеры, если так придётся, что большевики меня повесят, то я буду знать, за что я умираю. Но если придётся так, что большевики будут вешать и убивать вас, благодаря вашей инертности, – то вы не будете знать, за что вы умираете».
В добровольческий отряд Чернецова записалось всего 27 офицеров, и ему пришлось обратиться к юнкерам, гимназистам, реалистам. Восторженная молодёжь шла к нему, чувствуя себя спасителями Отечества. А недостаток жизненного опыта притуплял инстинкт самосохранения, делая их, возможно, не очень умелыми, но отчаянными бойцами.
Отряд в шутку называли «донской каретой скорой помощи». «Чернецовцы» носились вдоль границ Донской области, перехватывая эшелоны, громя наступающие отряды Красной гвардии и заскакивая на подконтрольные большевикам территории Донбасса. Деникин, бывший тогда одним из руководителей Добровольческой армии, вспоминал: «В личности этого храброго офицера сосредоточился как будто весь угасающий дух донского казачества. Его имя повторяется с гордостью и надеждой. Чернецов работает на всех направлениях. Успех сопутствует ему везде, о нём говорят и свои, и советские сводки, вокруг его имени родятся легенды, и большевики дорого оценивают его голову».
После захвата станции Колпаково состоялось общение по телеграфу Чернецова с командующим красными войсками Антоновым-Овсеенко, который запросил условия для переговоров. Василий Михайлович потребовал распустить революционные войска, сдать всё оружие и прислать заложников. Уступать никто не собирался, но, несмотря на мизерность сил (до 500 человек при двух орудиях), казалось, что «чернецовцы» имеют шанс на победу.
23 января 1918 года его отряд в двух эшелонах очередной раз отправился в тыл красных. На семафоре возле Дебальцева белые выскочили из поезда и через поле атаковали железнодорожную станцию. Красные быстро разбежались, за исключением небольшой группы, пытавшейся занять оборону в одном из складских помещений. 13 бойцов попали в плен и были расстреляны.
Большевики наступление на Дон свернули, но в этот же день произошло событие, которое сторонники Каледина сравнивали с ударом ножа в спину.
Фёдор Григорьевич Подтёлков появился на свет 6 сентября 1886 на хуторе Крутовском. По семейному преданию, его дед привёз с русско-турецкой войны пленную турчанку, которая и родила ему сына – Григория Пантелеевича. Роды прошли в хлеву, «под тёлкой», – отсюда и фамилия.
Семья жила бедно. Из шестерых сыновей до революции 1917 года дожили только Фёдор и Матвей.
Фёдор благодаря своей богатырской внешности попал в гвардию – в 6‐ю Донскую конноартиллерийскую батарею и, вероятно, именно в столице увлёкся социалистическими идеями.
Недовольство существующей социальной системой усугубилось личной обидой. Во время Первой мировой Подтёлков счёл себя обойдённым, когда вместо него в первое офицерское звание хорунжего был произведён некий урядник Спиридонов. И хотя хорунжим он всё-таки стал, обида осталась.
В 1917 году Фёдор Григорьевич начал выдвигаться в качестве революционного вожака. Не то чтобы он был выдающимся оратором, но его импозантная внешность и голос производили на слушателей большое впечатление. Когда в конце 1917 года 6‐я Донская гвардейская батарея вернулась на Дон, разместилась она в Глубокой.
Во многом именно благодаря агитации, которую вёл Фёдор Григорьевич и его соратник прапорщик Михаил Кривошлыков, вернувшиеся с фронта казаки не вставали под знамёна Белого дела. Каледин мог рассчитывать только на Чернецова и отчасти на Добровольческую армию.
Подтёлков напирал именно на своё казачье происхождение, на то, что Вольный Дон должен иметь широкую автономию в составе России, и призывал поделиться землёй с иногородними, но не за счёт казачьих наделов, а за счёт «излишков» из государственного фонда.
Большевики относились к Фёдору Григорьевичу как к этакой «мелкобуржуазной накипи», но в той ситуации на Дону он был их главным козырем.
23 января 1918 года в станице Каменской был создан съезд фронтового казачества, объявивший о создании Донского военно-революционного комитета (ДОВРК) под председательством Подтёлкова.
Каледину отправили ультиматум с требованием разоружить формирования белых, распустить войсковой круг, и, разумеется, передать власть ревкомовцам.
Атаман отправил в Каменскую считавшийся относительно надёжным 10‐й полк, который присоединился к митингам. Пришлось снова задействовать «скорую помощь».
30 января «чернецовцы» заняли станции Зверево и Лихую, после чего устремились на Каменскую. Ревкомовцы без сопротивления ретировались в Глубокую.
Каменскую Чернецов хорошо знал ещё с тех пор, как учился там в реальном училище. Местные жители тоже приняли его дружелюбно, а молодёжь стала записываться в отряд, так что ему удалось сформировать четвёртую сотню.
Между тем Подтёлков воззвал о помощи к АнтоновуОвсеенко и отрёкся от попыток выторговать казакам у новой власти какие-нибудь преференции.
На станцию Лихую выдвинулись 3‐й Московский и Харьковский красные полки под командованием Саблина.
Чернецов погрузил своих бойцов в эшелон и отправился навстречу. Участник грянувшего затем боя Николай Туроверов так описывал события:
«Выгрузившись из вагонов, партизаны рассыпались правее и левее пути в редкую цепь и во весь рост, не стреляя, спокойным шагом двинулись к станции. Какой убогой и жидкой казалась эта тонкая цепочка мальчиков в сравнении с плотной, тысячной толпой врага. Тотчас же противник открыл бешеный пулемётный и ружейный огонь. У него оказалась и артиллерия, но шрапнели давали высокого «журавля» над нашей цепью, а гранаты рыли полотно и только три-четыре угодили в пустые вагоны. Наши орудия стреляли очень редко (каждый снаряд был на учёте), но первым же попаданием был взорван котёл паровоза у заднего эшелона противника, благодаря чему все три состава остались в тупике.
Партизаны продолжали всё так же, спокойно и не стреляя, приближаться к станции. Было хорошо видно по снегу, как-то один, то другой партизан падал, точно спотыкаясь.
Наконец наша цепь, внезапно сжавшись уже в 200 шагах от противника, с криком «ура» бросилась вперёд. Через 20 минут всё было кончено. Беспорядочные толпы красногвардейцев хлынули вдоль полотна на Шмитовскую, едва успев спасти свои орудия. На путях, платформах и сугробах вокруг захваченных 13 пулемётов осталось более ста трупов противника.
Но и наши потери были исключительно велики, не только среди партизан (особенно бросившихся на пулемёты), но и малочисленного офицерского состава. Уже в темноте сносили в вагоны, спотыкаясь через трупы товарищей, раненых и убитых партизан. На матовых от мороза, тускло освещённых стёклах санитарного вагона маячили тени доктора и сестёр да раздавались стоны и крики раненых».
А в пустом зале 1‐го класса, усевшись на замызганном полу, партизаны пели:
- От Козлова до Ростова
- Гремит слава Чернецова.
Сам же Чернецов, узнав о потерях, сказал: «Это хуже поражения».
Каледин через один чин произвёл Василия Михайловича в полковники, добавив, что сделал бы его и генералом.
Понимая, что запас удачи у него иссякает, Чернецов всё же принял решение атаковать главную базу противника в Глубокой. Отступление было равноценно сдачи всей Донской области.
Сам Чернецов с полуторасотней партизан при трёх пулемётах и одном орудии выступил утром 3 февраля, собираясь обойти Глубокую с северо-востока и атаковать её, предварительно испортив железнодорожные пути, связывающие с Донбассом. Вторая половина отряда должна была напасть на станицу с юга.
Удар планировалось нанести ровно в полдень, но при этом, правильно оценивая силы противника (примерно в тысячу красногвардейцев), Чернецов не знал, что к ним уже присоединились казаки из 27‐го и 44‐го полков, возглавляемые войсковым старшиной Николаем Голубовым. Привёл Подтёлков и своих сослуживцев из 6‐й Донской батареи, меткий огонь которой во многом решил исход схватки.
Вторая половина чернецовского отряда опоздала с атакой, и Василий Михайлович примерно с 60 бойцами попал в окружение. Имея всего одно орудие, отважная молодёжь стойко выдерживала наскоки пяти сотен конницы.
Пытаясь поддержать боевой дух, Чернецов прокричал, что производит всех в прапорщики, и скомандовал: «Пли!» Первая атака была отбита. После второй все прапорщики стали поручиками. Но третьей атаки они не выдержали.
Василий Михайлович попытался укрыться в станице Калитвенской, где и был схвачен.
Утром 6 февраля 1918 года он предстал перед Подтёлковым, который начал осыпать его оскорблениями. Сам момент убийства пленного полковника имеет две трактовки.
Некоторые советские авторы, пытаясь закамуфлировать факт расправы над безоружными людьми, писали, будто Чернецов выхватил припрятанный наган и был зарублен, так сказать, в порядке самообороны, причём часть его соратников успела разбежаться.
Однако Михаил Шолохов в «Тихом Доне», отталкиваясь от свидетельств очевидцев, описал всё гораздо жёстче:
«– Попался… гад! – клокочуще низким голосом сказал Подтёлков и ступил шаг назад; щёки его сабельным ударом располосовала кривая улыбка.
– Изменник казачества! Подлец! Предатель! – сквозь стиснутые зубы зазвенел Чернецов.
Подтёлков мотал головой, словно уклоняясь от пощёчин, – чернел в скулах, раскрытым ртом хлипко всасывал воздух.
Последующее разыгралось с изумительной быстротой. Оскаленный, побледневший Чернецов, прижимая к груди кулаки, весь наклонясь вперёд, шёл на Подтёлкова. С губ его, сведённых судорогой, соскакивали невнятные, перемешанные с матерной руганью слова. Что он говорил – слышал один пятившийся Подтёлков.
– Придётся тебе… ты знаешь? – резко поднял Чернецов голос.
Слова эти были услышаны и пленными офицерами, и конвоем, и штабными.
– Но-о-о… – как задушенный, захрипел Подтёлков, вскидывая руку на эфес шашки.
Сразу стало тихо. Отчётливо заскрипел снег под сапогами Минаева, Кривошлыкова и ещё нескольких человек, кинувшихся к Подтёлкову. Но он опередил их; всем корпусом поворачиваясь вправо, приседая, вырвал из ножен шашку и, выпадом рванувшись вперёд, со страшной силой рубнул Чернецова по голове.
Григорий видел, как Чернецов, дрогнув, поднял над головой левую руку, успел заслониться от удара; видел, как углом сломалась перерубленная кисть и шашка беззвучно обрушилась на откинутую голову Чернецова. Сначала свалилась папаха, а потом, будто переломленный в стебле колос, медленно падал Чернецов, со странно перекосившимся ртом и мучительно зажмуренными, сморщенными, как от молнии, глазами.
Подтёлков рубнул его ещё раз, отошёл постаревшей грузной походкой, на ходу вытирая покатые долы шашки, червоневшие кровью.
Ткнувшись в тачанку, он повернулся к конвойным, закричал выдохшимся, звенящим голосом:
– Руби-и-иих… такую мать!! Всех! Нету пленных… в кровину, в сердце!!»
К середине февраля Донская область была захвачена большевиками. Каледин застрелился (или был убит), Добровольческая армия ушла на Кубань, уцелевшие белые казаки атамана Петра Попова растворились в Сальских степях.
23 марта 1918 года ДОВРК провозгласил «самостоятельную Донскую советскую республику в кровном союзе с Российской Советской республикой». Должность главы исполнительной власти – Совнаркома – досталась Подтёлкову. Он, так сказать, стал коллегой Ленина, хотя и в региональном масштабе.
И одновременно по всей Донской области заполыхали казачьи восстания. Причинами стали бездумное изъятие казачьих земель в пользу иногородних и совершенно зашкаливающие репрессии, жертвами которых становились не только бывшие «буржуи» и офицеры, но и казаки, искренне и справедливо считавшие себя трудящимся населением. Многие, наверное, вспоминали слова Чернецова о том, что он, по крайней мере, знает, за что погибнет.
Большевики пытались найти опору в сравнительно небогатых верхнедонских станицах. 1 мая 1918 года Подтёлков возглавил специальную комиссию, которая выехала из Ростова-на-Дону в Усть-Медведецкий и Хопёрский округа с большой суммой денег, предназначенной для агитации и вербовки в Красную армию.
Уже в дороге Фёдор Григорьевич понял, что, по сути, его со всех сторон обложили разрозненные, но многочисленные силы повстанцев. Численность отряда сократилась со 120 до 75 человек, а 10 мая «подтёлковцы» сдались белым в районе хутора Пономарёва.
Теоретически они могли бы сражаться до последнего, но, вероятно, рассчитывали на пощаду; на то, что с вражеской стороны у многих из них были родичи, сослуживцы. Среди тех, кто пленил Подтёлкова, оказался и тот самый хорунжий Спиридонов, который когда-то обошёл его в чине и уже ставший подъесаулом. Перед сдачей они даже встретились один на один, на кургане в степи, и о чём-то поговорили. На вопрос «о чём?» Спиридонов потом отвечал лаконично: «О прошлом».
Но общее прошлое уже не сближало. Сказано и сделано к тому времени было слишком много. Военно-полевой суд сразу же припомнил Фёдору Григорьевичу расправу над Чернецовым, приговорив его и Кривошлыкова к повешению. Остальных пленников расстреляли.
Из романа «Тихий Дон»:
«Один из офицеров ловким ударом выбил из-под ног Подтёлкова табурет. Всё большое грузное тело Подтёлкова, взвихнувшись, рванулось вниз, и ноги достали земли. Петля, захлестнувшая горло, душила, заставляла тянуться вверх. Он приподнялся на цыпочки – упираясь в сырую притолоченную землю большими пальцами босых ног, хлебнул воздуха и, обводя вылезшими из орбит глазами притихшую толпу, негромко сказал:
– Ишо не научились вешать. Кабы мне пришлось, уж ты бы, Спиридонов, не достал земли…
Изо рта его обильно пошла слюна. Офицеры в масках и ближние казаки затомашились, с трудом подняли на табурет обессилевшее тяжёлое тело…
Вновь грузно рванулось вниз тело, лопнул на плече шов кожаной куртки, и опять кончики пальцев достали земли. Толпа казаков глухо охнула. Некоторые, крестясь, стали расходиться. Столь велика была наступившая растерянность, что с минуту все стояли как заворожённые, не без страха глядя на чугуневшее лицо Подтёлкова.
Но он был безмолвен, горло засмыкнула петля. Он только поводил глазами, из которых ручьями падали слёзы, да кривя рот, пытаясь облегчить страдания, весь мучительно и страшно тянулся вверх.
Кто-то догадался: лопатой начал подрывать землю. Спеша, рвал из-под ног Подтёлкова комочки земли, и с каждым взмахом всё прямее обвисало тело, всё больше удлинялась шея и запрокидывалась на спину чуть курчавая голова.
Верёвка едва выдерживала шестипудовую тяжесть; потрескивая у перекладины, она тихо качалась, и, повинуясь её ритмичному ходу, раскачивался Подтёлков, поворачиваясь во все стороны, словно показывая убийцам своё багрово-чёрное лицо и грудь, залитую горячими потоками слюны и слёз».
Моисей Соломонович Урицкий (1873–1918) родился в богатой купеческой семье, но рано остался без отца и воспитывался матерью в строго религиозном духе, изучая Талмуд. Под влиянием старшей сестры увлёкся русской литературой и, сдав экзамены, смог учиться в гимназии. Гимназистом участвовал в революционном кружке и отряде самообороны против еврейских погромов.
В 1893 поступил на юридический факультет Киевского университета и являлся одним из руководителей киевской организации РСДРП. В 1897 году, после окончания университета, поступил на военную службу, но через несколько дней был арестован как социал-демократ.
С этого времени неоднократно подвергался репрессиям. После II съезда РСДРП примкнул к меньшевикам. В 1905‐м вёл революционную работу в Петербурге и Красноярске, но вскоре был арестован. Участвовал в революции 1905–1907 гг., руководил созданной им группой боевиков, грабивших инкассаторов.
В 1906‐м был выслан за границу, жил в Германии и Дании. Исполнял обязанности личного секретаря Г. В. Плеханова.
В Дании находился под наблюдением полиции, подозревавшей его в связях с контрабандистами. В 1912‐м на конференции в Вене был избран в Организационный комитет РСДРП от группы троцкистов. В агентурной записке в охранное отделение Урицкий характеризовался так: «Не производит впечатления серьёзного человека, хотя и считается очень дельным партийным работником».
С началом Первой мировой войны занял интернационалистскую позицию, то есть желал поражения своей страны в войне с Германией. Вместе с Л. Д. Троцким сотрудничал в печати. В 1917‐м, после Февральской революции, вернулся в Петроград, был одним из лидеров «межрайонцев»; вместе с ними был принят в большевистскую партию на VI съезде, стал членом ЦК.
В октябре 1917 года стал членом Петроградского военно-революционного партийного центра, руководившего подготовкой вооружённого восстания, а затем – членом Военно-революционного комитета (ВРК). В ноябре – декабре 1917 г. Урицкий руководил разгоном Учредительного собрания, для чего был создан (во главе с Урицким) Чрезвычайный военный штаб большевистской партии. Был противником заключения Брестского мира, разделяя точку зрения левых коммунистов, но был вынужден подчиниться партийной дисциплине.
С созданием Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (ВЧК) Урицкий – один из самых активных её функционеров. В марте 1918 г. его назначают председателем Петроградского ЧК, а с апреля – одновременно – комиссаром внутренних дел Северной области. Таким образом, в его руках оказался полицейский контроль над огромной территорией: Северная область включала не только Петроград, но и Мурманск и Архангельск. По выражению Луначарского, «Урицкий был железной рукой, которая держала за горло контрреволюцию».
Однако террор, развязанный Урицким (задолго до его официального объявления большевиками), был направлен вообще против всех, кто хотя бы потенциально мог не поддержать новую власть. По его приказу были расстреляны рабочие демонстрации в защиту Учредительного собрания (жертв – многие сотни), закрыты все независимые от большевиков газеты, сразу же после разгона Учредительного собрания Урицкий произвёл массовые аресты «подозрительных»; за их освобождение требовалось внести «контрибуцию» – то есть выкуп. Примечательно, что в этот момент он ещё не являлся председателем Петроградской ЧК и его действия даже с чисто формальной точки зрения были полнейшим произволом.
В марте 1918 года по его распоряжению подвергнуты пыткам, а затем убиты офицеры Балтийского флота и члены их семей. Несколько барж с арестованными офицерами были потоплены в Финском заливе. Аресты с тех пор шли круглосуточно, и попавший в Петроградскую ЧК имел очень мало шансов вернуться оттуда живым. По рассказам современников, само имя Урицкого вызывало ужас. Аналогичные действия Урицкий предпринимал по всей Северной области, а в Архангельске по его распоряжению уже в апреле 1918‐го был создан первый концлагерь; создание концлагерей планировалось и в районе Петрограда (Шлиссельбург и Ораниенбаум, Тихвин), но осуществить этот замысел Урицкий не успел: был застрелен молодым офицером Леонидом Канегисером в ответ на казнь его друга и аресты офицеров. Смерть Урицкого послужила основанием для усиления «красного террора». В качестве «ответной меры» чекисты только в Петрограде расстреляли 900 человек.
Урицкий был похоронен с государственными почестями в центре Петербурга, был объявлен траур (и арестовывались те, кто оказывался его соблюдать), Ленин лично приехал на похороны и в своей траурной речи назвал Урицкого «примером настоящего большевика»; в честь него были названы улицы и посёлки в разных местах, а также переименован г. Гатчина.
О генерале Александре Панфомировиче Николаеве написано много статей и книг. Сын солдата, боевой генерал Русско-японской и Первой мировой войн, он был награждён многочисленными боевыми наградами. После Октябрьской революции он сделал выбор в пользу советской власти и воевал за неё. С лета 1918 года Николаев командовал 3‐й бригадой 2‐й Петроградской пехотной дивизии, позднее сражаясь против белых на Северо-Западе под Ямбургом и Гдовом, в т. ч. против частей Северного корпуса генерала Родзянко. В ночь на 13 марта 1919 года штаб Николаева был захвачен в районе деревни Попкова Гора к югу от Нарвы. Был взят в плен и ряд подразделений. Рядовые красноармейцы, несколько сотен человек, в большинстве своём были расстреляны на месте, а Николаева перевезли в Ямбург. Здесь после расследования, после его отказа отречься от советской власти 28 мая 1919 года он был повешен. Генеральский выбор советской власти и его решение идти до конца стали одним из символов Гражданской войны.
Сергей Лазо появился на свет 7 марта 1894 года в Бессарабии в дворянской семье Георгия Ивановича и Елены Степановны Лазо. Сергей окончил Кишинёвскую гимназию, после чего поступил в Петербургский технологический институт. В 1914 году он был вынужден возвратиться в Бессарабию из-за болезни матери. Спустя несколько месяцев он поступил на физико-математический факультет Московского университета. В университете он примкнул к революционным кружкам. В 1916 году его мобилизовали в армию.
Империя нуждалась в скорейшем восполнении выбитых офицерских кадров, поэтому студента Лазо отправили в Алексеевское пехотное училище, из которого он вышел прапорщиком, а вскоре стал подпоручиком.
Служить Лазо был направлен в 15‐й Сибирский запасный стрелковый полк в Красноярске. В городе было много политических ссыльных, с которыми революционно настроенный молодой офицер сблизился. Он примкнул к партии эсеров. Сергей своей решительностью и убеждённостью нравился солдатам. Поэтому неудивительно, что, когда до Красноярска дошла весть о Февральской революции, солдаты 4‐й роты 15‐го Сибирского стрелкового полка выбрали Лазо своим командиром.
4 марта 1917 года Лазо командовал задержанием царского губернатора Якова Гололобова, а также целого ряда других чиновников прежней власти.
Летом 1917 года Красноярский совет послал Сергея Лазо в качестве своего делегата в Петроград на I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Для Сергея эта поездка стала переломной. Сам максималист по натуре, он оценил выступление Ленина, говорившего о готовности большевиков взять на себя ответственность за судьбу страны. Формально до 1918 года Лазо будет оставаться левым эсером, но фактически его переход в стан большевиков начался ещё летом 1917 года.
В ночь на 29 октября 1917 года красногвардейцы под командованием Сергея Лазо займут государственные объекты в Красноярске, низложив структуры Временного правительства.
«Гарнизон – в руках прапорщика Лазо», – докладывал в Иркутск один из представителей Временного правительства в Красноярске. Он быстро становится одной из ключевых фигур в стане большевиков и их союзников в регионе. Лазо участвует в подавлении контрреволюционных выступлений в Омске и Иркутске.
Когда в Сибири и Забайкалье вспыхивает Гражданская война, Лазо становится командующим войсками Забайкальского фронта. Даже враги отмечали его решительность и личную храбрость, однако численный перевес был не на стороне красных. Осенью 1918 года большевики переходят к тактике партизанских действий, сначала против сил Временного Сибирского правительства, а затем и адмирала Колчака.
Партизанские действия Лазо в Приморье серьёзно досаждали его противникам. Атаман Семёнов пообещал за голову Лазо крупную денежную награду. Но молодого революционера не так-то легко было напугать. В декабре 1919 года он начинает подготовку восстания во Владивостоке, направленного против наместника Колчака генераллейтенанта Розанова. 31 января 1920 года это восстание завершается успехом. Лазо становится заместителем председателя Военного совета Временного правительства Дальнего Востока – Приморской областной земской управы.
В регионе, однако, присутствовала, помимо красных и белых, ещё одна сила: японские интервенты. До падения власти белых во Владивостоке они заявляли о своём нейтралитете, но выход большевиков на первые роли их явно не устроил.
Поводом для вмешательства японцев стал так называемый Николаевский инцидент, в ходе которого стычка партизан с японским гарнизоном в марте 1920 года завершилась полным разгромом последнего. В ночь с 4 на 5 апреля 1920 года японцы напали на органы советской власти и военные гарнизоны в Хабаровске, Владивостоке, Спасске и других городах Дальнего Востока. Сил для активного сопротивления японцам было недостаточно.
Лазо был арестован японцами во Владивостоке вместе с двумя другими членами Военного совета: Алексеем Луцким и Всеволодом Сибирцевым. Последний раз под стражей во Владивостоке их видели рано утром 9 апреля, после чего они были увезены в неизвестном направлении.
Жена Сергея Ольга Лазо, с которой они вместе воевали в партизанском отряде, пыталась получить хоть какую-то информацию о судьбе мужа, но японские власти хранили молчание.
Достоверно можно утверждать, что Лазо, Луцкий и Сибирцев были казнены. Но при каких обстоятельствах это произошло?
Согласно канонической версии, 28 или 29 мая 1920 года японцы передали всех троих белоказачьему отряду Бочкарёва, представлявшему собой собрание разрозненных подразделений сил Колчака. На станции МуравьёвАмурский, которая ныне называется Лазо, большевиков сожгли в топке паровоза. Причём Лазо сожгли живьём, а его товарищей застрелили, а уже затем бросили в огонь.
Данная версия основывалась на показаниях некоего анонимного железнодорожника, якобы опознавшего Сергея Лазо за минуты до смерти. Как утверждалось, он оказал сопротивление и его оглушили, после чего бросили в огонь в бессознательном состоянии. С Луцким и Сибирцевым белые повторять опыт не решились, и поэтому сначала застрелили их, а затем сожгли тела.
Зная практику действий японских интервентов в том же Китае, а также многочисленные примеры зверств как красных, так и белых в годы Гражданской войны, теоретически возможность подобной жестокой расправы вполне можно представить.
Однако критики этой версии возражают: ни одного свидетеля с именем и фамилией нет. К тому же есть сомнения насчёт того, что чисто физически белогвардейцы смогли бы поместить взрослого человека в паровозную топку. Особенно если этот человек оказывает активное сопротивление. Ряд историков обращают внимание на то, что в издании Japan Chronicle сообщение о казни большевистских лидеров, задержанных во Владивостоке, появилось ещё в апреле 1920 года. При этом там тоже речь шла о сожжении, но только не живых людей, а трупов.
C уверенностью можно утверждать одно: Сергей Лазо действительно погиб от руки врагов, до конца оставаясь верным идее, которой служил.
Легендарный комдив Николай Щорс прожил полную событий, яркую, но весьма короткую жизнь: он pодился в 1895 году под Чеpниговом и погиб в бою под Kиевом в конце лета 1919 года; было ему всего 24 года.
Его жизнь должна была сложиться иначе: после духовного училища и семинарии он должен был стать священником, но Первая мировая внесла коррективы в его судьбу, которая до конца оказалась связана с армией. B начале войны Hиколай Щоpс воевал на Северо-Западном фронте, затем был направлен на курсы офицеров, служил на Юго-Западном и на Румынском фронтах, был произведён в подпоручики, но заболел туберкулёзом и был отправлен в Симферополь на лечение.
Именно там Щоpс подцепил ещё одну заразу – революционную, попав под влияние большевиков. Когда Черниговщина оказалась под немцами, Щоpс в полной мере показал талант полководца: организовал партизанский отряд, который два месяца не давал немцам спокойно жить, а затем ушёл в Красную Pоссию, где набирала обороты Гражданская война. После мобилизации Щоpс сам сформировал «Укpаинский революционный полк имени тов. Богуна»; карьера стремительна (сначала он командир 2‐й бригады Первой Украинской дивизии, затем – командир 44‐й дивизии, военный комендант Киева), но её оборвала одна-единственная пуля, и до сих пор неясно, кто же её выпустил.
B конце лета 1919 года дивизия Щоpса удерживала позиции на железнодорожном узле Kоpостень под Kиевом, нужно было продержаться, пока большевики не эвакуируют из Киева учреждения; Щоpсy противостояли петлюровцы. Официальная версия гибели комдива говорит о том, что он погиб y села Белошица в расположении Богyнской бригады, осматривая позиции врага через бинокль; якобы его скосила пуля умелого вражеского пулемётчика: комдив был ранен в голову и умер через 15 минут. B момент гибели с ним находились четверо – помощник Иван Дyбовой, политинспектоp из штаба 12‐й армии комиссар Павел Tанхиль-Tанхилевич, офицер Казимир Квятек и некий красноармеец, который утверждал, что комиссар стрелял из браунинга в сторону пулемётчика, и горячая гильза упала ему на голову.
После ранения Щоpса Дубовой неумело перевязал комдива, а позже запретил медсестре менять повязку; по его приказу тело без освидетельствования было передано жене комдива Фpyме Xайкиной, которая в запаянном гробу увезла его в Самару, – эти детали стали основой теорий о том, что Щоpса «убрали» свои же. Тело командира было обследовано только в 1949 годy (Ю. Сафонов, повесть «О “загадочной” гибели Hиколая Щоpса») и выяснилось, что он был убит выстрелом в упор: пуля вошла в затылок справа и вышла через левый висок, что породило ещё больше слухов и версий. Историки считают, что исполнителей могло быть лишь двое: Дубовой, который, возможно, хотел занять место Щоpса, и двадцатишестилетний одессит Tанхиль-Tанхилевич, который после таинственно исчез, его имя вроде бы всплывало в контрразведке Эстонии, а по архивам BЧK известно, что в момент гибели Щоpса он служил в 10‐й армии, в 1920 годy был арестован за шпионаж, отбывал срок и был куда-то сослан. Ho кто стоял за исполнителями? Kто хотел смерти Щоpса?
Одна из версий гласит, что разрешение на убийство дал Лев Tpоцкий, так как Щоpс был неудобным и авторитетным командиром. B пользу версии говорит то, что Tанхиль-Tанхилевич попал в дивизию Щоpса по приказу любимца Tpоцкого, члена PBС 12‐й армии Семёна Аралова, который ненавидел Щоpса «за самостоятельность» и дважды пытался снять комдива, но ему не давали это сделать бойцы. Чтобы укротить Щоpса, Аpалов обратился к Tpоцкомy, обвинив дивизию в «кулацких настроениях»: «Командный состав не соответствует назначению. Многим место на скамье подсудимых. Командир дивизии считает себя “царьком”. <…> 1‐й Богyнский полк, его командный состав – контрреволюционеры. B частях дивизии развит антисемитизм, бандитизм и пьянство. <…> Богyнский полк – угроза Советской власти» (Ю. Сафонов). Троцкий в шифровке дал Аpаловy карт-бланш «провести чистку», и Щоpс был бы расстрелян, но Аpалов торопился и поэтому подослал убийцу. B своих мемуарах он так и писал: «Упорство в личном обращении привело Щорса к преждевременной гибели», а в 1958 годy в журнале «Нива» появилась статья Аралова, в который он развенчивал «культ личности Щорса».
Ещё одна тёмная личность революции, которая могла бы желать смерти комдиву, – матрос Павел Дыбенко, муж Коллонтай, который провалил всё, что можно было провалить, и, возможно, не желал, чтобы это стало известно в Москве (Сборник «50 загадок истоpии», В. Скляpенко, И. Pyдычева, В. Сядpо). Он упустил генерала Краснова, сдал немцам Нарву, а белым – Крым, возглавив оборону Киева, он провалил её и бежал, бросив всё на произвол судьбы. Зная все нюансы его деятельности, именно Щоpс мог вывести его на чистую воду. Есть ещё три версии гибели комдива, по одной из которых он был убит рикошетом пулемётной пули, а Дубовой, увидев ранение в затылок, испугался и решил скрыть его, чтобы не было подозрений. По другой версии Щорса из ревности застрелил его же охранник, а вдова Щорса в воспоминаниях писала, что он просто «погиб в бою с белочехами».
Выяснить, что именно случилось, уже невозможно: следы Танхиль-Танхилевича потеряны, а комдив Дубовой был расстрелян в 1937 годy по обвинению в троцкизме и в заговоре в PKKА. Существует его признание, данное в застенках HKВД, что это именно он убил Щорса, чтобы занять его место. С одной стороны, ясно, что без его участия убийства быть не могло, с другой – он утверждает, что выстрелил Щорсу в висок, в то время как известно, что ему стреляли в затылок. Арестованный в этом же году Kаземир Kвяток подтвердил его показания. B 1919 годy Дубовой был отстранён от командования на время расследования, которое велось кое-как, а затем занял место Щорса. Примечательно, что в том роковом августе погибли ещё три командира из дивизии Щорса: одного расстреляли, другой «погиб в бою», а третьего – отравили.
Были и другие случаи, когда сами большевики расправлялись с конкурентами и неугодными.
Одной из таких жертв, стал Яков Свердлов, о причинах смерти которого историки спорят до сих пор. За свои 33 года жизни Яков Свердлов умудрился 14 раз отсидеть в тюрьме. При этом в ходе революции 1905 года он – двадцатилетний юноша – уже руководил июльскими событиями в Петрограде. В 1913 году Яков Свердлов оказался в одной ссылке в Туруханском крае вместе с Иосифом Сталиным.
После революции Яков Свердлов первым возглавил ВЧК, а затем стал председателем ВЦИК – вторым человеком в стране после Ленина. Кстати, характерный облик чекистов – чёрные кожаные куртка, штаны и сапоги – появился благодаря любви к подобному облачению Якова Свердлова. Приобретая всё большую власть, Свердлов расставлял на руководящие посты по всей стране своих людей. Не удивительно, что вскоре он стал сильно мешать не только другим старым большевикам, но и самому Ленину. И вдруг в 33 года, в самом расцвете сил, Свердлов неожиданно умирает.
Необходимо отметить, что Свердлов, несмотря на годы, проведённые в тюрьмах и ссылках, имел великолепное здоровье и практически не болел. Даже зимой он ходил в лёгком пальто, без шапки; на сон отводил не более пяти часов. При этом Свердлов неизменно заявлял, что никогда не устаёт и не болеет. Это было правдой. Но тем не менее 16 марта 1919 года Свердлов умер от… простуды. Невероятность данного диагноза даже в те годы поразила многих. 7 марта в Орле Свердлов произнёс на лютом морозе речь, затем вернулся в Москву и слёг с температурой 39–40 °C, сопровождавшейся лихорадкой. 10 марта Ленину доложили о болезни соратника. Причём жена Свердлова утверждала, что её муж, будучи больным, передал Ленину некую секретную бумагу о каком-то вопиющем должностном преступлении. О ком сообщалось в рапорте, неизвестно, но на следующий день к Свердлову прислали врача по рекомендации Ленина – Ф. А. Гетье. До 15 марта Яков Свердлов, невзирая на болезнь, интенсивно работал. Утром 16 марта он в горячке по всему дому стал искать какие-то бумаги, но не нашёл. К больному приехал Ленин, они о чём-то беседовали в течение получаса, а спустя 15 минут после отъезда вождя Свердлов умер. Данный калейдоскоп событий выглядят как минимум странно.
После смерти Свердлова у историков возникло множество вопросов. Почему некролог вышел только в двух малотиражных газетах, хотя скончался один из высших руководителей государства? Почему не было консилиума врачей? Почему больного лечили дома, хотя в те годы уже работал кремлёвский стационар? Было непонятно, как больной с жуткой температурой, воспалением лёгких и гриппом накануне смерти провёл заседания Оргбюро, Президиума ВЦИК и Совнаркома. Это и здоровому-то человеку тяжело сделать. Создавалось впечатление, что или диагноз был поставлен неверно, либо больного сознательно не лечили, загнав, как «лошадь», до смерти. При этом в стране хорошо знали, что набравший власти инициативный Свердлов ощутимо теснит Ленина, беззастенчиво забирая у него бразды правления. Вероятно, за это Свердлов и поплатился. Возможно, во время последнего визита к больному Ленин сказал ему нечто из ряда вон выходящее, что и убило его потенциального конкурента.
Григорий Иванович Котовский родился в 1881 году в местечке Ганешты Бессарабской губернии в семье заводского механика. После окончания двухклассного народного училища Котовский в 1895 году поступил в Кишинёвское реальное училище, но был отчислен из-за «плохого поведения». В 1896–1900 годы он учился в сельскохозяйственной школе, а потом работал помощником управляющего и управляющим имением. Протесты Котовского против существующих порядков, по его словам, «выливались в стихийные, неорганизованные формы». В 1904 году Котовский не явился на призывной пункт, был арестован за уклонение от военной службы и направлен в Костромской пехотный полк. Вскоре дезертировал, организовал отряд, с которым жёг имения, грабил помещиков и одаривал бедняков. После ряда арестов и побегов Котовский в 1907 году был приговорён к 12 годам каторги, бежал из Нерчинска в 1913 году, убив двух конвоиров, скрывался, работая грузчиком, чернорабочим.
В начале 1915 года снова возглавил в Бессарабии вооружённый отряд: «Я насилием и террором отбирал от богача-эксплуататора ценности и передавал их тем, кто эти богатства создавал. Я, не зная партии, уже был большевиком». В 1916 году был приговорён к смертной казни, заменённой пожизненной каторгой. В мае 1917 года условно освобождён и направлен в армию на Румынский фронт, был членом полкового комитета 136‐го Таганрогского пехотного полка. В ноябре 1917 года примыкал к левым эсерам; был избран членом комитета 6‐й армии. Затем примкнул к большевикам и работал в Кишинёве во фронтовом отделе Румчерода.
В январе – марте 1918 года командовал Тираспольским отрядом, с июля 1919 года – командир бригады 45‐й стрелковой дивизии. Находясь в составе группы И. Э. Якира, проделал героический поход от Днестра до Житомира. В ноябре 1919 года в составе 45‐й дивизии участвовал в обороне Петрограда. Во время гражданской войны дрался на стороне большевиков против А. И. Деникина и на советско-польском фронте. В 1920 году Котовский вступил в партию. Он отличился при подавлении крестьянского мятежа А. С. Антонова и других противников новой власти. Котовский был награждён тремя орденами Красного Знамени.
С января 1920 года формировал, а затем командовал кавалерийской бригадой на Украине и на советско-польском фронте. С декабря 1920 года – начальник 17‐й кавалерийской дивизии. В 1921 году командовал кавалерийскими частями при ликвидации махновщины, антоновщины и петлюровщины. С сентября 1921 года – начальник 9‐й кавалерийской дивизии, с октября 1922 года – командующий 2‐го кавалерийского корпуса. Предательски убит своим подчинённым в совхозе Чебанка (около Одессы), похоронен в городе Бирзуле (ныне Котовск).
Михаил Васильевич Фрунзе – революционный деятель, большевик, военачальник Красной армии, участник Гражданской войны, теоретик военных дисциплин. Родился 21 января (по ст. ст.) 1885 года в городе Пишпек (Бишкек) в семье фельдшера Василия Михайловича Фрунзе, молдаванина по национальности. Отец мальчика после окончания медицинской московской школы был отправлен для армейской службы в Туркестан, где и остался. Мать Михаила, Мавра Ефимовна Бочкарёва, крестьянка по происхождению, родилась в Воронежской губернии. Её семья в середине ХIХ века переселилась в Туркмению.
У Михаила был старший брат Константин и три младших сестры – Людмила, Клавдия и Лидия. Все дети отучились в гимназии Верного (ныне город Алматы). Старшие дети, Константин, Михаил и Клавдия, после окончания среднего звена получили золотые медали. Михаил продолжил учёбу в Петербургском политехническом институте, куда поступил в 1904 году. Уже в первом семестре увлёкся революционными идеями и вступил в социал-демократическую рабочую партию, где примкнул к большевикам.
В ноябре 1904 года Фрунзе был арестован за участие в провокационной акции. Во время манифестации 9 января 1905 года в Петербурге получил ранение в руку. Бросив учёбу, Михаил Фрунзе сбежал от преследования властей в Москву, а затем в Шую, где возглавил стачку текстильщиков в мае того же года. С Владимиром Лениным Фрунзе познакомился в 1906 году, будучи в Стокгольме.
Михаилу приходилось скрывать настоящую фамилию во время организации подпольного движения в Иваново-Вознесенске. Молодой партиец был известен под псевдонимами товарищ Арсений, Трифоныч, Михайлов, Василенко.
Под руководством Фрунзе был создан первый Совет рабочих депутатов, который занимался распространением листовок антиправительственного содержания. Фрунзе возглавлял городские митинги и производил захваты оружия. Михаил не боялся использовать террористические методы борьбы. Молодой революционер возглавил вооружённое восстание в Москве на Пресне, произвёл захват шуйской типографии с применением оружия, напал на полицейского урядника Никиту Перлова с целью убийства. В 1910 году получил смертный приговор, который по ходатайству представителей общественности, а также писателя В. Г. Короленко был заменён каторгой.
Через четыре года Фрунзе был отправлен на постоянное место жительства в деревню Манзурку Иркутской губернии, откуда в 1915 году бежал в Читу. Под фамилией Василенко некоторое время работал в местном издании «Забайкальское обозрение». Поменяв паспорт на имя Михайлова, переехал в Белоруссию, где устроился статистиком в комитет Земского союза на Западном фронте.
Целью пребывания Фрунзе в Российской армии стало распространение революционных идей среди военных. В Минске Михаил Васильевич возглавил подпольную ячейку. Со временем среди большевиков за Фрунзе закрепилась репутация специалиста по военизированным акциям.
В начале марта 1917 года Михаил Фрунзе подготовил захват вооружённого полицейского управления Минска дружинами рабочих. В руки революционеров попали архивы сыскного отделения, оружие и боеприпасы участка, несколько государственных учреждений. После успеха операции Михаила Фрунзе назначили временным начальником минской милиции. Под руководством Фрунзе начался выпуск партийных газет. В августе военного перебросили в Шую, где Фрунзе занял пост председателя Совета народных депутатов, уездной земской управы и городского совета.
Революцию Михаил Фрунзе встретил в Москве на баррикадах около гостиницы «Метрополь». Через два месяца революционер получил пост главы партийной ячейки Иваново-Вознесенской губернии. Занимался Фрунзе и делами военного комиссариата. Гражданская война позволила Михаилу Васильевичу в полной мере проявить военные способности, которые он приобрёл за время революционной деятельности.
С февраля 1919 года Фрунзе берёт на себя командование 4‐й армией РККА, которой удалось остановить наступление Колчака на Москву и начать контрнаступление на Урал. После столь значительной победы Красной армии Фрунзе получил орден Красного Знамени.
Часто его можно было увидеть на коне во главе войска, что позволило ему сформировать положительную репутацию в среде красноармейцев. В июне 1919 года Фрунзе получил контузию под Уфой. В июле Михаил Васильевич возглавил Восточный фронт, но через месяц получил задание на южном направлении, в зону которого входили Туркестан и территория Ахтубы. Вплоть до сентября 1920 года Фрунзе проводил успешные операции по линии фронта.
Неоднократно Фрунзе давал гарантии сохранения жизни тем контрреволюционерам, которые готовы были перейти на сторону красных. Михаил Владимирович способствовал гуманному отношению к пленным, что вызывало недовольство у вышестоящих чинов.
Осенью 1920 года началось планомерное наступление красных на армию Врангеля, которая находилась в Крыму и Северной Таврии. После разгрома белых отряды Фрунзе атаковали бывших соратников – бригады батьки Махно и Юрия Тютюнника. Во время крымских боёв Фрунзе получил ранение. В 1921 году вошёл в Центральный комитет РКП (б). В конце 1921 года Фрунзе отправился с политическим визитом в Турцию. Общение советского командующего с турецким вождём Мустафой Кемалем Ататюрком позволило укрепить турецко-советские связи.
В 1923 году на октябрьском пленуме ЦК, где определялось распределение сил между Троцким и тройкой лидеров (Сталиным, Зиновьевым и Каменевым), Фрунзе поддержал последних, выступив с докладом против деятельности Троцкого. Михаил Васильевич обвинял наркома по военным делам в развале Красной армии и отсутствии чёткой системы подготовки военных кадров. По инициативе Фрунзе с высоких военных чинов были сняты троцкисты Антонов-Овсеенко и Склянский. Линию Фрунзе поддерживал начальник генштаба РККА Михаил Тухачевский.
В 1924 году Михаил Фрунзе прошёл путь от заместителя начальника до председателя Реввоенсовета СССР и наркома по военным и морским делам, стал кандидатом в члены Политбюро ЦК и Оргбюро ЦК РКП (б). Также Михаил Фрунзе возглавил штаб Красной армии и Военную академию РККА.
Главной заслугой Фрунзе в этот период можно считать проведение военной реформы, целью которой стало уменьшение численности Красной армии, проведение реорганизации командного состава. Фрунзе ввёл единоначалие, территориальную систему деления войска, участвовал в создании двух независимых структур внутри армии – постоянного войска и мобильных отрядов милиции.
В это время Фрунзе разработал военную теорию, которую изложил в ряде изданий – «Единая военная доктрина и Красная армия», «Военно-политическое воспитание Красной армии», «Фронт и тыл в войне будущего», «Ленин и Красная армия», «Наше военное строительство и задачи Военно-научного общества».
В течение последующего десятилетия в Красной армии благодаря стараниям Фрунзе появились десантные и танковые войска, новое артиллерийское и автоматическое оружие, были разработаны методы ведения тыловой поддержки войска. Михаилу Васильевичу удалось стабилизировать ситуацию в РККА за короткий срок. Теоретические разработки тактики и стратегии ведения боя в условиях империалистической войны, заложенные Фрунзе, в полной мере были реализованы во время Второй Мировой войны.
Осенью 1925 года Михаил Фрунзе обратился к медикам по поводу лечения язвы желудка. Генералу была назначена несложная операция, после проведения которой 31 октября Фрунзе скоропостижно скончался. Официальной причиной смерти стало заражение крови, по неофициальной версии – гибели Фрунзе поспособствовал Сталин.
Через год жена Михаила Васильевича покончила жизнь самоубийством. Тело Фрунзе захоронено на Красной площади, могила Софьи Алексеевны находится на Новодевичьем кладбище Москвы.
Неофициальная версия смерти Фрунзе была взята за основу произведения Пильняка «Повесть непогашенной луны» и мемуаров эмигранта Бажанова «Воспоминания бывшего секретаря Сталина». Биография Фрунзе интересовала не только писателей, но и советских и российских кинематографистов. Образ отважного военачальника Красной армии использовался в 24 фильмах.
О личной жизни красного военачальника до революции ничего не известно. Михаил Фрунзе женился только после 30 лет на дочери народовольца Софье Алексеевне Поповой. В 1920 году в семье родилась дочь Татьяна, через три года – сын Тимур. После смерти родителей детей на воспитание взяла бабушка. Когда не стало бабушки, брат с сестрой попали в семью друга Михаила Васильевича – Клима Ворошилова.
После окончания школы Тимур поступил в лётное училище, во время войны служил лётчиком-истребителем. Погиб в 19 лет в небе над Новгородской областью. Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Дочь Татьяна окончила химико-технологический институт, во время войны работала в тылу. Вышла замуж за генерал-лейтенанта Анатолия Павлова, от которого родила двоих детей – сына Тимура и дочь Елену. Потомки Михаила Фрунзе живут в Москве. Внучка занялась химией.
Именем полководца названы улицы, населённые пункты, географические объекты, теплоходы, эскадренные миноносцы и крейсеры. Памятники Михаилу Фрунзе установлены в более чем 20 городах бывшего Советского Союза, в том числе в Москве, Бишкеке, Алматы, Санкт-Петербурге, Иваново, Ташкенте. Фото Михаила Васильевича находятся во всех учебниках по новой истории.
Активный участник Октябрьской революции Феликс Эдмундович Дзержинский родился 11 сентября (30 августа по старому стилю) 1877 года в имении Дзержиново (ныне Столбцовского района Минской области, Белоруссия) в мелкопоместной дворянской семье. Род Дзержинских вёл своё происхождение от литвинских шляхтичей. Дед Феликса по матери, Игнатий Янушевский, был профессором Петербургского института инженеров путей сообщения. Отец окончил Санкт-Петербургский университет, преподавал математику и физику в мужской и женской гимназиях в Таганроге. В 1875 году Эдмунд Дзержинский возвратился с семьёй в родное поместье в связи с обнаружившимся у него туберкулёзом, от которого он скончался в 1882 году.
Будущий «рыцарь революции» родился, по семейному преданию, недоношенным. Его мать, будучи беременной, неловко оступилась и упала в открытый лаз погреба. Падение было таким неудачным, что женщина потеряла сознание, вскоре у неё начались преждевременные роды. Мальчика, который появился на свет, решили назвать Феликсом, то есть счастливым. Ведь выжил он, по словам повитухи, чудом… Он стал не единственным сыном родителей – в семье Дзержинских всего было 9 детей, которые в 1882 году стали полусиротами после смерти главы семейства.
Оставшись одна с детьми на руках, 32‐летняя мать Дзержинского старалась воспитать своих детей достойными и образованными людьми, поэтому Феликса уже в семилетнем возрасте отдала в гимназию, где он не показал высоких результатов. Абсолютно не зная русского языка, Дзержинский два года просидел в первом классе и по окончании восьмого класса выпустился со свидетельством, в котором оценка «хорошо» стояла только по Закону Божьему. Но причиной его плохой успеваемости стал не слабый интеллект, а постоянные трения с педагогами, при этом он самых юных лет мечтал стать ксёндзом, поэтому и не старался грызть гранит науки.
Говорят, будто юный Феликс страстно влюбился в сестру Ванду, а девочка не отвечала ему взаимностью. Охваченный безумной ревностью мальчик, страстный и импульсивный от рождения, застрелил её из отцовского ружья. Есть и другая, не менее ужасная, версия смерти девочки. Однажды братья Феликс и Станислав решили пострелять по мишени. Вдруг на линии огня появилась сестрёнка… Ей было всего 14 лет. Чья именно пуля её убила – Феликса или Станислава, – осталось неизвестным.
В 1894 году, будучи гимназистом Виленской гимназии, Дзержинский вошёл в социал-демократический кружок, в 1895 году вступил в партию «Социал-демократия Королевства Польского и Литвы» (СДКП и Л), вёл кружки ремесленных и фабричных учеников (получил от них имя «Яцек»), изучал марксизм.
В 1897 году Дзержинский вёл революционную работу в Ковно (ныне Каунас, Литва), выпускал на польском языке нелегальную газету «Ковенский рабочий». В июле 1897 года он был арестован и в августе 1898 года сослан на три года в Вятскую губернию, откуда через год бежал. В Варшаве участвовал в восстановлении разгромленной полицией социал-демократической организации. В январе 1900 года арестован и в январе 1902 года сослан на пять лет в Вилюйск, но в связи с болезнью был оставлен в Верхоленске. В июне 1902 года он бежал, вернулся в Варшаву.
В первой ссылке он повстречал свою первую же любовь, которая, как говорят, не забывается. Впрочем, о том, вспоминал ли уже состоявшийся революционер своё первое серьёзное увлечение прекрасным полом, мы ещё поговорим.
Итак, 1898 год, совсем юного Дзержинского отправляют в ссылку. На теплоходе он познакомился с Маргаритой Николаевой. Девушка разделяла взгляды революционеров, помогала им, печатая и распространяя запрещённую литературу. За это и поплатилась. Маргарита родилась в Саратовской губернии в семье сельского священника. Она получила домашнее образование, затем, упорхнула в Петербург, где на Бестужевских курсах и прониклась революционными идеями. Сражаться за правое дело Маргарита решила при помощи любимой литературы.
Николаеву сослали в Нолинск. И Феликс, который, похоже, влюбился в девушку с первого взгляда, решил попасть туда же. Его ходатайство удовлетворили. Но воссоединиться к Маргарите не давала судьба. Сначала сел на мель теплоход, в котором конвоировали Дзержинского. Феликс не растерялся и попросился в Нолинск без конвоя, за свой счёт. Ходатайство удовлетворили.
Какое-то время влюблённые были вместе. А потом Дзержинского отправили в Кайгородское, откуда он впоследствии сбежал в Варшаву.
Дзержинский млел при виде Маргариты, не знал, как себя вести, и очень боялся брака. К тому же он всё же думал, что его главная цель – помочь революции свершиться. А семейное, личное – это всё будет мешать. Но не только это смущало Феликса. Он чувствовал, что неопытен в делах сердечных.
Первая любовь, как показывает практика, не бывает долгой, но запоминается на всю жизнь. Впрочем, Дзержинский очень быстро забыл Николаеву. Перед побегом Феликса они виделись. А когда ФД вернулся в Россию, то и думать забыл о Маргарите. Та же, кажется, помнила Дзержинского всю свою жизнь.
К концу своей жизни Николаева уехала в Пятигорск, где готовила книгу про поэта Лермонтова. Некоторые находят большое сходство между молодым Феликсом Эдмундовичем и Михаилом Юрьевичем в ранние годы…
В июле 1903 года в Берлине на 4‐м съезде Социал-демократии Королевства Польского и Литвы Дзержинский был избран членом Главного правления. Активно участвовал в Первой русской революции, в 1905 году возглавлял первомайскую демонстрацию в Варшаве, работал в Варшавской военно-революционной организации РСДРП.
В июле 1905 года на Варшавской партийной конференции Дзержинский был арестован и заключён в Варшавскую цитадель, в октябре освобождён по амнистии.
В 1906 году он был делегатом 4‐го съезда РСДРП, на котором впервые встретился с Владимиром Лениным и был введён в состав ЦК РСДРП как представитель СДКП и Л.
В 1906–1917 годах Дзержинский неоднократно арестовывался, заболел туберкулёзом. Был три раза в ссылке. С того момента, как в 17 лет он пришёл в революционную деятельность, на свободе почти не был. Шесть лет провёл на каторге и пять в ссылке. Иногда в кандалах. Иногда в одиночке. Иногда в лазарете. Жандармы предлагали свободу в обмен на сотрудничество – отказывался. Готов был к худшему. Явно не отрёкся бы от своей веры и перед эшафотом.
Он полагал, что нет оснований быть снисходительным к тем, кто держал его и его единомышленников на каторге. В борьбе не на жизнь, а на смерть он не считал себя связанным какими-то нормами морали.
Он сидел бы в тюрьмах вечно, но его, как и других политических заключённых, освободила Февральская революция. Он вошёл в состав Московского комитета РСДРП (б).
Летом 1917 года Дзержинский, находясь на лечении, заочно был избран во ВЦИК.
Член президиума ВЦИК. С декабря 1917 года по февраль 1922 года был председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), ГПУ и ОГПУ. Один из организаторов «красного террора». За твёрдость характера, доходящую до жестокости, его называли «Железный Феликс».
Его считали аскетом, поражались его целеустремлённости и принципиальности. Был у него очевидный интерес к следственной работе и испепеляющая ненависть к предателям.
Дзержинский считается непрофессионалом, но это он ввёл внутрикамерную «разработку» заключённых. К ним подсаживали агентов, которые выведывали то, о чём на допросах арестованные не говорили. Этому он научился у царских жандармов. Когда он сидел в тюрьме, провокаторы его возмущали. Когда сам стал сажать, мнение изменилось.
Настоящего расследования не проводили – для этого не было ни времени, ни умения, поэтому от следователя требовалось одно – добиться признания. Доносчиков, осведомителей, секретных агентов ценили как главный инструмент следствия.
ВЧК большевики создавали для того, чтобы расправиться с армией чиновников, которые бойкотировали новую власть и саботировали распоряжения Совета народных комиссаров. Но руководители партии быстро поняли цену органам госбезопасности как важнейшему инструменту контроля над страной.
Дзержинский потребовал права самостоятельно уничтожать врагов: «Право расстрела для ЧК чрезвычайно важно». 21 февраля 1918 года Совнарком утвердил декрет «Социалистическое Отечество в опасности!». Он грозил расстрелом как внесудебной мерой наказания «неприятельским агентам, германским шпионам, контрреволюционным агитаторам, спекулянтам, громилам, хулиганам».
Важно отметить эту формулировку: внесудебная мера наказания! Принцип: политическая целесообразность важнее норм права. И чекисты по всей стране без суда ставили к стенке тех, кого считали «врагами народа и революции». Попутно массово уничтожали и заложников, на которых никакой вины и вовсе не было.
Дзержинский заложил основы кадровой политики в ведомстве госбезопасности, назвав главным критерием преданность власти. Объяснял управляющему делами ВЧК Генриху Ягоде: «Если приходится выбирать между, безусловно, нашим человеком, но не особенно способным, и не совсем нашим, но очень способным, у нас, в ЧК, необходимо оставить первого…»
В учётной карточке председателя петроградской ЧК Семёна Лобова в графе «Образование» было написано: «Не учился, но пишет и читает». Неграмотность не мешала его успешной карьере. Лобов пошёл в гору после того, как в одну ночь арестовал в Петрограде 3 тысячи человек.
Дзержинский не был патологическим садистом, каким его часто изображают, кровопийцей, который наслаждался мучениями своих узников. Но уж очень быстро он привык к тому, что вправе лишать людей жизни. 2 августа 1921 года, уже после окончания Гражданской войны, приказал начальнику Всеукраинской ЧК Василию Манцеву:
«Ввиду интервенционистских подготовлений Антанты необходимо арестованных петлюровцев-заговорщиков возможно скорее и больше уничтожить. Надо их расстрелять. Процессами не стоит увлекаться. Время уйдёт, и они будут для контрреволюции спасены. Поднимутся разговоры об амнистии и так далее. Прошу Вас вопрос этот решить до Вашего отпуска…»
Иначе говоря, Дзержинский приказал казнить людей без суда и следствия, понимая, что этих людей вообще могут амнистировать! Феликс Эдмундович твёрдо был уверен, что уж он-то справедлив и зря никого не накажет. Наверное, не думал о том, что, присвоив себе право казнить и миловать и позволив другим чекистам выносить смертные приговоры, он создал систему полной несправедливости.
Во главе «карательного аппарата» ВЧК Дзержинский стал не только борцом с «белым террором», но и «спасителем» Республики Советов от разрухи. Благодаря его неистовой деятельности во главе ВЧК было восстановлено более 2000 мостов, почти 2,5 тыс. паровозов и 10 тысяч километров железной дороги.
Также Дзержинский лично отправился в Сибирь, которая на момент 1919 года была самым урожайным хлебным регионом, и проконтролировал заготовку продуктов, что позволило поставить в голодающие районы страны порядка 40 млн тонн хлеба и 3,5 млн тонн мяса.
Глава ВЧК также взялся за спасение молодого поколения России – он возглавил «детскую комиссию», которая помогла основать на местах сотни трудовых коммун и детских домов, которые были преобразованы из отобранных у богачей загородных домов и особняков.
Во время советско-польской войны 1920 года Дзержинский был членом Временного революционного комитета (ВРК) Польши в Белостоке.
Некоторые руководители партии и государства полагали, что после Гражданской войны чрезвычайщина не нужна, от услуг чекистов можно отказаться, а преступниками займутся милиция и прокуратура. Дзержинский нервничал, опасался, что созданное им ведомство распустят. Писал своему заместителю Вячеславу Менжинскому:
«Нам необходимо пересмотреть нашу практику, наши методы и устранить всё то, что может питать такие настроения. Это значит, мы должны, может быть, стать потише, скромнее, прибегать к обыскам и арестам более осторожно, с более доказательными данными; некоторые категории арестов (нэпманство, преступления по должностям) ограничить… Необходимо обратить внимание на борьбу за популярность среди крестьян, организуя им помощь в борьбе с хулиганством и другими преступлениями».
Руководитель Наркомата юстиции Николай Крыленко обратился в политбюро: «ВЧК страшен беспощадностью своей репрессии и полной непроницаемостью для чьего бы то ни было взгляда». Он бил тревогу: чекисты не передают дела арестованных в суд, а выносят приговоры внесудебным путём – через особое совещание и «судебную тройку». Крыленко предлагал ограничить строго и жёстко права ГПУ на внесудебный разбор дел, следствие поставить под контроль прокуратуры.
Дзержинский отверг предложения Крыленко: ведомство госбезопасности не правосудие осуществляет, а уничтожает политических врагов. Главный чекист возмущался: «Практика и теория наркомата юстиции ничего общего с государством диктатуры пролетариата не имеют, а составляют либеральную жвачку буржуазного лицемерия. Во главе прокуратуры должны быть борцы за победу революции, а не люди статей и параграфов. Я уверен, что наркомат юстиции растлевает революцию».
Если бы не Дзержинский, ведомство госбезопасности, возможно, вовсе бы исчезло после Гражданской войны и судьба России сложилась иначе. Феликс Эдмундович превратил своё ведомство в инструмент тотального контроля и подавления. Конечно, указания о репрессиях шли сверху, но чекисты не только прилежно исполняли приказы, но и, доказывая свою полезность, сами проявляли инициативу, придумывали врагов и фальсифицировали дела. Жестокость и беспощадность оправдывались и поощрялись. За либерализм могли сурово наказать, за излишнее рвение слегка пожурить.
Беззаконие, массовый террор не могли не сказаться на психике людей и представлениях о жизни. Вот почему гражданская война продолжилась в мирное время.
В апреле 1921 года назначен наркомом путей сообщения, одновременно занимал посты председателя ВЧК и наркома внутренних дел. С 1921 года Дзержинский был председателем Комиссии по улучшению жизни детей при ВЦИК.
С 1920 года поддерживал Иосифа Сталина в его борьбе с Львом Троцким за власть. После лишения ГПУ права выносить смертные приговоры в 1922 году добился создания при НКВД Особого совещания, где он являлся председателем, с правом ссылать «контрреволюционеров». Был одним из вдохновителей высылки в 1922 году за рубеж многих известных деятелей науки и культуры.
В 1922 году Дзержинский возглавил Высший совет народного хозяйства – ВСНХ СССР. С 1924 года – член Оргбюро и кандидат в члены Политбюро ЦК РКП (б).
В 1924 году Феликс Дзержинский стал главой Высшего народного хозяйства СССР. На этом посту революционер с полной самоотдачей принялся бороться за социалистическое переустройство страны. Он выступал за развитие частной торговли, для которой требовал создать благоприятные условия. Также «железный» Феликс активно занимался вопросами развития металлургической отрасли в стране.
При этом он боролся с левой оппозицией, так как она угрожала единству партии и проведению Новой экономической политики. Дзержинский выступал за полное преобразование системы управления страной, опасаясь того, что во главе СССР встанет диктатор, который «похоронит» все результаты революции.
Он был очень скромен и достаточно бескорыстен, никогда не пьянствовал и не воровал. Кроме этого, глава ВЧК завоевал себе репутацию абсолютно неподкупного, непоколебимого и настойчивого человека, который хладнокровно достигал своих целей ценой жизни «неверных».
В большой политике Феликс Эдмундович не преуспел. Он так и не стал членом Политбюро, остался кандидатом. Менее авторитетные в партии люди легко обошли его на карьерной лестнице. Ленин не особо его жаловал и не выдвигал в первый ряд. «Это был фанатик, – вспоминал Дзержинского философ Николай Бердяев. – Он производил впечатление человека одержимого. В нём было что-то жуткое. В прошлом он хотел стать католическим монахом, и свою фанатическую веру он перенёс на коммунизм».
Феликс Дзержинский продолжает бороться с высокопоставленными коррупционерами. 1 января 1926 года Ф. Э. Дзержинский на Пленуме ЦК ВКП (б) выступает с речью, в которой разоблачает лидеров «новой оппозиции». 9 июля 1926 года Дзержинский на совещании ответственных работников ВСНХ СССР произносит речь «На борьбу с болезнями управленческого аппарата». 14–20 июля 1926 года Дзержинский участвует в работе объединённого Пленума ЦК и ЦКК ВКП (б), где прямо говорит о вопиющих злоупотреблениях высших должностных лиц.
Чудес в жизни Феликса Эдмундовича Дзержинского было много. Он чудом выжил в автомобильной катастрофе, которая унесла жизнь его шофёра, чудом не умер от туберкулёза за 11 лет тюрем и каторги, на которые его раз за разом приводила его революционная деятельность. Чудом не был застрелен врагами в ходе Гражданской войны. И чудом спасся, когда в окно его кабинета на Лубянке кто-то бросил гранату. Но даже в жизни человека, которого родители назвали счастливым, чудеса рано или поздно кончаются. Дзержинскому их хватило только до 49 лет.
20 июля 1926 года Феликс Дзержинский резко выступал в Москве на пленуме ЦК.
По свидетельству Анастаса Микояна, на пленуме «Дзержинский почувствовал себя плохо и, не дождавшись конца заседания, вынужден был с нашей помощью перебраться в соседнюю комнату, где лежал некоторое время. Вызвали врачей. Часа через полтора ему стало получше, и он пошёл домой. А через час после этого его не стало…»
По заключению врачей, причиной смерти революционера стал сердечный приступ, который случился с ним во время двухчасового эмоционального доклада, посвящённого состоянию экономики СССР. Но возникает ощущение, что вскрытие производилось кое-как, наспех, – и уж точно никто не искал в теле Дзержинского следов яда, о таких поисках в описании вскрытия речи не идёт.
Известно, что проблемы с сердцем у главы ВЧК были обнаружены ещё в 1922 году. Тогда врачи предупреждали революционера о необходимости сократить рабочий день, так как чрезмерная нагрузка убьёт его. Несмотря на это, 48‐летний Дзержинский продолжал полностью отдаваться работе, в результате чего его сердце остановилось.
Похоронен в Москве на Красной площади. С тех пор прошло уже без малого 100 лет, но ответа на вопрос, что же стало истинной причиной смерти «первого чекиста» страны Советов, до сих пор нет.
Феликс Дзержинский был женат на Софье Мушкат (1882–1968), участнице революционного движения в Польше и России. В Советской России она работала в Наркомпросе, в Польском бюро при ЦК РКП (б). Была научным сотрудником и ответственным редактором в институте Маркса ‒ Энгельса ‒ Ленина, работала в аппарате исполкома Коминтерна.
Их сын Ян родился в 1911 году в Варшавской женской тюрьме во время заключения матери. Окончил военно-инженерную академию, с 1943 года работал в аппарате ЦК ВКП (б). До 1953 года жил с женой и сыновьями в Кремле, затем в Доме на набережной. Скончался в 1960 году в Москве.
Дзержинский был награждён орденом Красного Знамени (1920).
Его именем названы города в Московской и Нижегородской областях. Его имя носят почти 1,5 тысячи улиц, площадей и переулков России.
Среди многочисленных памятников Феликсу Дзержинскому наиболее известен памятник, установленный в 1958 году в Москве на Лубянской площади. В августе 1991 года памятник был свергнут с постамента и позднее помещён в парк искусств «Музеон».
Революционная деятельность «железного Феликса» в современном обществе оценивается неоднозначно – одни считают его героем и «грозой буржуазии», а другие вспоминают как безжалостного палача, ненавидевшего всё человечество. Данные свежего опроса ВЦИОМ у многих вызвали шок: оказывается, и сегодня почти половина россиян поддерживает возвращение Железного Феликса на Лубянскую площадь.
Алексей Алексеевич Брусилов родился в Тифлисе, сын генерала. Образование получил в пажеском корпусе, откуда был выпущен в 15‐й драгунский Тверской полк. В 1877–1878 гг. участвовал в русско-турецкой войне. В 1881 году поступил на учёбу в Петербургскую кавалерийскую школу. В последующие годы Брусилов занимал должности старшего учителя верховой езды и выездки лошадей, начальника отдела эскадронных и сотенных командиров, помощника начальника школы, вырос в чинах до генерал-майора (1900), был причислен к штату лейб-гвардии. Его знали и ценили руководители Военного министерства, главный инспектор кавалерии великий князь Николай Николаевич. Брусилов пишет статьи о кавалерийской науке, посещает Францию, Австро-Венгрию и Германию, где изучает опыт верховой езды и работы конных заводов. В 1902 году Брусилов по праву был выдвинут на должность начальника Петербургской кавалерийской школы. «Лошадиная академия», как её шутливо называли в армии, под его руководством сделалась признанным центром подготовки командного состава русской кавалерии.
Алексей Брусилов искренне ценил прямого, как он часто выражался: «толкового» «русского мужика» Александра III, на период правления которого пришёлся бурный рост его военный карьеры. Тем не менее с Николаем II отношения у Брусилова не складывались.
Его второй любовью стала Надежда Владимировна Желиховская, племянница знаменитой русской оккультистки и теософки Елены Петровны Блаватской.
В 1906 году Брусилов по протекции великого князя Николая Николаевича был назначен начальником 2‐й гвардейской кавалерийской дивизии, где заслужил большое уважение подчинённых своим командирским искусством и уважительным отношением к офицерам и солдатам. Но личная драма – смерть жены, а также гнетущая обстановка петербургской жизни после революции 1905–1906 гг. подтолкнули его к решению уйти из рядов столичной гвардии в армию: в 1908 году Брусилов получил назначение в Варшавский военный округ командиром 14‐го армейского корпуса с производством в генерал-лейтенанты. В 1912 году Алексей Алексеевич принял предложение занять пост помощника командующего Варшавским военным округом. Трения с генерал-губернатором Скалоном и другими «русскими немцами» в штабе округа вынудили его покинуть Варшаву и занять должность командира 12‐го армейского корпуса в соседнем Киевском военном округе.
С объявлением 17 июля 1914 года общей мобилизации российский Генеральный штаб развернул войска Северо-Западного и Юго-Западного фронтов, и в составе последнего Брусилову было поручено командовать 8‐й армией. С началом военных действий армия приняла участие в Галицийской битве. 2 августа Брусилов получил приказ о наступлении, и через три дня его войска двинулись от Проскурова к границе с Австро-Венгрией: началась Галич-Львовская операция, в которой 8‐я армия действовала совместно с 3‐й армией генерала Рузского.
Поначалу австро-венгерские войска оказывали слабое сопротивление, и части 8‐й армии за неделю продвинулись в глубь Галиции на 130–150 километров. В середине августа у рек Золотая Липа и Гнилая Липа противник попытался остановить наступление русских армий, но в ходе ожесточённых сражений был разгромлен. Брусилов докладывал командующему фронтом: «Вся картина отступления противника, большая потеря убитыми, ранеными и пленными ярко свидетельствуют о полном его расстройстве».
Австро-венгерские войска оставили Галич и Львов. Галиция была освобождена. За победы в Галицийской битве Алексей Алексеевич был удостоен орденов святого Георгия 4‐й и 3‐й степеней. Волею судеб соратниками Брусилова в рядах 8‐й армии являлись будущие вожди Белого движения: генерал-квартирмейстером штаба армии был А. И. Деникин, командиром 12‐й кавалерийской дивизии – А. М. Каледин, 48‐й пехотной дивизией командовал Л. Г. Корнилов.
Зимой – весной 1915 года Брусилов руководил 8‐й армией в Карпатской операции Юго-Западного фронта. На Венгерской равнине русские войска натолкнулись на встречное наступление австро-венгерских и германских корпусов. В зимнюю стужу и весеннюю слякоть 8‐я армия вела упорные встречные бои с противником; она обеспечила сохранение блокады крепости Перемышль и тем предопределила её падение, неоднократно вела удачные наступательные действия.
Брусилов часто появлялся в передовых частях, не заботясь о личной безопасности. В своих приказах «первейшей обязанностью» всех подчинённых ему командиров он ставил заботу о солдате, его пище и сухарях. При посещении Николаем II Галиции Брусилов был удостоен звания генерал-адъютанта, чему он не особенно радовался в предвидении скорых осложнений на фронте.
В результате Горлицкого прорыва германских войск к середине лета 1915 года русские армии оставили Галицию. Упорным сопротивлением 8‐й и других армий Юго-Западного фронта положение было выровнено. Потянулась длинная череда позиционных боёв, не приносившая ни одной из сторон ощутимых успехов и получившая название «позиционного тупика».
В марте 1916 года бездеятельного и осторожного командующего фронтом генерала Н. И. Иванова сменил пользовавшийся авторитетом Брусилов, прославившись своим знаменитым наступлением летом 1916 года (Брусиловский прорыв). Перед началом наступления Брусилову чинили неоднократные препятствия со стороны Ставки. Сам Брусилов характеризовал политику верховного командования следующим образом: «Шаг вперёд, шаг назад». План его наступления, который был стратегическим новшеством для того времени, заключался в том, чтобы произвести по одному прорыву на фронте в четырёх частях своей армии. До этого, как говорится, «били клином» – вели наступление всеми силами по одной линии. Такого варианта операции придерживался главнокомандующий Алексеев и сам Николай II.
Слабая поддержка других фронтов и недостаток резервов вынудили Брусилова прекратить наступление и перейти к оборонительным действиям. Но Брусиловский прорыв стал, по сути, переломным моментом в Первой мировой войне, чаша весов склонилась в пользу Антанты. За разгром австро-венгерской армии и взятие сильно укреплённых позиций на Волыни, в Галиции и на Буковине Алексей Алексеевич был награждён Георгиевским оружием, украшенным бриллиантами.
Во время событий Февральской революции он принял заметное участие в давлении на императора Николая II с целью подписать отречение. После увольнения генерала Алексеева 21 мая 1917 года был назначен Верховным главнокомандующим. Однако Брусилов оказался в сложнейшем положении: с одной стороны, полководец по-прежнему стоял за продолжение войны до победного конца, с другой – поддерживал проведение в армии демократизации, которая в условиях нараставшей революционной пропаганды вела к падению дисциплины и боеспособности войск. Именно поэтому 19 июля он был заменён на этом посту более «твёрдым» Корниловым и отозван в Петроград в качестве военного советника правительства.
Пережив Февральскую революцию и июньское наступление 1917 года, окончившееся для России трагедией, Брусилов со стоическим равнодушием перенёс Октябрьскую революцию. Он не поддерживал политику большевиков, ратуя за монархию под руководством, как сам он часто говорил, «нового Наполеона». Но Брусилов напрочь отказался возглавить московское антибольшевистское выступление юнкеров, произошедшее в конце октября – начале ноября 1917 года. По словам участников восстания, отказ Брусилова явился для них «страшным ударом».
Тем не менее личная трагедия заставила его изменить свои приоритеты и встать на сторону Красной армии. Тяжёлый период Гражданской войны затронул каждую русскую семью. В семье Брусиловых своё несчастье – не выдержав тягот Октябрьской революции и последующей проблемы безработицы для бывшего гвардейского офицера, сын четы Алексей убегает из дома. Долгое время до отца доходили лишь противоречивые слухи о его судьбе. Но однажды, уже в конце декабря 1919 года, на страницах газеты «Боевая правда» он прочёл короткую заметку: «Белые расстреляли б. корнета Брусилова». С ужасом читал отец: «В Киеве по приговору военно-полевого суда белыми расстрелян б. корнет Брусилов, сын известного царского генерала. Он командовал красной кавалерией и попал в плен к белым в боях под Орлом». Вот и вся заметка. Деяние это приписывали Деникину, с которым у Брусилова отношения не сложились ещё во времена Временного правительства.
Именно эта короткая запись определила последующие действия Брусилова, который быстро получил назначение на должность главного кавалерийского инспектора РККА. В 1919 году вступил в Красную армию. Осенью 1920 года Алексей Алексеевич в числе прочих военных и гражданских руководителей Советской России подписал «Воззвание к офицерам армии барона Врангеля», гарантировавшее прощение и безопасность всем, кто прекратит борьбу с советской властью. Многие поверили и поплатились жизнью за свою наивность: офицеры, отказавшиеся эвакуироваться из Крыма, были казнены практически поголовно…
С 1920 года служил в центральном аппарате Наркомвоена, в 1923–1924 гг. – инспектор кавалерии РККА, с 1924 года состоял для особых поручений при РВС. Службу свою на благо нового правительства Брусилов преданно исполнял, пока здоровье позволяло. Умер он в 1926 году в Москве от воспаления лёгких. Советская власть отнеслась к бывшему царскому полководцу уважительно: он был похоронен со всеми воинскими почестями на Новодевичьем кладбище.
А эмиграция навсегда заклеймила его «предателем».
15 (27) октября 1871 г. в обрусевшей польской дворянской семье в Москве родился Вацлав Вацлавович Воровский, российский политический деятель, публицист, литературный критик; один из первых советских дипломатов. Бунтовать начал ещё в лютеранской школе: писал вольнодумные стихи, выступал с речами на полулегальных собраниях учащихся. Свободно владел почти всеми значимыми европейскими языками, включая скандинавские. Воровский получил образование в средней школе при лютеранской церкви.
Обладая недюжинными математическими способностями, поступил сначала в 1890 году на физико-математический факультет Московского университета, потом, испытывая типичную для европейских учёных тех лет тягу к технике, перевёлся в Императорское московское техническое училище, уже тогда элитное и знаменитое – нынешнюю едва ли не лучшую в мире с точки зрения изучения инженерных дисциплин «бауманку».
Юношеское увлечение польскими национальными идеями довольно скоро прошло: семья была для этого чересчур «обрусевшей», а русский язык – бесспорно родным. Но вот левым интеллектуалом Вацлав Вацлавович оставался всегда, пожизненно.
В русском революционном движении – с 1894 года. Высылался в Вологду и Вятку. После ссылки перебрался в Женеву. Сотрудничал в газете «Искра». В 1903 году Воровский тайно прибыл в Одессу для подпольной работы. После II съезда РСДРП он примкнул к большевистской фракции: вёл активную партийную работу, принимал деятельное участие в редактировании журнала «Вперёд» и заменившего его впоследствии издания «Пролетарий». После революционных событий 1905 года был избран руководителем III съезда РСДРП, а в 1906 году участвовал в работе IV съезда РСДРП в Стокгольме.
В 1907–1912 гг. Воровский находился в Одессе, руководил партийной работой и одновременно сотрудничал в «Одесском обозрении», «Ясной заре» и «Одесских новостях». В 1912 году он был снова арестован и выслан в Вологду. После 2‐летней ссылки революционер вернулся в Петербург, продолжив партийную и литературную работу.
Как человек необычайной литературной одарённости, мгновенно стал одним из самых авторитетных авторов «Искры», сотрудничал в большевистских и не только газетах и журналах, занимался закупкой оружия для боевых дружин. И – очень много писал. Много и очень качественно.
И через какое-то время стал, как сейчас бы сказали, «одним из столпов» современного ему русского литературного процесса. Выступал против теории независимости искусства от окружающей действительности. Ругался с «веховцами». Поддерживал прозу Бунина и Куприна, причём Куприну, как сказали бы сейчас, вообще «сделал имя». Ненавидел деградацию и декаданс, но при этом его мнение очень высоко ценилось что «символистами» (такими как Бальмонт, Брюсов, Белый и Блок), что «акмеистами» из «Цеха поэтов» (Гумилёвым, Городецким, Ахматовой).
Не любил нигилизм и нигилистов, после его статьи 1909 года «Базаров и Санин. Два нигилизма» и была уничтожена литературная репутация писателя Арцыбашева – того самого, который потом вдогонку обзывал убитого «палачом».
Достаточно сказать, что литературоведческие и критические статьи Воровского переиздавались вплоть до 1971 года, а многие из них для специалистов и до сих пор более чем актуальны.
После Февральской революции Воровский вошёл в состав Заграничного бюро Центрального Комитета РСДРП (б) в Стокгольме, сформированного по предложению лидера партии В. И. Ленина. В октябре (ноябре) 1917 года Вацлав Вацлавович был назначен полномочным представителем нового российского правительства при скандинавских государствах; в 1919 году вернулся в Россию, заняв пост заведующего Государственным издательством.
С 1921 года Воровский был назначен полномочным и торговым представителем советского правительства в Италии. В следующем году он принял участие в Генуэзской конференции, в ещё через год назначен в состав советской делегации на Лозаннскую конференцию.
10 мая 1923 года Вацлав Вацлавович Воровский был убит в ресторане отеля «Сесиль» в Лозанне бывшим белогвардейцем Морисом Конради. Тело дипломата было перевезено в Москву и погребено в братской могиле на Красной площади. Дипломатические и торговые отношения между Советским Союзом и Швейцарией были разорваны до 1946 года.
Это был тот самый случай, когда смерть одного интеллектуала и не самого масштабного чиновника по дипломатическому ведомству действительно потрясла всю культурную Россию. Об этом даже стихи писали все – от маститого и великого Владимира Маяковского до молодого и прославленного в будущем далеко не стихами Леонида Ильича Брежнева.
Однако для «культурной России» важно было даже не это: Воровский был для неё не столько дипломатом, сколько одной из важнейших фигур русского литературного процесса начала ХХ века, одним из самых культовых публицистов и авторитетных литературных критиков той русской литературы.
Застрелив Воровского и ранив двух его помощников, Конради отдал револьвер метрдотелю со словами: «Я сделал доброе дело – русские большевики погубили всю Европу. Это пойдёт на пользу всему миру». Освещавший процесс уехавший в том же году в эмиграцию писатель Михаил Арцыбашев писал: «Воровский был убит не как идейный коммунист, а как палач. Убит как агент мировых поджигателей и отравителей, всему миру готовящих участь несчастной России».
Здесь писатель Арцыбашев просто постыдно врал, причём по сугубо личным мотивам: классический «левый интеллектуал» сугубо «профессорского типа» Вацлав Воровский никогда не был никаким «палачом», а Арцыбашев просто тешил давнюю обиду. Его, «ницшеанского героя светских гостиных» литературный критик Воровский в своё время приложил так, что сама фамилия Арцыбашева надолго стала синонимом слова «пошлость» и его просто перестали читать и приглашать в «приличные места».
Но эта фраза была охотно подхвачена как оправдавшими Конради швейцарскими присяжными и всем «свободным миром», так и многими современными, внезапно почувствовавшими себя «белыми» либеральными публицистами, которые ради такого случая радостно презрели как само понятие «терроризма» и «дипломатической неприкосновенности», так и обычную бытовую правду. Процесс удалось перевести из уголовного над убийцей и террористом в плоскость «осуждения большевизма»: ничего, в принципе, особенного, обычный «западный» двойной стандарт.
Убийца был оправдан.
И это вызвало не только бурю возмущения в Советской России, но и произвело крайне удручающее и угнетающее впечатление на «умеренную часть» белой русской эмиграции. И, кстати, немало способствовало нарождающемуся движению «Смены вех» и сменивших его впоследствии «Союзов возвращения на Родину».
Многие описываемые случаи произошли уже после смерти Владимира Ильича Ленина.
Первые признаки болезни стали заметны в середине 1921 года: у Ленина появились головокружения, обмороки, его мучили бессонница и головные боли. Недуг объяснили обычным переутомлением. Но болезнь наступала: обмороки участились, начались припадки в виде внезапных параличей, потери речи, памяти. Последнее публичное выступление Ленина состоялось 20 ноября 1922 года на пленуме Моссовета. 16 декабря 1922 года состояние его здоровья резко ухудшилось, а 15 мая 1923 года из-за болезни он переехал в подмосковное имение Горки.
Коллеги и близкие отмечали, что изменился и характер Владимира Ильича: он стал капризным, часто впадал в ярость. Три врача-невролога вели дневник. Они надиктовывали текст машинисткам, которые не имели медицинского образования. Этим объясняются некоторые ошибки.
Вот, например, запись от 30 мая 1922 года: «Приезжал Сталин. Беседа о suicidium». Вероятнее всего, термин «суицид» на латыни врач вписал своей рукой.
Цитата из дневника: «30 мая 1922 года. Пациент не может сказать ни одной фразы целиком, не хватает слов, постоянно зевает. Хотел идти умыться в уборную, не знает, как пользоваться зубной щёткой – сначала взял щётку щетиной в руки и с недоумением смотрел и не знал, как быть.
Когда сестра взяла щётку, окунула в порошок, вложила ручкой в руку и поднесла руку ко рту, тогда начал чистить зубы, как следует. Приезжал Сталин, беседа о suicidium…
При исследовании периметра не мог выполнить того, что от него требовали, не мог фиксировать взгляд в зеркале, давал сбивчивые показания».
Крамер был врачом мирового уровня, специалистом по топической диагностике. По материалу видно, что он понял: это не его случай, пациента очень маловероятно вылечить. Наблюдал он Ленина недолго – май, июнь и июль 1923 года. А потом написал: «Прошу меня освободить по состоянию здоровья».
На его место пришёл Виктор Осипов, который являлся в то время заместителем легендарного основоположника отечественной школы неврологии Владимира Бехтерева. К слову, приехали они в первый раз вместе – Осипов и Бехтерев. Записи Осипова короткие, это связано с тем, что он часто уезжал на разные конференции.
«Старик находился… в состоянии большого раздражения… особенно раздражался при появлении Н. К. [Крупской]», – писал партиец Евгений Преображенский в письме Николаю Бухарину после визита в Горки в июле 1923‐го. С 12 марта 1923 года ежедневно публиковались бюллетени о здоровье Ленина. В Москве последний раз Ленин был 18–19 октября 1923 года. В самом начале 1924 года Владимиру Ульянову как будто стало лучше. Последний день его жизни – 21 января – начался обычно: Ильич пил бульон и кофе, много спал. «Но вскоре заклокотало у него в груди… судорога пробегала по телу, я держала его сначала за горячую мокрую руку, потом только смотрела, как кровью окрасился платок», – так описала кончину мужа Надежда Крупская.
Ленин умер 21 января 1924 года.
Согласно официальному заключению, «…основой болезни умершего является распространённый атеросклероз сосудов на почве преждевременного их изнашивания (Abnutzungssclerose). Вследствие сужения просвета артерий мозга и нарушения его питания от недостаточности подтока крови наступали очаговые размягчения тканей мозга, объясняющие все предшествовавшие симптомы болезни (параличи, расстройства речи). Непосредственной причиной смерти явилось: 1) усиление нарушения кровообращения в головном мозге; 2) кровоизлияние в мягкую мозговую оболочку в области четверохолмия».
Было патологоанатомическое исследование, которое произвели в Горках. Вскрытие тела Ленина, которое на следующий день повезли в Москву, делалось в неприспособленном помещении – в ванной комнате, в загородной усадьбе, которая на тот момент была в удалении от Москвы, Москва заканчивалась тогда недалеко от Саратовского вокзала (это Павелецкий вокзал сейчас). Это уже вызывает вопросы. Для проведения вскрытия есть специализированные учреждения. На тот момент это были кафедра патологической анатомии МГУ, которая в дальнейшем стала Первым медицинским институтом, и 23‐я больница, которая носит имя Ипполита Васильевича Давыдовского. Ни в то, ни в другое учреждение тело Ленина не повезли. В Яузской больнице работал Ипполит Давыдовский, главный патологоанатом города Москвы. На кафедре патологической анатомии работала другая звезда российской медицины – Алексей Абрикосов.
Но собирают комиссию и везут в Горки. Комиссия – 11 человек. На момент смерти Ульянова 21 января 1924 года в Горках было три врача, которые констатировали «статус леталь» в 18:50. Значит, привезли ещё 8 врачей. Вернее, специалистов, потому что там были не только врачи: там были и патологоанатом, и анатом, и антрополог. Есть сомнение фактологическое. 21 января был написан бюллетень о смерти Ленина. Бюллетень отличается от акта, зафиксировавшего смерть пациента, тем, что бюллетень подписали все члены комиссии, 11 человек. А акт подписали только 10 человек. То есть один доктор, это первый главный врач Солдатенковской больницы Фёдор Александрович Гетье (ныне эта больница известна как Боткинская), этот акт не подписал. Врач не подписывает только в том случае, если не согласен с заключением комиссии.
Смерть вождя уже на следующий день после 21 января 1924 года начала обрастать слухами. В отчётах ВЧК зафиксированы самые популярные версии:
● Ленин умер полгода назад и всё это время был в замороженном состоянии;
● Ленин умер давно, но большевики изготовили его куклу из воска, которую показывали народу;
● Ленина отравил Троцкий (Сталин);
● Ленин жив и уехал за границу.
Через 93 года, в 2017‐м, врач-гериатр Валерий Новосёлов, изучая старение головного мозга, обнаружил в бывшем центральном партархиве при ЦК КПСС (сейчас РГАСПИ) «Дневник истории болезни В. И. Ленина с 28 мая 1922 г. по 21 января 1924 г.». В нём содержатся записи дежурных врачей, лечивших вождя: описание симптомов, назначенных лекарств, процедур и прочее. Новосёлов стал первым (судя по записям архива), кому был выдан документ с момента помещения его в архив.
Из записей Новосёлов узнал, что пациента Ульянова лечили препаратами на основе мышьяка, ртути, йода и висмута, которые используются при терапии люэса (сифилиса). Также Ульянову много раз делали анализ RW (диагностика сифилиса), но результаты первых двух проб в «Дневнике…» опущены. По мнению Новосёлова, полученная из «Дневника…» информация позволяет сделать однозначный вывод о том, что у Ульянова был именно нейролюэс.
«Ни один врач не мог забыть указать результаты RW, если только на это не было особого указания… Лечащие врачи Ульянова диагностировали у него люэтическое поражение мозга, лечили только это заболевание, и другого лечения не было», – констатирует Новосёлов в статье, опубликованной в сборнике Института экономики Уральского отделения РАН.
По словам медика, ничего удивительного или постыдного в том, что у Ленина была третичная форма сифилиса – нейролюэс, нет. В начале ХХ века в отдельных местностях России сифилисом болели более 43 % населения. Заражение часто происходило бытовым путём – через общие полотенца и посуду. Новосёлов говорит: «В дневнике есть косвенный признак, указывающий, когда Ильич мог заболеть. Я нашёл это в первичном анамнезе, который собрал Василий Крамер 28 мая. Это могло произойти в самарском периоде 1892–1893 годов, когда Ульянов был молод и хорош собой, вырвался от маменьки и папеньки. Вот и были половые связи.
В то время он перенёс малярию и брюшной тиф. Указано, что больше он не болел, за исключением повторных приступов малярии. Крамер говорит, что его тяготили головные боли. Так вот, если человек уезжает из заражённого региона, то болезнь сходит на нет, и никаких повторных приступов не бывает (но это стало известно врачам только в 40‐х годах, из монографии Тареева). <…> Скорее всего, именно болезнь объясняет появление таких качеств, как бескомпромиссность, жёсткость, способность взять в руки палку (с А. А. Богдановым он хотел даже на Капри драться на палках). У пациентов с нейросифилисом наблюдается озлокачествление поведения: совершенно нормальный отец семьи становится деспотом…
Профессор Минор писал в своём учебнике по неврологии: «Такие больные должны быть удалены от дела, служащий должен взять отпуск и уехать в деревню для полного умственного и физического покоя или должен быть помещён в санаторий там же». Великий невролог настаивал, что психика больного сифилисом должна быть тщательно оберегаема во всей его жизни. А у нас такой пациент руководил страной в острый период – Гражданскую войну…»
По поводу медицинского заключения 1924 года Валерий Новосёлов имеет возражения:
«Во-первых, использован термин Abnutzunsgsclerose в заключительной части, что в переводе на русский язык с немецкого обозначает «склероз от изнашивания». Такого термина не существует, не существовало, никто никогда ни до, ни после смерти Ульянова его не использует. Это единичный случай в мире. Почему в акте, который написан на русском языке, а он объёмный, использован один термин на немецком языке, причём, даже назвать его термином нельзя? Теории атеросклероза как следствия износа сосудов уже в начале ХХ века были несостоятельными. Есть расхождения в заключительной части, результативной, и в описательной части.
Если вдаваться в описательную часть, атеросклероз у пациента был по возрасту, то есть он действительно был, но он не являлся причиной его смерти. Сосуды описаны не как атеросклеротические. Для атеросклероза характерны поздние пятна и бляшки, то есть вещи, ограниченные по длине сосуда. Сосуды описаны совершенно по-другому. И Семашко (там было два наркома на вскрытии – Семашко и Обух; оба занимались здравоохранением, Обух – московским, а Семашко был наркомздравом РСФСР) написал статью, тема которой «Что же дало вскрытие тела Ульянова?» И он описывает, как свидетель, эти изменения сосудов как шнуровые: «Отдельные веточки артерий, питающие особенно важные центры движения, речи, в левом полушарии, оказались настолько изменёнными, что представляли собою не трубочки, а шнурки». Обычная логика говорит о том, что шнур – это не бляшка. <…> Поэтому встаёт вопрос: что же это было? Почему никто никогда не поднимал такие вопросы? А кто должен был поднимать? До разрушения Союза в 1991 году такие вопросы поднимать было невозможно, это опасно было и административным преследованием, и уголовным наказанием. До 1999 года доступ к документам был ограничен. Сегодня ограничения сохраняются. Документы нельзя получить. У нас есть документ – акт патологоанатомического исследования, сделанный Абрикосовым, к которому мы все, врачи, испытываем очень большое уважение. Любого врача спроси, кто такой академик Абрикосов, все скажут, что это основатель отечественной патологической анатомии. Его знают врачи всех специальностей. <…> Я считаю, что в этой ситуации коллеги заслужили право на историческую правду. Потому что кроме пациента у нас ещё есть врачи, которые сегодня находятся в неудобной позиции: их до сих пор обвиняют в том, что якобы лечили «не от того» и «неправильно». Это первый миф, который должен уйти из исторической повестки. На самом деле лечение было правильным, соответствующим самым высоким стандартам. Лечившие Ленина врачи не могут уже сказать ничего в силу того, что прошло 100 лет. Но коллеги из будущего, то есть мы, должны сказать слово за этих врачей. <…> Сейчас для нас есть три источника знания о причинах смерти Ленина – тело Ленина; остатки его мозга, которые находятся в музее медицины, который сейчас в здании бывшего московского Института мозга; патологоанатомическое заключение, которое у меня есть в доступе, поскольку оно в свободном обращении находится с момента опубликования в газетах в январе 1924 года, и медицинская документация пациента. Документации было много, я знаю, что были ещё дневники психологов, логопедов, которые работали с Ульяновым. Есть ли история болезни – я не знаю. Возможно, дневники лечащих врачей являются единственным надёжным документом. В них нет ни одного диагноза, часто записи сокращённые, нет точных дозировок. Но клиническое мышление было сто лет назад таким же творческим, как и сейчас. И я прекрасно понял этих врачей – что они делали, как они делали. Там есть мнение врачей, которые были консультантами, те же Бехтерев, Авербах, Россолимо. Этот документ очень интересный, насыщенный информацией. 410 страниц – сами понимаете, есть что прочитать. <…>
Что касается патологоанатомического акта, я специально попросил в архиве оригинал акта вскрытия тела Феликса Эдмундовича Дзержинского, умершего в возрасте 48 лет в 1926 году. Его вскрывал тот же самый специалист, что и Ленина, – Абрикосов, как я уже сказал, специалист высочайшего уровня. Красивым языком описан атеросклероз у Феликса Эдмундовича! У Ленина этого нет. Описано другое заболевание. Это не вызывает сомнений. В конце есть какое-то странное заключение. Вскрытие Ленина продолжалось довольно долго – 3 часа 10 минут, как написано в самом акте. В воспоминаниях, которые написал Алексей Иванович Абрикосов в 1939 году, к 40‐летию своей профессиональной деятельности, с которыми меня знакомила его внучка Наталья Юрьевна Абрикосова, указано время – 3 часа 50 минут.
Это время очень большое для такого профессионала. Тем более там было 11 человек! Мы не знаем, был ли прозектор, но в комиссии были врачи. Мне кажется, время избыточное. У меня такое впечатление, что вот это дополнительное время ушло на согласование с Политбюро конечного диагноза. Усадьба в Горках была телефонизирована, для тех лет это была редкость. Ульянов выбрал усадьбу Морозовых, потому что там был телефон. И я думаю, что время ушло на то, что Семашко связывался с членами Политбюро, чтобы согласовать диагноз. Диагноз этот как бы исходит из рациональных соображений и наводит на мысль о том, что всё логично. Но с точки зрения рационального мышления здесь подходить нельзя. <…>
Очень странным был и отбор самих врачей для лечения. Ленин – историческое лицо, которое оставило след в истории такой, что никто его не забудет, а врача ему назначают какого-то неизвестного Алексея Михайловича Кожевникова. Это странно. А три выдающихся невролога московских – Лазарь Минор, Григорий Россолимо и Ливерий Даркшевич – почему-то не участвуют в лечении и консультациях Ленина. Даркшевич до первого инсульта даёт какие-то редкие консультации, Россолимо – одну консультацию 29 мая. И больше мы их не видим. Минор посылает Василия Васильевича Крамера, помощника. Удивительно. В моей книге делаются предположения, почему так произошло. Почему у нас пациент – выдающееся лицо историческое, первое лицо государства, нового государства, а ему назначают такого вот неизвестного врача. Почему меняли врачей? Почему врач Алексей Михайлович Кожевников не вёл Ленина с начала и до конца? Почему на какой-то стадии его поменяли на Василия Васильевича Крамера? Почему Крамера поменяли на Виктора Петровича Осипова, помощника Бехтерева?
Судьба почти всех известна. Были и расстрелянные врачи, и погибшие. Известна история с отравлением Владимира Михайловича Бехтерева, который был консультантом Ленина и мнение которого чётко записано в этих дневниках. Он, судя по всему, был человеком очень упрямым и настойчивым. Выдающийся учёный – его именем названо, по моим подсчётам, 47 симптомов, синдромов и болезней. Я не знаю, кто-нибудь ещё больше что-нибудь сделал, чем Бехтерев в медицине?! Моё мнение такое – была негласная договорённость между врачами, которые лечили Ленина, и Политбюро: «Вы молчите – мы вас не трогаем». И действительно долго не трогали.
Но в 1938 году расстрелян терапевт Лев Левин, расстрелян сын Гетье, Александр Фёдорович Гетье. Фёдор Гетье, личный врач семьи Ульяновых, умирает сразу после этого, потому что сын у него был единственный. Гетье тогда было уже за 70, и он не перенёс этого горя. Расстрелян Попов Николай Семёнович – молодой врач, который с весны 1923 года выполнял функции помощника санитара и молодого врача при Ленине. Он стал замдиректора Института мозга. Расстрелян тоже в 1938 году. Расстрелян начальник охраны, кто-то в 1920‐х годах сослан в ссылку».
Новосёлов обратился в архив за разрешением на копирование «Дневника…», но получил отказ. И более того, доступ к документу вообще закрыли, хотя по закону 75‐летний срок секретности истёк в 1999 году. Оказалось, что «секретность» продлили ещё на 25 лет – по просьбе племянницы Ленина Ольги Ульяновой (умерла в 2011 году).
Врач Новосёлов подал иск в суд с требованием признать незаконным продление срока ограничения допуска к дневникам врачей Ленина и рассекретить документы. В марте 2018 года Замоскворецкий районный суд столицы в удовлетворении иска отказал.
Доктор философских наук Игорь Чубайс считает очень важным, что Валерий Новосёлов, профессиональный врач, впервые изучивший полтысячи страниц закрытых документов, касающихся болезни Ленина и, кроме того, проанализировавший исторические свидетельства о жизни и деятельности Ивана Грозного, поставил обоим пациентам квалифицированный медицинский диагноз. Результаты исследования врача стали стимулом и дополнительным аргументом в пользу интересных выводов.
Новосёлов показал, что после 1555 года царь Иван IV, а В. Ленин – после 1892 года (обострение – с 1922) страдали от сифилитического расстройства. В обоих случаях болезнь дошла до третьей стадии – нейросифилиса. Для страдающих таким недугом характерны психическая неуравновешенность, периодические приступы агрессии и не спровоцированной жестокости, тяжёлые головные боли, а также отсутствие жизнеспособного потомства в силу врождённого сифилиса либо рождение больных детей.
Медицинское заключение о болезни Ивана Грозного хорошо коррелирует с историческим описанием периода его правления. Конечно, поведение человека невозможно изобразить одной краской. Верно, что Иван Грозный был в числе самых образованных людей своего времени. При нём были вдвое расширены русские владения, был разработан единый Судебник. Царь начал созыв Земских соборов, правда, затем сам же их и прекратил… Характерно, что многие его достижения оказались временными. В правлении Грозного досоветские историки выделяли два периода – ранний и поздний. Среди личных «поздних» качеств особо отмечались подозрительность и мстительность. Непомерная жестокость царя сделала его правление непохожим на всё происходившее до и после него. Историки считают, что Грозный – единственный русский царь, получивший такое устрашающее прозвище – лично обрёк на смерть от 3 до 5 тысяч ни в чём не повинных людей.
Анализируя конкретные политические процессы, необходимо напомнить, что Иван IV вошёл в историю как организатор ряда военных походов. С третьей попытки, в 1562 году, ему удалось взять Казань, но сделано это было с особой жестокостью. Осада города связана с огромными людскими потерями (впрочем, жестокость здесь была отчасти взаимной и стала ответом на 240‐летнее ордынское иго. Также кровавым стал поход Ивана на Великий Новгород (1569–1570), заподозренный в измене Москве. Террор против горожан была массовым, как и массовыми стали грабежи новгородцев.
Систематическая жестокость царя привела к фундаментальным изменениям всей концепции управления государством. Выражаясь современным языком, можно сказать, что при Грозном произошло разрушение основных госинститутов, на которых базировалась средневековая Русь. Прежде всего, ударам подверглась церковь и армия. Из-за кровавого насилия и беззакония, из-за бесконечных женитьб, несовместимых с традиционной русской культурой, Иван потерял поддержку православных верхов. Конфликт привёл к тому, что опричник Малюта Скуратов задушил митрополита Филиппа, отказавшего царю в благословении.
Отвергнув русские традиции, царь был вынужден опираться не на стрелецкое войско, а на созданное им и подчинённое ему лично особое силовое формирование – опричнину. Последняя просуществовала всего 7 лет, но разрушенные ею правила и нормы удалось восстановить спустя десятилетия. Характерно, что безнаказанность и вседозволенность опричников привела их к скорому моральному разложению. Царь был вынужден распустить собственное войско, поскольку в критический момент оно разбежалось и не смогло противостоять шедшим на Москву крымским захватчикам.
Как анализирует Игорь Чубайс, большевицкий режим открыто отказался от права – и международного, и от всего корпуса российских законов. Была распущена Русская армия, создана Красная армия и особая силовая структура – ВЧК. Произошла национализация всей собственности… Репрессиям была подвергнута православная церковь, а ленинский «план монументальной пропаганды» уничтожал национальную память, русское культурное пространство и время… Ленин обещал «сломать старую госмашину полностью, до основания» и, увы, слово сдержал! В результате Россия перестала быть Россией и превратилась в СССР.
Практически ничто не связывало тысячелетнюю Русь и послеоктябрьский режим. Ничто, кроме… правление разрушавшего русскую государственность царя-абсолютиста Ивана Грозного сильно напоминало абсолютизм советских вождей. Большевики пытались провести свою квазилегитимацию не через Бога (с церковью они жестоко расправлялись), не по праву наследования (историю они вообще отрицают), не через свободные выборы. Большевицкая власть утверждала себя через миф о строительстве рая на земле – коммунизма и, как Грозный, через постоянные репрессии…
В этом контексте не удивляет медицинское заключение, о котором вспомним ещё раз. Причём если диагноз, поставленный Грозному, «высоко вероятностен», то диагноз, поставленный В. Ульянову, совершенно бесспорен. Его давно пора официально признать и прекратить утаивать от общества. Продолжающееся засекречивание, выгодное узкому кругу лиц, крайне невыгодно всей нашей стране, ибо препятствует правильной оценке и правильному пониманию российского исторического процесса.
Официальная версия гласит: после смерти вождя в Кремль хлынул поток писем и телеграмм с просьбами оставить тело великого человека нетленным, сохранив его на века. Однако никаких подобных посланий в архивах не обнаружено. Простой народ предлагал лишь увековечить память Ленина в грандиозных сооружениях.
Уже ко дню похорон Ильича – 27 января 1924 года – на Красной площади появилось странное здание. Мавзолей сразу был задуман в классической форме пирамидального зиккурата – оккультного сооружения древней Вавилонии. Зиккурáт (от аккадского слова sigguratu – «вершина», в том числе «вершина горы») – многоступенчатое культовое сооружение в Древней Месопотамии и Эламе. Здание трижды перестраивалось, пока в 1930 году не получило окончательный вид.
Рядом с мавзолеем в кремлёвской стене было устроено кладбище выдающихся деятелей коммунистического движения. Около мавзолея был учреждён пост № 1, и торжественная смена караула стала важнейшей частью атрибутики государства. Мавзолей посетили не менее 110 миллионов человек.
Начиная с момента своего сооружения, мавзолей использовался как трибуна, на которой появлялись деятели Политбюро и советского правительства, а также почётные гости во время торжеств на Красной площади. С трибуны мавзолея к участникам парадов обычно обращался с речью генеральный секретарь компартии.
26 марта начались процедуры мумификации красного фараона. Во временный мавзолей прибыли: патологоанатом В. П. Воробьёв, биохимик Б. И. Збарский и прозектор Шабадаш.
Все эти факты позволяют предположить, что мавзолей и тело Ленина являлись важнейшими символами большевистского государства. И даже когда Советский Союз исчез, а вместе с ним и многие его атрибуты, здание на Красной площади всё ещё стоит. Лежит там и мумия «вождя мирового пролетариата».
Более того, мимо продолжают проходить парады и демонстрации. Это здание и сегодня продолжает оставаться режимным объектом: его охраняет Федеральная служба охраны – та, что отвечает за безопасность высших лиц государства.
Очевидно, что это сооружение остаётся незыблемой частью какой-то невидимой системы. У образованных людей с самого начала большевизма возникал вопрос: откуда в атеистическом государстве такая тяга к оккультному? Большевики не поощряли религии, закрывали храмы, но вместо них построили зиккурат – ярчайшее напоминание о религии и мистических таинствах правящих классов Вавилона.
30 июля 1920 года Совет народных комиссаров принял постановление «О ликвидации мощей во всероссийском масштабе». «Ликвидация мощей» началась в 1919‐м (реально – даже раньше, в 1917–1918 гг.). Ход её контролировал В. Ленин, а непосредственно вопросом занимался Наркомат юстиции РСФСР во главе с Д. Курским – «борьба с культом мёртвых тел» шла в рамках процесса отделения церкви от государства. «Мотором» кампании стал замнаркома П. Красиков. Кстати, внук протоиерея. К этой истории вообще активно приложили руку красные деятели вполне православного происхождения: те же Курский и Красиков, Н. Бухарин, Е. Преображенский (сын священника, отец ещё вёл службы).
Ключевую же роль играл ныне забытый экс-настоятель петроградской Спасо-Преображенской Колтовской церкви Михаил Галкин (1885–1948). После Октября он сам пришёл в Смольный, сказал, что готов служить новой власти в любой должности. Летом 1918 года публично отрёкся от сана, поступил к Красикову, разрабатывал первые советские антицерковные документы, стал консультантом ВЧК (ОГПУ) по религиозным структурам. «Перемётчик хуже врага» – Галкин знал церковь изнутри, знал её болевые точки. В те дни он подсказывал цели, лично выезжал на вскрытия мощей, писал хлёсткие репортажи.
Заметим, мощи – тема, скажем так, проблемная. Да, для верующих это святыни, само посягательство на которые – кощунство. Но когда при вскрытии раки того или иного святого выявлялись явные следы фальсификации нетленности, когда вместо праха усопшего обнаруживались, например, непонятный мусор и банка из-под фиксатуры «Брокар» (случай с мощами преподобного Павла Обнорского), – понятно, как использовали подобные факты большевики. Причём не будем говорить, что, мол, это «красные сами подбрасывали». «Борьба с мощами» была аморальна по сути – однако порядок вскрытия регламентировался чётко (и на соблюдение должных условий ещё раз обращало внимание постановление от 30.07.1920). Пусть под угрозой насилия, но раки вскрывали сами хранители-монахи в присутствии официальных лиц, под фото- или киносъёмку, с составлением акта и при свидетелях. Хотя последнее условие часто нарушалось: «понятыми», как правило, были местные жители, прихожане, посягательство на реликвии не раз вызывало взрывы возмущения, эксцессы. Отметим: постановление определяло и судьбу мощей – они передавались в музеи.
Патриарх Тихон не уставал повторять большевикам: не подменяйте понятия! Мощи для церкви – просто любые останки святых. Нетленность – условие желательное, но необязательное. Впрочем, он мог бы говорить что угодно, слышать его не собирались.
Кампания длилась до 1922 года (хотя рецидивы случались ещё долго). Стихла в общем-то сама по себе: большевики просто перебрали все основные «объекты».
Это вообще отвратительно – глумливо тревожить прах усопших. А тут чужие недобрые руки лазали в раки (ковчеги с мощами) Александра Невского, Сергия Радонежского, Серафима Саровского, других великих фигур, чтимых и Русской православной церковью, и просто всеми, кому дорога наша история…
Для примера можно привести описанный «Аргументами недели» сюжет с менее известными святыми – так называемыми «виленскими мучениками». Очень уж он показателен – особенно с высоты нашего нынешнего знания того, что было в стране потом.
«Виленские мученики» (или «Виленские угодники») – святые Антоний, Иоанн и Евстафий. Придворные литовского князя Ольгерда, они в час испытаний не отреклись от христианства – и, пройдя через пытки, были в 1347 году казнены (а в 1374‐м канонизированы). У этой земли непростая история – Великое Княжество Литовское без конца воевало, в том числе с Москвой, приняло унию с Польшей, образовав Речь Посполитую, в XVIII веке Речь Посполитую разделили соседи, и, в частности, Вильно при этом отошло Российской империи… Но для местных православных «виленские мученики» всегда были символом, знаменем и особо чтимыми святыми.
В 1915‐м, во время Первой мировой, ввиду угрозы захвата Вильно немцами архиепископ Виленский и Литовский Тихон распорядился отправить мощи угодников в Москву – там безопаснее. Хранились они в Донском монастыре. Считалось – временно.
Дальше Февраль 1917‐го. С падением монархии в России возобновилось патриаршество. Патриархом был избран именно Тихон. Тут – Октябрь. Глава церкви для большевиков стал главой «церковной контрреволюции».
Возможно, дело «о мощах виленских мучеников» оттого и раздули, что патриарх имел к ним непосредственное отношение. Хороший повод напомнить высшему духовному лицу, что вообще-то он ещё и просто гражданин Василий Иванович Беллавин. Можно таскать по судам, мотать нервы…
Когда в феврале 1919‐го стало ясно, что новая власть впадает в раж антицерковного разоблачительства, Тихон выпустил указ «Об устранении поводов к глумлению и соблазну в отношении святых мощей». Поручалось по возможности удостовериться – нет ли в раках-мощевиках чего-то, что может стать предметом осмеяния, использоваться в пропаганде. В Донском монастыре осмотрели (результаты осмотра были письменно зафиксированы) и останки «виленских мучеников». Отмечалась их нетленность, в том числе сохранность кожи. А тут как раз в 1918–1919 гг. стало известно и о двух случаях исцеления у мощей. Некая женщина, у которой давно были скрючены руки, молилась возле раки – и руки распрямились. Вслед за этим по просьбам верующих икона с вложенными частицами мощей «виленских мучеников» была отправлена в Гжатск в тамошний женский монастырь. Там к ней поднесли мальчика, у которого два года назад отнялись ноги. Мальчик икону поцеловал и… встал. О чём настоятельница монастыря игуменья Серафима Тихону сообщила.
Человек неверующий скажет, что для объяснения данных фактов надо разбираться с историями болезней, с диагнозами, что, возможно, имел место некий психологический эффект… Пусть так. Но помогло же!
Сообщения об исцелениях были обнаружены чекистами во время обыска в канцелярии патриарха. И 23 мая 1920 года в Донской монастырь заявилась комиссия от Наркомюста: следователь по важнейшим делам Шпицберг, чекисты Фортунатов и Шибов, доктор Грунганд и несколько понятых.
Видимо, здесь тот случай, когда одно и то же явление оценивалось в разных системах понятий. Церковь говорила о нетленности мощей. Доктор – о частичной мумификации трупов. И выдвигал версии, почему останки вполне сохранились. Возможно, были естественные причины. Возможно – следствие какой-то специальной обработки («омыления»). Ещё высказывалось предположение, что представленные тела относятся не к XIV веку, они, так сказать, «моложе» (но отмечалось, что тут требуется отдельное исследование).
При этом абстрактно-медицинский спор был частью спора политического. Началось следствие. Было заявлено, что факты исцеления – «религиозный шантаж», от монахов потребовали отказа от акта предыдущего осмотра останков (об их нетленности). Кроме того, заявлялось, что вообще не доказано – мучеников ли это тела? Что ж, паспортов при князе Ольгерде действительно не было.
Процесс по делу о «виленских мучениках» начался 3 июля 1920 года. На скамье подсудимых сидели немолодой монах Досифей («при мощах» он состоял ещё с Вильно) и гжатская игуменья Серафима. Несмотря на давление, они от прежних утверждений не отступились. Тихона взяли под домашний арест. Проходил свидетелем и «косвенным обвиняемым». На самом деле – главным. Собственно, ради этого всё и затевалось. Поскольку даже нельзя сказать, что подсудимым дали очень уж суровое наказание (по крайней мере, тут же амнистировали). Но как приятно самого Святейшего заставлять объясняться, осыпать издёвками, грозить ему…
Впрочем, это был не первый и не последний наезд советской власти на Тихона. Его мучительное и мужественное противостояние большевикам, постоянный выбор – где уступить, а где стоять насмерть – тема отдельная. Мы же о мощах. Об этих конкретных и вообще.
В 1924 г. умер Владимир Ленин. Теперь уже его соратники озаботились – как сделать тело своего кумира нетленным объектом поклонения? И сделали! И лежит оно до сих пор в Мавзолее. И сегодня уже другие люди говорят о фальсификации, подлоге, необходимости останки просто предать земле (совсем как «борцы с мощами» 100 лет назад).
Мощи «виленских мучеников» («три мумифицированных трупа», использовавшиеся «в целях религиозного обмана и противореволюционной агитации»), демонстрировались на «гигиенической выставке» Наркомздрава. Потом их отправили в музей.
А дальше колесо истории сделало новый оборот. В Великую Отечественную церковь понадобилась Сталину. После войны Москва долго и непросто утверждалась в Литве. А мученики-то – виленские! То есть вильнюсские! То ли вняв просьбам патриархии, то ли из каких-то своих политических соображений Сталин распорядился вернуть мощи на родину. 26 июля 1946 года специальным самолётом они были доставлены в литовскую столицу, восторженно встречены верующими. Ныне пребывают там, где были всегда, – в вильнюсском Свято-Духовом монастыре.
Если вдуматься, есть в этом какая-то символичность. Ладно, исторические потрясения седых времён. Но вот недальнее ХХ столетие. Мощи «виленских мучеников», спасая от огня Первой мировой, вывозят в Россию – и здесь они попадают в полымя революции. Выкидываются из рак, подвергаются унижению (но не гибнут!), ехидно ссылаются в музей – и в качестве экспонатов благополучно переживают другие потрясения бурного века. Потом торжественно возвращаются домой.
Эту реликвию словно свыше что-то хранило. А Божья тут воля или просто такое вот стечение исторических обстоятельств – каждый пусть решает сам.
Ещё больше странностей возникло после 1991‐го года, когда улицам и площадям Ленина вернули исторические названия, Ленинград переименовали в Санкт-Петербург, закрыли музеи основателя советского государства и снесли его памятники. Но мавзолей никто тронуть не дал.
Написаны тысячи работ, не оставляющих сомнений в особом воздействии этого сооружения. Понятно и откуда заимствована техника – из Древнего Междуречья и Вавилонии. Мавзолей – точная копия зиккуратов Междуречья, с комнатой наверху, обрамлённой колоннами, в которой, по понятиям жрецов Вавилона, отдыхали их демонические покровители. Но как зиккурат «работает»? Каковы последствия его воздействия?
Есть предположение, что мавзолей – это не что иное, как образец психотронного оружия. Попробуем предположить, какие принципы заложены в его работу. Но свою гипотезу нам придётся доказывать, разбирая ход рассуждений пошагово.
Внутри зиккуратов халдеи часто «строили» пирамиды из мёртвых голов, но усыпальницами эти здания никогда не были. Так что странное здание на Красной Площади – это никак не мавзолей и не усыпальница. Архитектурно это зиккурат, похожий на ритуальные пирамиды халдеев, выполнявших оккультные функции.
Увидеть это можно, совершив небольшое путешествие внутрь мавзолея. Посетитель попадает туда через главный вход и спускается по левой лестнице трёхметровой ширины в траурный зал. Зал выполнен в форме куба (длина грани 10 метров) со ступенчатым потолком.
Посетители обходят саркофаг с трёх сторон по невысокому подиуму, покидают траурный зал, поднимаются по правой лестнице и выходят из мавзолея через дверь в правой стене.
Конструктивно здание выполнено на основе железобетонного каркаса с кирпичным заполнением стен, которые облицованы полированным камнем. Длина мавзолея по фасаду – 24 метра, высота – 12 метров. Верхний портик смещён к кремлёвской стене. Пирамида мавзолея состоит из пяти разновысоких уступов.