Большие дикари. 100 рассказов о дикой жизни бесплатное чтение
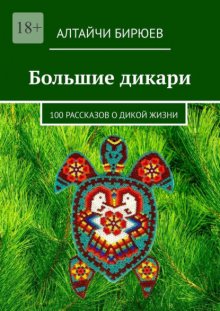
© Алтайчи Бирюев, 2025
ISBN 978-5-0065-9825-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Продолжение книги
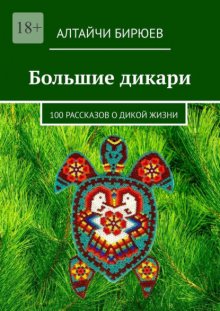
© Алтайчи Бирюев, 2025
ISBN 978-5-0065-9825-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero