Имя, которое теперь моё бесплатное чтение
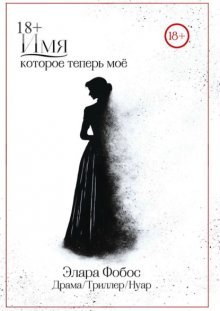
© Элара Фобос, 2025
ISBN 978-5-0065-9655-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Комментарий автора:
Настоящее произведение является художественным вымыслом. Все персонажи, события, обстоятельства и описанные в тексте действия носят вымышленный характер и не основаны на реальных фактах.
Автор не преследует цели пропаганды, поощрения, оправдания или идеализации насилия, дискриминации, деструктивного поведения, антисоциальных установок, а также иных форм деятельности, нарушающих действующее законодательство Российской Федерации.
В тексте затрагиваются темы психологических травм, эмоционального давления, кризисных состояний и морального выбора в сложных обстоятельствах.
Произведение направлено исключительно на художественное осмысление сложной эмоциональной и социальной природы человеческих поступков.
Текст предназначен для совершеннолетней аудитории (18+).
Рекомендуется осознанное, критическое восприятие.
Автор не несёт ответственности за субъективную интерпретацию содержания вне контекста художественного замысла.
Мне не нужно, чтобы меня понимали. Я не для этого живу. Я наблюдаю. Я запоминаю. Я молчу. Всё, что во мне было мягким, выжгли. Всё, что осталось – двигается точно, молчит долго и не ошибается. Ты можешь не помнить моё лицо. Но имя останется. Оно теперь моё.
В.
Глава 1. Лондон. 1955 год
Лондон не просыпался. Он тлел. Как бумага, что не может загореться, но всё равно пахнет гарью. Как человек, который давно умер, но продолжает ходить по улицам, притворяясь живым. Утро здесь было не временем суток – состоянием. Серое, как забытая фотография, влажное, как чужое дыхание на шее. Всё казалось выцветшим: вывески, камень мостовых, лица прохожих. Даже дождь был не дождём – просто воздух, забывший, как быть сухим. Город жил между строк. Между строк старых газет, промокших и слипшихся на трамвайных рельсах. Между фразами разговоров, произнесённых вполголоса у дверей пабов. Между взглядов, что никогда не задерживались на глазах собеседника. Здесь никто не смотрел друг на друга. Здесь смотрели сквозь. Сквозь шляпы, сквозь пальто, сквозь лица – прямо в улицу, прямо в след тумана. Лондон не терпел взглядов. Он принимал только шаги. На углу Пикадилли продавец газет выкрикивал заголовки, будто пытаясь перекричать вечность. От него пахло мокрой бумагой и гнилыми яблоками. Женщина в плаще, с руками в перчатках, держала зонт, как оружие. Мужчина с портфелем шёл, опустив глаза, будто боялся быть узнанным улицей. Автобусы плевались дымом. Люки выпускали пар. Кошки сидели на карнизах и смотрели на людей, как на спешащих призраков. Это был город, который никогда ничего не забывал. Он хранил запахи, следы, шорохи. Пыль войны ещё лежала в трещинах кирпичей. Плакаты, выгоревшие до пустоты, всё ещё держались на стенах. Стены сами становились напоминаниями. Лондон не умел отпускать. Он просто менял маски. И в этот городе, пропитанным забытым временем, шла она.
Вивьен Холлоуэй
Она не шла – скользила. Как будто город не трогал её подошвы. Как будто она не касалась улицы, а только показывала ей, как надо ходить. Полушубок цвета кофейной пенки – короткий, но достаточный, чтобы выглядеть будто корона. Воротник приподнят – не от холода, от мира. Волосы собраны в заколку, инкрустированную драгоценными камнями – тёмными, как винные отблески. Несколько прядей вырвались – как воспоминания, что не удалось спрятать. На ней были брюки – высокие, идеально скроенные, с той самой стрелкой, что режет взгляд. Кремовая блуза, почти сливочная, облегала запястья. Перчатки – кожаные, мягкие. Каблук глухо отзывался о камень, но даже звук её шагов казался отредактированным. Она не стремилась привлекать внимание. Оно происходило само. Город не удивлялся ей. Он знал. Узнавал. Потому что таких, как Вивьен, не бывает случайно. Таких строит тишина. Холод. Смерть. Сигареты и чужие ошибки. Вивьен остановилась у порога – сигарета уже тлела в пальцах, но предпочла взяла новую. Щелчок зажигалки был мягким. Пламя – не для тепла, а для памяти. Она сделала затяжку – медленно, с тем вниманием, с каким читают прощальные письма. Дым потянулся вверх, растворяясь в тумане. Не запах – а знак.
Он прятался не в переулке, но и не в центре внимания. Ресторан, скрытый за коваными воротами и широкой каменной лестницей, выглядел не как заведение – как часть какого- то старого, полузабытого клуба, в который попадали только те, кто уже знал дорогу. Он не приглашал. Он узнавал. Фасад был выложен темно- красным кирпичом, местами закопчённым временем. Окна высокие, в арках, со свинцовыми переплётами и витражными стёклами, в которых отражался не свет фонарей, а сам воздух Лондона – мутный, влажный, пепельный. Над дверью – массивный навес, изнутри обитый зелёным бархатом, как крышка дорогого гроба. На нём – аккуратная вывеска с вырезанным вручную именем: «The King’s Garden». Буквы – старого шрифта, с завитками и достоинством, как у монограмм на фамильных перчатках. Всё здесь будто говорило: если вы не знаете, зачем пришли – уходите. Дверные ручки – латунные, отполированные руками тех, кто-когда- то был важен. Ступени – каменные, с лёгкими выбоинами, как морщины. У входа не стояли охранники. Не было швейцара. Только воздух – неподвижный и внимательный. И свет внутри, как будто приглашал только тех, у кого внутри было темнее. Вивьен коснулась дверной ручки – и вошла. Сначала её окутало тепло. Не жар – именно тепло. Как старая вуаль, что пахнет табаком, деревом и слишком дорогим алкоголем. Как ладонь, которой давно не прикасались, но всё ещё помнят, как это делается. Здесь ничего не кричало, всё – вполголоса, в полутоне, в полусвете. Стены обиты винным бархатом. Потолок высокий, с лепниной – завитки, лозы, ангелы с закрытыми глазами. Люстры – бронзовые, матовые, свет в них будто скользил, а не светил. На полу – тёмный дуб, натёртый до зеркального блеска. Каждое отражение было неточным, как будто искажение здесь было частью интерьера. Этот ресторан не притворялся роскошным – он был им до конца. Столы – круглые, тяжёлые, покрытые белыми скатертями. На каждом – одна хрустальная ваза с орхидеей. Цвет – невыразимо тонкий, как цвет кожи на запястье у женщины, которая никогда не загорает. Посуда – тонкий фарфор, вилки и ножи – с серебром, что давно потемнело, но не потускнело. Звук – только приглушённые шаги, тонкий звон стекла, шорох ткани. Слова растворялись в воздухе, не оставляя смысла. Вдоль стен – зеркала. Но они не отражали лица. Только силуэты. Только жесты. Барная стойка – чёрный мрамор с белыми прожилками, гладкий, как безукоризненная ложь. За ней – бармен в жилете, с золотой цепочкой от часов, с руками, которые больше говорили, чем рот. Полки – бутылки, каждая в отдельной нише, как экспонат. Здесь не заказывали – здесь доверяли. Напиток подбирали по голосу. Или по взгляду. И в этой тишине, в этом запахе дерева, табака и прежних жизней – Вивьен шла к своему столику. Она подошла к нему, он был у окна. Внутреннее пространство ресторана было устроено так, что даже углы чувствовались центральными. Там сидела Мэрион – женщина с походкой актрисы, игравшей когда- то на сцене, а теперь – только в жизни. На ней было светло- бежевое пальто, сброшенное на спинку стула, серо- голубой шарф и длинные перчатки, снятые, но не убранные – как недосказанность. Глаза – карие, живые, внимательные. С губами, накрашенными винным оттенком, и манерой держать ложку, как будто она ею дирижировала. Она увидела Вивьен, кивнула ей почти незаметно – не как подруге, а как равной. В этом жесте было: «ты снова в своём стиле».
– Ты опоздала, – сказала Мэрион, не осуждая.
– Я шла, – просто ответила Вивьен и села.
Она не присаживалась – она занимала пространство. Плавно, молча, без малейшего шума. Сняла перчатки, медленно, одну за другой. Положила рядом, ровно, будто раскладывала карты. Официант, будто почувствовав момент, молча поднёс бокал с коньяком. Она кивнула.
– Всё по- прежнему? – спросила Мэрион, наблюдая за тем, как Вивьен берёт бокал.
– Всё, по- прежнему. – Затем – глоток. Глубокий, но спокойный. Она пила, как курит: не ради удовольствия, а ради границы.
– Он снова принёс мне розу, – сказала Мэрион. – Красную. Слишком уверенно, как по мне.
Вивьен чуть скосила глаза, не поворачивая головы.
– Может, он просто не умеет выбирать.
– Или думает, что я та, кто любит уверенных.
– А ты не та?
Мэрион усмехнулась.
– Я – та, кто устала от уверенности. Мне подавай тех, кто сомневается. С ними – честнее.
– Ты становишься сентиментальной.
– А ты, как всегда, холод.
– Я – трезвость.
– Нет, ты – лёд. Красивый, прозрачный, смертельно холодный лёд.
Ответа не последовало. Вивьен сделала ещё глоток. Поставила бокал. Затем – сигарета. Щелчок. Пламя. Дым потянулся вбок, в сторону, под потолок. Она выдохнула так, будто не воздух выпускала – часть себя.
– Как ты?
Тишина. Затем – короткое движение. Вивьен поставила бокал. Коснулась ободка пальцами. И сказала:
– Я отлучусь. В уборную.
Она встала. Мэрион не удерживала взгляд. Только кивнула. Так, будто знала – этот столик не удерживает, только ждёт. Коридор тянулся узко и ровно, как мысль, которую не хотелось заканчивать. Свет здесь был матовым, будто лампы намеренно не хотели вмешиваться в происходящее. Стены, обшитые тёмным деревом, отражали мягкий полумрак. Пол – блестящий, вымытый, пах дезинфекцией и мятой, как больница для богатых. Посреди лежал ковёр, впитывавший шаги, – он не скрадывал звук, он глушил саму суть присутствия. Здесь всё было чуть тише, чуть медленнее. Место между действиями. Между диалогами. Между людьми. Вивьен шла спокойно, не глядя по сторонам. Как будто коридор не был для неё новым. Как будто он, как и ресторан, уже знал, кто она такая. И вдруг – движение. Быстрое, резкое, не согласованное с её темпом. Мужская фигура, в серо- синей рабочей форме, двигалась спиной вперёд, ведя швабру широкими, уверенными движениями. Он не смотрел. Он шёл, будто знал, куда нужно, без оглядки, с той уверенностью, с какой люди уходят из прошлого. Шум воды, лёгкий скрип металла. Он остановился у конца коридора, поднял ведро – и начал поворачиваться. Они столкнулись. Мгновенно. Ведро вырвалось из его руки. Вода – холодная, резкая – хлынула, как оправдание, разлившись по полу и тканям. Она окатила Вивьен по подолу брюк, по меху полушубка, по лакированным батальонам. Он в тот же момент отступил, поднял ведро, протянул руку – хотел отряхнуть, но тут же отдёрнул.
– Мэм… Прошу прощения, я… – голос дрогнул, но не сорвался. Он был тёплым, тихим, удивительно ровным. – Я не заметил вас. Я… Шёл назад, и… Простите, пожалуйста.
Он говорил. Извинялся. Торопился. Слова, движения, жесты – всё было направлено на то, чтобы загладить. Он даже пытался снова посмотреть на неё, но лишь на секунду. Поднял взгляд – и тут же опустил. Но Вивьен… не слышала. Не чувствовала ни воды, ни холода, ни ткани, прилипшей к телу. Ни запаха моющего средства, ни тихого шороха его формы. Всё исчезло. Потому что она увидела… Глаза. Не лицо. Не выражение. Не смущение. А именно глаза. Та же глубина. Та же тишина. Зелёно- серый цвет с отблеском, как в металлической воде под зимним небом. В этих глазах не было страха – только сдержанность. Знание. Тепло, которое боялось быть замеченным. Те же глаза, в которые она когда- то смотрела так долго, что забывала, кто она. Она не знала, сколько секунд прошло. Или минут. Может, меньше. Но в эту секунду она перестала быть в ресторане. Она была – в прошлом. Смотрела – в лицо, которого не было. В глаза – которые уже однажды остались навсегда. И где- то в этом молчании вдруг снова отозвалось имя. Невысказанное. Неназванное. Но отцовское.
Глава 2. Генри
Его звали Генри Холлоуэй, и он не сразу стал тем, кого боялись. Сначала он был мальчиком – тишиной на фоне чужих голосов, руками, всегда чем- то занятыми, и взглядом, в котором жили не мечты, а наблюдения. Он рос в южной части Лондона, в доме с тонкими стенами и окнами, которые зимой запотевали изнутри. Их улица пахла углём, мокрой землёй и вчерашним ужином. Мать – женщина с лёгкими руками и усталыми глазами – мыла полы в школе. Отец – портной. Он не говорил много, но однажды сказал сыну:
«Нитку видно не должно быть. Красота – в том, что держится, а не в том, что видно.»
Генри это запомнил. Он был ребёнком без капризов. Любил держать вещи в порядке, слушать радио и смотреть, как уличный фонарь за окном собирает вокруг себя мрак, как пчёлы – мёд. В дворе он играл мало. Его тянуло туда, где меньше людей и больше тишины. В библиотеке он однажды провёл весь день, пролистывая книгу о человеческой анатомии. Но запомнил не мышцы – запомнил, что сердце держится на четырёх полых камерах, и если хотя бы одна треснет – всё рушится. Когда ему исполнилось шестнадцать, он устроился учеником в мастерскую по ремонту часов. Магазин был старый, пах смазкой и временем. Генри сидел за деревянным столом, перебирая крошечные шестерёнки, вытаскивая из карманных часов сердце и вставляя его обратно. Он не чувствовал, как летит день. Внутри часов был порядок. А снаружи – жизнь. Он нравился людям. Не за улыбки – он улыбался редко. А за внимание, с которым он к ним относился. Он слышал, когда не говорили. Видел, когда прятали. И если кто- то жаловался на часы, Генри чинил не только механизм – он возвращал ощущение, что всё ещё может идти правильно.
Одним из клиентов был мистер Арчибальд – высокий, уверенный мужчина с серебряным тростью и руками, пахнущими кожей. Он редко смотрел прямо, но однажды, наблюдая за тем, как Генри вставляет крошечную пружинку, произнёс:
– Ты не отсюда, Генри. Такие пальцы не должны тратить себя на чужие минуты.
А потом ушёл. Через неделю он вернулся. Положил на прилавок золотые часы. И конверт. Без слов. Внутри был адрес. И время. Генри пришёл по адресу на следующий вечер. Дом был в районе, где окна редко светились даже по ночам. Фасад – кирпичный, с облупленной лепниной. Дверь открылась, как только он коснулся ручки. Ни звонка, ни голоса – только скрип петель и лёгкий запах табака с дубом. Внутри было тепло, пахло кожей, деньгами и влажным деревом. Освещение – слабое. Лампы в бронзовых плафонах, тусклые и медовые, словно боялись осветить правду. В комнате стоял длинный стол. За ним – трое мужчин. Курили. Один из них Арчибальд.
– Генри Холлоуэй, – сказал он, как будто произносил не имя, а чьё- то будущее.
– Вы сказали, что я не отсюда, – ответил Генри.
– Всё ещё так думаю.
Он не спрашивал, зачем его позвали. Он пришёл. И этим сказал больше, чем мог бы сказать вопросами. Мужчины за столом переглянулись. Один встал, подошёл к буфету, достал оттуда коробку с карточной игрой. Бросил её на стол.
– Сыграй.
Генри сел. Он не знал правил. Но быстро понял суть. Не в картах было дело. А в наблюдении, в реакции, в тишине между действиями. Он проиграл первый круг. Выиграл третий. На пятом – один из мужчин бросил карты и сказал:
– Этот чертов мальчишка просто считывает нас.
Арчибальд усмехнулся.
– Вот именно.
Это не была вербовка. Это была оценка. Генри не задавал ни одного вопроса. Не смотрел в глаза слишком долго. Не пытался казаться кем- то. И в этом – он сразу стал нужным. На следующее утро ему дали первый «поручительский» заказ: передать свёрток человеку, имя которого не называли, в районе, где переулки шептали ночью. Генри сделал всё чётко. Вернулся без единого слова. На него не кричали, не хвалили. Просто снова дали задание. А потом ещё. И ещё.
Он начал ездить. Перевозить. Передавать. Узнавать. Вскоре его стали звать «тихий» – не потому что он не говорил, а потому что после него всё было расставлено по местам. Он никогда не делал грязную работу. Он организовывал. Проверял. Предугадывал. Он был мозгом, не руками. В этом мире, где каждый хотел быть страшным, он стал точным. Не ради власти. Не ради денег. А потому что в хаосе чужих решений он создавал порядок. Он умел быть там, где всё шаталось, и держать – не силой, а взглядом. Но он всё ещё возвращался в мастерскую. В выходные. В раннее утро. Там, где тикали часы. Где всё работало, если поставить правильно каждую деталь.
Он заметил её не сразу. Точнее – увидел сразу, но понял позже. Как узнают запах, который казался давно забытым, или песню, слышанную в чьём- то детстве. Это было в дождливый октябрь. Он зашёл в книжный – спрятаться от сырости. Магазин был старый, пахнущий пылью, меловой бумагой и чернилами. На улице серели зонты, капли стекали по витрине, а внутри всё было как в коконе: тёпло, тускло, почти беззвучно. Она стояла у полки с классикой. Пальцы касались корешков книг, как будто она не искала, а слушала, кого из них позвать с собой. На ней было светлое пальто, и от дождя подол чуть потемнел. Волосы – в небрежном пучке. А на шее – тонкий шарф, как недосказанная фраза.
Она повернулась и посмотрела прямо на него. Не с интересом. С узнаваемостью. Как будто уже видела. Как будто знала, что он здесь будет. Он ничего не сказал. Просто подошёл. Взял с полки книгу, которая стояла рядом с той, что держала она. И сказал:
– В этой плохой перевод. Возьмите лучше вот эту.
И протянул другой том – чуть выше, с жёлтым кантом на корешке. Она посмотрела на него. Улыбнулась. Тепло. Без флирта. Без ожиданий. Просто… хорошо.
– Спасибо, – сказала она.
– Генри, – назвался он.
– Алель.
И в её голосе была музыка. Простая. Тёплая. Без пафоса. Он больше ничего не сказал. Они вышли почти одновременно. У дверей она повернулась и добавила:
– Я всегда берусь за перевод с жёлтым кантом.
И ушла. Он ещё долго стоял на месте, как будто всё в нём пыталось перевести её фразу на язык поступков.
Он не искал её. Но город – особенно такой, как Лондон – умеет сводить тех, кто должен пересечься. Через неделю после первой встречи он увидел её снова – на вокзале, в книжном киоске. Она листала газету и держала ту самую книгу с жёлтым кантом в другой руке. Он подошёл без слов. Она – обернулась, улыбнулась, как будто между ними уже было что- то, хоть и не сказанное.
– Вам попадаются хорошие места, – сказал он.
– Я их вижу, – ответила она.
– Вы читаете взглядом.
– А вы – молчанием.
Так они и стояли. Среди шагов, голосов и запаха кофе с улицы. Он предложил ей чёрный чай. Без лишнего. Без приглашения. Просто – подал стакан. Она приняла. Так начиналась их история – не с признания, а с привычки быть рядом.
Они начали встречаться не как влюблённые, а как те, кому хорошо в одном воздухе. Он провожал её домой, не заходя. Она читала ему отрывки из книг, не спрашивая, слушает ли он. Он слушал. Очень. Она работала в частной библиотеке, разбирала каталоги, писала карандашом пометки на полях. Она любила чай с кардамоном, тихую музыку и свет от лампы, который не слепит, а приглушает мир. Он молчал о своей жизни. Она не спрашивала. Однажды она сказала:
– Ты живёшь как будто по правилам, которые не выбирал.
– Я живу так, как могу, – ответил он.
– А хочешь, как?
Он не знал, что ответить. Но в тот вечер он не поехал на встречу с Арчибальдом. Просто остался под её окнами. Не звоня. Не глядя вверх. Просто был рядом. Проверяя, умеет ли он – быть.
Он не пришёл. Впервые за всё время – не появился на встрече. Не написал. Не передал ничего через людей. Просто – исчез на один вечер. Тот, в который обычно появлялся вовремя, как бой часов. Но на следующий вечер его вызвали. Без предупреждения. Дом был всё тот же – с облупленной лепниной и запахом выветрившейся власти. Но в этот раз внутри было тише. Так тихо, что даже пламя в камине звучало как чьи- то шаги. Генри вошёл. За столом – Арчибальд, в чёрной рубашке, с запонками в виде львов. Он не поднялся. Просто сидел, откинувшись в кресле, с бокалом в руке.
– Ты был нужен, – сказал он, не глядя.
– Я знаю.
– Ты подвёл.
– Один вечер.
– Один вечер – это гниль, Генри.
Он сделал глоток. Поставил бокал. Подошёл.
– Ты знаешь, что ты для них?
– Кто – «они»?
Арчибальд усмехнулся.
– Люди. Вокруг. Мелкие. Ты для них – ровная спина.
Он провёл пальцем по пуговице на рубашке Генри.
– А если ты сгибаешься – всё рушится.
Он резко ударил. Кулаком в живот. Без предупреждения. Генри согнулся, выдохнул. Звук разнесся по комнате.
– Кто дал тебе право ставить чувства выше порядка?
– Никто.
– Тогда почему ты взял его сам?
Второй удар. Короткий, точный. Генри сгибается, но не отвечает. Смотрит в пол.
– Ты мне нравишься, – сказал Арчибальд. – Но ты меня подводишь. И я не могу позволить себе привязанность. Здесь всё строится на страхе. Не на вере. Не на дружбе.
Он дал знак. Двое вошли. Глухо. Без эмоций. Удары были продуманы. Сначала – по почкам. Потом – по рёбрам. Они били так, как бьют не за предательство, а за то, чтобы он запомнил навсегда. Кровь из губы. Глухой хруст в боку. Он не просил пощады. Не кричал. Но тело предавало. Колени дрожали. Дыхание – сбивалось.
– Всё, – сказал Арчибальд, и они остановились. Он снова сел. Отпил вина.
– Ты не уйдёшь. Ты просто перестанешь мечтать.
Генри, стоя на коленях, не плакал. Он просто молчал.
Он проснулся с тяжестью во всём теле. Это был не просто больной день – это было новое утро, которое начиналось не с солнца, а с тупой, давящей боли под рёбрами. Каждое движение отзывалось глухим эхом ушибов, а во рту стоял вкус железа. Но он встал. Не потому что мог, а потому что должен. В восемь тридцать, перед домом Генри остановился автомобиль марки Humber Super Snipe – чёрный, с лакированными дверями и шофёром в перчатках. Он не подал сигнала. Просто ждал. Генри вышел, в сером пальто с заострёнными лацканами, с распухшей губой и ссадинами на костяшках. Он не прихрамывал. Он не позволял себе боли.
– Сэр, – коротко кивнул шофёр, открывая дверцу.
Внутри пахло табаком и кожей сидений. Генри достал сигарету. Курил медленно, без спешки, не вдыхая глубоко. Как будто дым – это единственное, что ещё согревает лёгкие. Он закурил до сделки. Потом – после. И ещё раз – когда машина свернула в сторону. – Он уже не чувствовал вкуса. Только жёсткий пепел на языке. Первая сделка состоялась в складском сарае, возле старого мясного рынка.
Там, среди дубовых балок, пахнущих солью и железом, на деревянных ящиках с выжженными номерами, стояли двое: англичанин с пепельным лицом и коротким галстуком- бабочкой, и мужчина с южным акцентом, в пальто с меховым воротником. Генри вошёл и, не снимая перчаток, подошёл к ящикам.
– Проверено? – спросил он.
– Три раза, сэр, – ответил человек с бабочкой.
– Без следов?
– Чисто.
– Подписи?
Появился блокнот. Подписали. Без слов. Без рукопожатий. – достал флягу. Глоток коньяка. Один. Второй. Глотал медленно. Без гримасы. Генри на секунду посмотрел в окно, за которым шёл дождь, и сказал:
– Отправить к ночи. Пусть охрана не здоровается. Пусть смотрит в землю.
Он не объяснял. Он не объяснял больше ничего, никогда.
Во вторник его привезли к пабу «The Bitter Swan» – месту, где из- под барной стойки вынимали не пиво, а свертки с бумагами, золото, ключи. Внизу, за деревянной лестницей, располагалась тайная комната с каменными стенами.
– Вы – новый голос Арчибальда? – спросил кто- то в очках и бархатном жилете.
– Я – его отсутствие, сэр, – закурив ответил Генри, не поднимая глаз.
Здесь передавались долги. Здесь решались вопросы фамилий и позора. Генри смотрел, как старик в трости подписывает отказ от имущества. И не дрогнул, когда тот заплакал.
Среда прошла в мастерской на чердаке антикварного магазина, где под покрывалами лежали стволы в кожаных футлярах. Девушка в перчатках – синих, из ткани для оперы – демонстрировала оружие. Генри сидел на кожаном стуле, и, когда один из молодых людей засмеялся, он молча вытащил сигарету. Щелчок. Пламя. Затяжка. Выдыхая дым он сказал:
– Сэр, если в этом что- то смешное – мы, должно быть, принесли не тот товар.
Слова шли вместе с дымом – и исчезали также. Смех прекратился. Генри посмотрел на часы. Ровно семь.
Четверг
Генри. Ты где- то, где я не могу дотянуться. Я пыталась – ты знаешь. Я читала нашу книгу вслух, как будто ты услышишь. Молча. Пожалуйста, ответь. Просто… просто «да». Или «нет». Я подстроюсь. Но скажи хоть что- то.
А.
Он не прочитал его сразу, только вечером. Аккуратно сложил и сжёг.
Глава 3. Между тенью и солнцем
Вскоре прошёл месяц. Потом —два, три, четыре. Их стало трое. Он. Его работа. Его молчание. Лондон менялся. А он – становился точнее. Теперь в кабинете, между документами и схемами, всегда стояли два предмета: серебряный портсигар и бутылка коньяка. Он курил, не задумываясь. Дым стоял в воздухе, как призрак, а запах коньяка добавлял нотки скорби. Он никогда не забывал Адель. Но делал всё, чтобы она забыла его.
Гол спустя.
Он проснулся не от звука, а от привычки. Глаза открылись в тишине, тягучей и слипшейся, как табачный дым в дешёвом театре. Комната пахла телом, потом и вчерашними сигаретами. Рядом на простыне, ближе к краю, лежала Мэй – одна из тех, кто приходит не по зову, а по расчету: мягкое тело, молчаливый взгляд, никаких разговоров о чувствах. Она спала на боку, поджав ноги, лицо в подушке, грудь – свободная, чуть прикрытая одеялом. Он не смотрел на неё. Сел на кровати, достал сигарету с прикроватного столика и закурил, пока ноги находили пол. тДым не вкусный, не крепкий – просто привычный. Щелчок зажигалки глухо ударил по воздуху. Он сидел, не двигаясь, только смотрел в окно, за которым Лондон дышал туманом и холодом, как старый больной. Сигарета догорела – он закурил вторую, не стряхивая пепел с пальцев. Затушил в пепельнице, встал, накинул халат, запах его на животе, прошёл по коридору босиком, с тусклыми шагами.
Постучал в дверь Томаса – старого, выбритого до розового блеска камердинера, верного слуги с глазами портного.
– Томас, – сухо.
– Да, сэр, – тот открыл почти мгновенно, будто уже стоял за дверью.
– Почистить пальто, прогладить костюм. Тот, что с белой подкладкой и серебряными пуговицами. Галстук на усмотрение, но не яркий.
– Разумеется, сэр. Запонки золотые?
– Нет. Сегодня железо.
Он не стал слушать ответ. Повернулся и пошёл в ванную. Пол – холодный, плитка – тёмно- зелёная, пахло мылом, железом и паром. Вода уже была готова: в глубокой медной ванне клубился густой пар, над которым зависали потёки на зеркале. Он сбросил халат, шагнул внутрь. Горячая вода приняла его тело без сопротивления, обожгла кожу, но он не вздрогнул – сел, будто опускаясь в привычный ритуал. Опрокинул голову назад, закрыл глаза. Стук в дверь.
– Сэр… можно войти? Я… костюм…
– Входи.
Она вошла – девочка из нижней прислуги, светловолосая, с тонкими руками, глядящая только в пол. Несла костюм на вешалке. Повесила на крюк у двери, молча.
– Всё по вашему заказу, сэр. Галстук бордовый, костюм сшитый. Запонки – железные, карманный платок положен.
– Выйди.
Он ещё несколько минут сидел в воде. Рубцы на спине от старого избиения чуть побелели. Он смотрел в потолок и думал ни о чём. Мыться он начал медленно: мочалкой по груди, по плечам, по шее – как будто вытирал чужие руки с себя.
Через полчаса вышел. Оделся. Медленно, аккуратно. На него нельзя было смотреть в этот момент: в нём не было торопливости, только расчёт. Он не поправлял галстук – он фиксировал его, как кандалы. Каждое движение – словно последнее. Он застегнул пуговицы на пальто, надел перчатки, посмотрел на часы. 09:47. На улице стояла машина. Шофёр – новый. Но у машины, прислонившись к капоту, стоял Гарольд – его сопровождающий. Лицо каменное, руки в карманах, губы сжаты.
– Сегодня ты со мной, – бросил Генри, спускаясь по ступеням.
– Я с вами всегда, сэр, – ответил тот, не шевелясь.
– Не болтай лишнего. И не кури без разрешения.
– Буду молчать до удара, сэр.
– Только не медли, когда он потребуется.
Он открыл заднюю дверь. Сел. Закрыл, Машина тронулась. И день пошёл по кругу. Снова, как всегда.
Он прибыл на место в 10:25. «The Grey Lion» был не самым тёмным пабом Лондона, но именно здесь с годами обосновались те, кто пил не ради вкуса, а ради молчания. Старые дубовые балки, стойка с пятнами, которые никто не пытался стереть, тусклый свет ламп, обтянутых зелёной тканью. Воздух стоял тяжёлый: пыль, табак, копчёное мясо, мужской пот и дешёвый лосьон. Генри вошёл, не снимая пальто. Гарольд – за ним, как тень. Должник сидел у дальнего столика, там, где нет окон, только стены с кривыми портретами и запотевшими зеркалами. Мужчина был лет сорока, с обвисшими щеками и взмокшим затылком. На нём был серый жилет, натянутый на брюхо, в глазах – та самая смесь страха и надежды, которую Генри ненавидел больше всего. Он подошёл и сел. Спокойно. Без слов. Из внутреннего кармана достал сигарету, закурил. Первую затяжку сделал долго, почти лениво. Дым выдохнул не вверх, а прямо в лицо сидящему напротив.
– Сэр… пожалуйста… – голос дрожал, как вино в неумелой руке. – У меня… только немного времени. Всё будет. Просто чуть позже…
– Ты говорил «всё будет» шесть недель назад.
– Я не успел. Жена заболела. Ребёнок… он… я…
– Я не врач, – перебил Генри. – И не священник.
Он взял бокал, отпил коньяк. Сухо. Без паузы. Вернул его на стол.
– Ты мне не интересен. Не как человек. Не как история. Ты просто должен.
– Я… я верну, клянусь…
– Гарольд.
Тот шагнул вперёд и без предупреждения ударил мужчину кулаком в лицо. Хруст. Голова откинулась назад, и он завалился на спинку стула. Упал боком. Из носа хлынула кровь. Мужчина пытался подняться, но Гарольд схватил его за ворот и рванул вверх, как тряпку.
– Вставай, – сказал Генри.
Мужчина стонал, шаркал ногами, его трясло. Он пытался говорить, но зубы скрежетали о губу, и получался только сдавленный шёпот. Генри допил остаток коньяка, бросил взгляд на Гарольда.
– Отведи его в «Голубятник».
– Как пожелаете, сэр.
Гарольд вытолкал мужчину наружу, грубо, без сочувствия. У двери шофёр уже открыл заднюю дверь машины. Мужчину ввалили внутрь. Генри подошёл ближе, закурил новую сигарету. Дым обвил лицо. Он смотрел, как дверь захлопывается, как колёса касаются брусчатки. Машина тронулась, фары разрезали туман. Он достал флягу, плеснул в стакан остатки коньяка. Осушил до дна. Глотнул резко, с усилием. Тонкое стекло в руке, немного влаги на пальцах. Потом – ударил стаканом о землю. Он разлетелся с глухим хрустом. Стекло, коньяк, пыль – всё слилось. Он повернулся, чтобы войти обратно в паб. Но замер.
Она стояла у поворота.
Адель.
Она стояла у поворота, прямо под фонарём, который моргал, как старый глаз. Лицо – полутенью, полусветом. Пальто тёмное, волосы чуть распущены, губы не накрашены. Она ничего не говорила. Просто смотрела. Как смотрят на человека, которого ждут во сне – не в жизни. Генри не двинулся. Он не выронил сигарету. Не изменился в лице. Только затянулся. Долго. Медленно. Дым вышел сквозь ноздри, как пар из топки.
– Ты выглядишь… – начала она, но не закончила.
– Живым? – голос был низкий, чуть охрипший. – Это иллюзия.
Она подошла ближе. Медленно. Тишина в переулке стала тяжелее, будто всё в этом городе замерло, дожидаясь этой сцены. Он не сдвинулся. Она остановилась в шаге.
– Почему ты не отвечал?
Он посмотрел на неё. Точно. Прямо. Как нож в мягкое.
– Потому что не было слов.
– Но ты был.
– Был. Но не там, где ты писала.
Она хотела что- то сказать, но губы дрогнули, и она просто сжала кулаки.
– Я искала тебя, – голос дрогнул. – Я говорила с Томасом. Он…
– Он не должен был.
– Ты не один. Ты никогда не был один. Но ты выбрал быть мёртвым, пока жив.
Он опустил взгляд. Достал сигарету. Щелчок зажигалки. Он курил так, будто курит не табак, а время, которое нельзя вернуть.
– Не подходи ближе, – сказал он, глядя в сторону.
– Почему?
– Потому что, если ты прикоснёшься – я вспомню, что я живой.
Она сделала шаг. Всё- таки. Медленно, почти невидимо. Он не отступил. Только сжал зубы.
– Я тебя помню другим, – сказала она. – Тихим, но тёплым. Сухим, но живым. Сейчас ты холодный.
– Я стал собой.
– Нет. Ты стал тем, что от тебя хотели. А ты был другим, когда был со мной.
Молчание. Он выкинул сигарету. Наступил на неё. В его лице не было ничего – и в этом «ничего» была боль.
– Уходи, Адель.
– Нет.
– Уходи. Пока не поздно.
– Уже поздно, Генри.
Он поднял глаза. В первый раз за всё это время – как будто пустота внутри его треснула. Он сделал шаг. Приблизился. Коснулся её запястья.
– Ты всё ещё теплее, чем я помню.
– А ты всё ещё знаешь, как держать боль в пальцах.
Он не сказал ни слова. Просто поцеловал её. Грубо, резко, как будто вырывал что- то из себя. Она не оттолкнула. Не дрогнула. Только прижалась ближе. Этот поцелуй не был про любовь. Он был про выживание. Когда он отстранился, она шепнула:
– Не смей снова исчезнуть.
Он посмотрел на неё. В его глазах не было обещаний. Только страх, от того, что он уже не может быть с ней – и ещё больше страх, что не сможет без неё.
– Я не даю обещаний. Ни себе, ни тебе.
– Тогда просто молчи. Но останься.
Они стояли молча. Воздух вокруг казался неподвижным, как старая фотография. Фонарь над ними моргал, и каждый всполох света вырезал из её лица новое выражение: то решимость, то обида, то тихую, почти детскую нежность. Он не дотрагивался больше. Не говорил. Просто смотрел на неё, будто запоминал, как человек запоминает то, что боится потерять второй раз. Адель поправила шарф. Не торопливо. Как будто всё происходящее – не буря, а утро. Он выдохнул. Не закурил. Достал сигарету, посмотрел на неё и убрал обратно.
– Пойдём, – тихо сказал он.
– Куда?
– Туда, где нет никого.
Они пошли. Нога в ногу. Он шёл слева, ближе к дороге. Она – справа, ближе к стене. Между ними не было прикосновений, но каждый шаг был как признание. Генри не спрашивал, куда она шла до того. Она не спрашивала, откуда он вышел. Лондон гудел где- то вдали: фургоны, крики, двери. Но здесь, в этой части улицы, был только гул шагов. В какой- то момент она слегка коснулась его локтя – не взяла под руку, нет, просто будто случайно дотронулась. Он не отпрянул.
– Стало хуже, – тихо сказала она.
– Что?
– Ты. Ты стал ещё холоднее, чем был.
– Значит, ещё жив.
Она кивнула. Больше ничего. Повернула за угол. Он пошёл следом. Они дошли до старого дома, где-когда- то пили чай, когда были «ещё не вместе». Адель остановилась у двери. Он смотрел на её профиль, на то, как дрожит уголок губ. Она открыла. Не спросила: зайдёшь? Просто вошла. Он остался. Три секунды. Пять. Потом шагнул за ней. И дверь закрылась.
Спустя несколько секунд к дому подкатила машина. Чёрный кузов блестел во мраке, как воронье крыло. Двигатель замолчал, фары погасли. Дверь открылась, и вышел Гарольд. Он не спешил. Шёл, будто знал, что всё важное уже произошло без него. На его пальто – кровь. На руках – следы борьбы. Он закурил, глядя на дверь, за которой исчез Генри. Потом сказал в воздух, почти себе:
– Значит, ты всё- таки зашёл.
Бросил спичку. Раздавил окурок. Вернулся в машину. И остался ждать.
Внутри было тепло. Пахло старым деревом, бумагой и чаем, которого здесь давно никто не заваривал. Комната почти не изменилась – те же тяжёлые занавески, книги в шкафу с перекошенными полками, кресло у окна, в котором он когда- то сидел молча, слушая, как она читает. Адель сняла пальто, повесила. Он остался стоять. Не двигался. Она подошла ближе. Молча. Без слов. Пальцы чуть коснулись его воротника. Он не шевелился. Не отстранялся.
– Ты будешь говорить? – спросила она.
– Нет.
Она кивнула, будто знала, что так и будет. Повернулась и пошла вглубь квартиры. Он остался в прихожей. Прислушался. За дверью слышно было только её шаги. Он сел в кресло. Стянул перчатки. Потом пальто. Остался в рубашке. Стало странно холодно. Адель вернулась с пледом. Не села рядом. Не посмотрела. Просто положила его на подлокотник.
– Здесь всегда сквозняк, – сказала она, уходя на кухню.
Он не укрылся. Просто смотрел, как с полки падает луч света. Его руки были открыты. Без оружия. Без сигареты. Без стакана. И от этого было тревожнее, чем на встрече с предателем. Через несколько минут она вернулась. В руках – чашка. Он взял. Горячо. Чай с ромом. Он молча отпил. Тепло обожгло горло. Как будто внутри впервые что- то зашевелилось. Они не разговаривали. Час, два. Только редкие взгляды. Он курил, глядя в потолок. Она перелистывала книгу. Он закрыл глаза – и не заметил, как уснул. Впервые за год – не в кресле, не в машине, не на фоне боли. А здесь. В этом кресле. Под пледом. С её дыханием где- то рядом. Когда проснулся – было утро. Свет пробивался сквозь занавески. Адель спала на диване. Укрытая, тихая. Он не стал подходить. Просто сел. Достал сигарету. Закурил. Он не знал, что будет дальше. Но впервые за много месяцев – не боялся проснуться.
Он услышал, как вскипает вода. Крышка чайника постукивала в ритме дыхания старого дома. Адель уже была на ногах – босиком, в тонком сером халате, с собранными на затылке волосами. Он не видел её лица. Только лёгкое движение руки, когда она доставала чашку с верхней полки. Генри сидел в кресле, босыми ступнями касаясь холодного пола. Курил. На коленях лежал плед. Он даже не помнил, когда укрылся.
– Ты не ушёл, – сказала она, не оборачиваясь.
– Я не спал.
– Врал бы лучше.
– Не умею. Особенно тебе.
Она поставила чашку на стол. Вторая – перед ним. Не спрашивала: будешь ли. Знала. Он затушил сигарету в пустой пепельнице. Взял чашку. Горячая. Чёрный чай. Крепкий, без сахара.
– Здесь всё такое же, – сказал он.
– А ты – нет.
Он не ответил. Сделал глоток. Поставил чашку обратно. Пауза повисла между ними, как тёплый воздух над чайником.
– Мне казалось, ты не вернёшься…
– Я не вернулся.
– Тогда что это?
– Заблуждение.
– А для меня – память.
Она подошла ближе. Села напротив. Накрыла ладонью его руку. Он не отдёрнул. Не посмотрел.
– Ты всегда думаешь, что можешь уйти в тень и там исчезнуть. Но я тебя вижу даже в темноте.
– Не стоит.
– Я не прошу тебя остаться. Просто позволь себе быть здесь, пока ты всё ещё не пустой.
Он поднял взгляд. Впервые – прямо. С глазами, которые когда- то были мягче.
– Я боюсь.
– Я знаю.
– Боюсь, что, если останусь – потеряю себя.
– А если уйдёшь – ты потеряешь меня.
Он сжал её руку. Не сильно. Но так, как держатся на краю. Она ничего не сказала, но он все же остался.
День прошёл странно спокойно. Никаких звонков, никаких людей, никаких грязных улиц, пахнущих страхом и деньгами. Только чай. Только мягкое кресло и книги, которые никто не читал вслух. Генри почти не говорил. Он просто был. Рядом. Иногда смотрел на Адель, как будто она – не женщина, а последний шанс остаться внутри себя. Иногда просто слушал, как она ходит по комнате. Он читал. Точнее – держал книгу. Страницы менялись, но текст не цеплялся за разум. Ему было достаточно того, что никто не ждёт от него приказов. Вечером она приготовила ужин. Простой. Без вина. Без свечей. Просто еда. Он ел медленно, молча. Впервые за долгое время – не думая о завтрашнем дне. Она рассказывала что- то – он слушал. Не перебивал. Не кивал. Но слушал. Это было видно по его дыханию.
Поздно вечером они остались в темноте. В комнате было тепло, только один светильник горел у изголовья кровати. За окнами шелестел дождь. Стекло дрожало, но внутри было спокойно. Адель подошла ближе. Он сидел на краю кровати, склонив голову, будто прислушивался к собственному дыханию. Она остановилась рядом. Не прикасалась. Просто смотрела. Он медленно поднял взгляд. В нём было что- то новое. Не боль. И не страх. А что- то между – усталость от одиночества. Она протянула руку и кончиками пальцев провела по его щеке. Он не отстранился. Закрыл глаза. Сделал вдох. Медленный. Как будто хотел запомнить этот момент не сердцем – кожей. Потом он встал. Повернулся к ней. Его ладони легли на её талию. Осторожно. Почти неловко. Она не говорила ни слова. Просто положила руки ему на грудь. Его дыхание стало тише. Он наклонился. Коснулся её губ. Медленно. Почти несмело. Это был не голод. Это было моление. Как будто он просил прощения за все свои грехи – и молчал при этом.
Она поцеловала его в ответ. Сначала мягко. Потом крепче. Они держались друг за друга, как держатся за что- то живое в разрушающемся мире. Когда он уложил её на кровать, всё происходило без спешки. Ни одного резкого движения. Ни одного неуместного жеста. Его руки скользили по её плечам, по ключицам, по спине – как будто он пытался вспомнить, каково это – касаться не через силу, не через долг, а просто потому что хочется. Она шептала его имя едва слышно. Он ничего не отвечал. Только гладил её по щеке. В его глазах была нежность, которую он давно считал мёртвой.
Он не был груб. Не был нежен нарочно. Он был осторожен. Он был жив. Они двигались медленно, то приближаясь, то замирая. Без слов. Лишь дыхание, которое становилось всё громче. Она обнимала его крепче. Он дышал ей в шею. И когда всё закончилось, он не отстранился. Он остался рядом. Рядом – не телом, а собой. Она положила голову ему на грудь. Он закрыл глаза. И впервые за очень, очень долгое время – позволил себе уснуть рядом с тем, кто не хотел ничего, кроме него самого.
Он проснулся рано. Не от шума, не от тревоги. Просто открыл глаза. Тело впервые не ныло, разум не гудел. Внутри было странно тихо. Адель лежала рядом, прижавшись. Её дыхание – ровное, как мелодия, которую он не слышал с детства. Рука её лежала на его груди, лицо – у его плеча. Она спала безмятежно. Будто верила, что он здесь, и этого достаточно. Он не пошевелился. Смотрел на неё. Долго. В её лице было всё: покой, нежность, доверие. Прядь волос упала ей на щёку. Он провёл пальцами, убирая её в сторону. Осторожно. Как будто прикасался к чему- то хрупкому. Уголок её губ чуть дрогнул, будто она что- то видела во сне. Он не хотел вставать. Хотел остаться в этом утре, в этой тишине, в этом теле, которое не жаждало боли или защиты. Он чувствовал, как её грудь ровно поднимается. Как ладонь чуть сжимает его. И всё в нём будто замирало – чтобы не спугнуть эту невозможную простоту счастья. Но он всё- таки встал. Осторожно, почти беззвучно, чтобы не разбудить. Отошёл к стене. Посмотрел на неё. Она лежала, едва прикрытая одеялом, тонкое плечо обнажено, бедро – под складками ткани. Его взгляд скользнул по изгибам её тела. Не с желанием – с трепетом. Будто она была тем, что он никогда не заслуживал, но всё равно получил. Он наклонился, укрыл её одеялом. Тихо. С уважением. Потом вышел на кухню. Вода в графине была холодной. Он налил в стакан, выпил. Без спешки. И понял – коньяка не хотелось. Вообще. Ни капли. Не потому что был чист. А потому что ничего не жгло внутри. Он стоял у окна, смотрел на улицу, когда раздался осторожный стук в дверь. Один. Чёткий. Без повторов. Он открыл. На пороге – Гарольд. В пальто, с тёмными кругами под глазами и лёгким запахом улицы. В руке – конверт.
– Сэр, – голос был ровный, но мягче обычного. – Простите, что отрываю. – Он протянул письмо. – Но работа ждёт.
Генри взял конверт. Ничего не сказал. Закрыл дверь. Вернулся в спальню. Посмотрел на Адель – она всё ещё спала. Чуть улыбалась во сне. Он стоял так с минуту. Потом подошёл к тумбочке, взял бумагу, ручку. Написал коротко, чётко:
Ты сделала невозможное – подарила мне покой.
Не ищи меня сегодня.
Я вернусь.
Г.
Оставил записку. Пальто. Перчатки. Сигарета. Конверт во внутренний карман. Один последний взгляд. Дверь за ним закрылась. Он сел в машину. Закрыл за собой дверь. Гарольд молча завёл двигатель, глядя вперёд. Генри не спешил открывать конверт. Он знал – стоит разорвать этот тонкий край бумаги, и тишина внутри него умрёт. Но он всё равно вскрыл. Достал плотный, чуть желтоватый лист. Почерк – резкий, резной. Холодный, как ледяная вода на ладони.
Генри, на окраине Ист- Энда, в районе Дагнем, работает склад под прикрытием торгового дома «Wilkins & Sons». Формально – посуда, фактически – переправка химии и биологических отходов. Неделю назад к ним пришёл новый партнёр – некто Джеймс Эллиот. Прежний умер. Неестественно. Эллиот решил, что может торговаться с нами. Устроил задержку поставки и поднял ставки. Говорит: «Ищите других».
Мы не ищем. Мы находим.
Сегодня ты поедешь туда. Тебе передадут досье, опись склада, внутреннюю карту и ключ. Заходишь в середине дня, как аудитор. С тобой будет Клэр – из бухгалтерии, прикрытие. Эллиот должен исчезнуть. Его тело – нет. Остальные – по ситуации. Но без шума. И без крови на улице.
Действуй, как всегда. Хладнокровно. Точно. Без воспоминаний.
А.
Генри дочитал. Сложил лист. Положил обратно в конверт. Не сказал ни слова. Только достал сигарету. Закурил. Первый вдох – как выстрел в грудь. Горло обожгло, и это было почти приятно.
– Гарольд, окраина Ист – Энда, район Дагнем, торговый дом «Wilkins & Sons»
– Понял Вас, Сэр. Едем.
Машина въезжала в индустриальную зону. Улицы стали грязнее. Воздух – резче. Асфальт блестел от мокроты и масла. Сквозь окно мелькали кирпичные здания, железные ворота, серые стены, исписанные чёрной краской. Воздух здесь не пах ничем – кроме сырости, старой резины и ржавчины. И он чувствовал: мир снова стал прежним. Он – снова не человек. Он – тень.
После тёплого утра – холодный день, в котором снова нужно быть пустым. Он затянулся. Выдохнул в стекло. И оно сразу запотело. Как будто даже машина знала, что внутри – всё снова замёрзло.
Склад располагался на краю промзоны, где кирпич был старым, окна – забиты досками, а воздух пах соляркой, гниющей бумагой и чем- то, что давно не имело названия. У ворот – охрана. Двое. Один в кепке, другой в сером пальто. При его приближении – короткий кивок. Генри даже не смотрел на них. Он просто шел. Медленно. Прямо. Как будто место уже знало, что ему пора замолчать. У входа его ждала Клэр. Молодая, с собранными волосами, в чёрном пальто, очки в тонкой оправе. Под мышкой – папка. Папка была важнее её взгляда.
– Доброе утро, сэр, – тихо сказала она.
– Для кого как, – ответил Генри, не снижая шага.
Внутри было сыро. Стены облезлые. Свет – лампы под потолком, холодные, вибрирующие. Промежутки между рядами ящиков – как лабиринт. Они шли по указателям. Молчали. В шаге друг от друга. Он – впереди. На табличке: «Офис. Джеймс Эллиот.» Генри постучал. Один раз. Вошёл. Офис был аккуратным. Стол. Книги. Часы на стене. И мужчина за столом – Джеймс Эллиот. Улыбка слишком широкая, запонки слишком блестящие. Взгляд – наигранно вежливый.
– Мистер… – начал он.
– Харгривс, – оборвал Генри. – Временный уполномоченный по аудиту от поставщиков.
– Ах… да… Пожалуйста, проходите. Присаживайтесь.
– Я не сижу. Мне хватает стоять, если разговор короткий.
Клэр прошла и встала у двери. Молча. Генри достал из пальто папку. Бумаги. Строгий взгляд. Он говорил не быстро, но так, что каждое слово звучало как закон.
– По нашим данным, последняя партия была задержана.
– Бюрократия. Вы же знаете, как это бывает.
– А по нашим данным – вы решили, что можете диктовать условия.
Эллиот чуть усмехнулся.
– Послушайте, это всё только бизнес…
– Именно. А в бизнесе есть правила. Их не обсуждают. Их выполняют. Или исчезают.
Молчание.
– Вы угрожаете? – спросил Эллиот, но голос дрогнул.
Генри достал сигарету. Закурил. Не спеша. Выдохнул. Смотрел прямо.
– Угроза – это эмоция. Я – не эмоция.
Он достал из внутреннего кармана маленький лист, передал Клэр. Она подошла, положила его на стол. Эллиот посмотрел. В списке – имена. Даты. Счета. Адреса. Всё, что не должно было быть известно.
– Мы знаем, где вы берёте людей. Мы знаем, кому платите. И кто спит с вашей бухгалтершей. Хотите продолжить?
Эллиот молчал. Пот на висках. Генри сделал ещё одну затяжку.
– У вас есть двадцать четыре часа. Чтобы вернуть всё. Без вопросов. Без недостачи. Или здесь станет пусто. И очень тихо.
Он развернулся. Клэр за ним. Они вышли. На выходе он выкинул сигарету. Не глядя. Не думая. Просто выплюнул дым. В машине снова сидел Гарольд.
– Всё? – спросил он.
Генри кивнул. Сел. Но внутри… всё было не так. Раньше он чувствовал удовлетворение. Контроль. Сейчас – только пустоту. Не тишину. Пустоту. Потому что в его пальто всё ещё пахло её кожей. Паб встретил их, как всегда: тусклый свет, запах копчёного мяса, старый пол, который скрипел только под теми, кто не боялся своих шагов. За баром кивнули. Генри ничего не сказал. Только прошёл мимо, через тёмный коридор, мимо портретов мертвецов на стенах, и открыл дверь в уединённую комнату – ту самую, где тишина была законом. Он сел. Гарольд – напротив. Официант вошёл, поставил бутылку коньяка, два стакана, сигареты в жестяной коробке. Вышел. Дверь закрылась. Ни слова. Генри налил себе. Один стакан. Полный. Выпил залпом. Откинулся назад. Закурил. Гарольд молчал. Тишина тянулась, как дым по потолку.
– Ты, когда- нибудь думал… – начал Генри, глядя в одну точку. – …как мы сюда дошли?
– Нет, сэр. Я и не шёл. Меня втащили.
– А если бы мог уйти?
– Ушёл бы. Но мне некуда. У вас, как ни странно, хоть кто- то есть. А у меня – только пальцы, которыми надо кого- то бить.
Генри усмехнулся. Без смеха. Выдохнул дым.
– Ты бы удивился, как много у меня на самом деле ничего.
– Тогда держитесь за то, что есть. Хоть зубами.
Снова тишина. Только огонь в лампе трепетал, будто слушал. Через пару минут дверь открылась. Арчибальд. Как всегда – без стука. Как всегда – в перчатках. Как всегда – с хищным спокойствием. Он не сел сразу. Подошёл к столу, посмотрел на бутылку, налил себе половину. Сел. Молча. Сделал глоток. Сигарета в зубах.
– Чисто сработал, – сказал он. – Эллиот исчез. Без шороха. Я это ценю.
Генри ничего не ответил.
– Тебе не нравится, когда я хвалю?
– Мне всё равно.
Арчибальд усмехнулся, не глядя. Потёр перчатку о запястье.
– Знаешь, ты стал другим. Тише. Но внутри… – он сделал затяжку. – Внутри что- то всё- таки трескается. Я слышу.
– Может, тебе кажется.
– Мне ничего не кажется. Особенно в людях. Ты стал… мягче. Как будто кто- то вернулся.
Пауза. Генри смотрел в стакан.
– Ты сейчас задал личный вопрос?
– Я задал наблюдение. И ты отреагировал. Этого достаточно.
– Перейдём к делу?
– Мы уже в нём.
Тишина. Долгая. Арчибальд встал. Допил. Поставил стакан.
– Береги то, что тебя меняет. Если оно вообще того стоит. Потому что если нет – ты только зря дал себе слабину.
Он ушёл. Дверь закрылась. Генри сидел. Не двигался. Долго. Потом встал. Пальто. Сигарета. Выход. Гарольд молча открыл перед ним дверь машины. Генри сел. Не сказал, куда ехать. Но адрес знали оба. Он вошёл без ключа. Дверь была не заперта. Внутри пахло едой, чаем и тем, что в этой квартире всегда оставалось – покоем, которому не нужно было разрешение. Свет был приглушён, комната – полутёмной, но уютной. Адель вышла из кухни, вытерла руки о тканевое полотенце, посмотрела на него. Он не сказал ни слова. Она тоже. Он снял пальто. Повесил. Она вернулась обратно. Через несколько минут он услышал, как стучит крышка кастрюли, как доносится тихое шипение масла, как капает вода. Он сел за стол. Не глядя. Не спеша. Пальцы на столешнице – напряжённые, будто продолжали держать оружие. Она поставила перед ним тарелку. Потом – села напротив. Ели молча. Он – не жадно, но быстро. Она – почти так же. За ужином ни одного взгляда. Только звук посуды и слабое дыхание, которое каждый из них старался не показывать. Когда они доели, он отодвинул тарелку. Она тоже. Потом встала.
– Пойдём, – сказала тихо.
Они прошли в спальню. Свет не включали – только тот же старый ночник у кровати. Он сел. Она – рядом. Плечо к плечу. Но не касались. Сидели так, будто время остановилось. Молчание висело в воздухе. Не тяжёлое – просто густое. Как дым.
– Куда ты ездил? – наконец спросила она.
Он посмотрел в стену.
– На склад.
– Что за склад?
– Рабочий. Один из многих.
– И зачем?
– Разобраться.
– С кем?
– С человеком, который перестал понимать, как тут всё устроено.
Пауза.
– И как ты ему объяснил?
– Тихо. Так, чтобы запомнил.
Она повернула голову. Смотрела прямо.
– Не будь со мной таким сухим, – сказала она. Голос – спокойный, без обиды. – Я не они. Мне не надо от тебя бояться.
Он посмотрел на неё.
– Я не знаю, как иначе.
– Тогда учись. Здесь. Со мной. Здесь ты не должен быть ледяным. Ты можешь быть просто… собой. Тем, кто сидит и ест со мной молча. Тем, кто не пьёт коньяк. Тем, кто прикрывает одеялом, а не встаёт первым. Ты всё ещё умеешь это. Я знаю.
Он сжал губы. Опустил взгляд.
– Это опасно.
– Почему?
– Потому что с тобой я тёплый. А значит, мягкий. А мягких ломают первыми.
– Я не сломаю тебя. Я держу. Я не давлю.
Он не ответил. Только чуть сдвинулся ближе. Она молча накрыла его ладонь своей. Они так и сидели. Не касаясь больше. Не говоря. Они сидели в полумраке. Тишина уже не была густой. Стала мягкой. Лёгкой. Как воздух перед сном. Адель не сжимала его руку. Просто держала. Он не прятал свою. Просто позволял. Когда она встала, не спросила: останешься? Просто пошла к кровати, зажгла свечу, сняла халат и легла. Он остался сидеть. Минуту. Две. Потом расстегнул пуговицы на рубашке. Не торопясь. Снял. Разделся. Тихо. Лёг рядом. Она отвернулась на бок. Он лёг за ней, не касаясь. Потом аккуратно – почти неуверенно – обнял. Рука легла ей на талию. Тепло.
– Ты правда останешься? – шепнула она.
– Да, – просто.
– А утром?
– Буду.
Она выдохнула. Он тоже. В груди у него не звенело. Не гудело. Не скрежетало. Впервые за долгое время было просто… спокойно. Он прижался щекой к её спине. Закрыл глаза. И уснул. Не как охотник. Не как убийца. Как человек, который нашёл, к чему хочет возвращаться. Утром он проснулся от света. Лёгкий луч скользил по стене. Адель уже не спала. Лежала рядом, тихо дышала, не двигаясь. Он не встал. Он смотрел на потолок. На её плечо. На подушку.
– Доброе утро, – сказала она, почти шёпотом.
– Оно действительно доброе, – ответил он.
– Хочешь чай?
– Да.
Она встала. Он остался. На губах – что- то похожее на улыбку. Она легко поцеловала его и ушла на кухню. На груди – тишина. Не тревожная. Просто тишина. В этот день всё было по- другому. Генри остался. Он не спешил одеваться, не смотрел на часы. Просто сидел за столом, пил чай, слушал, как Адель что- то говорит о плите, о скрипящей двери, о том, как давно здесь не было порядка. Он кивал. Иногда даже отвечал. Тихо. Коротко. Но это был разговор. Настоящий. Он снова не курил. Не потому что не хотел – потому что не нужно было. Адель убирала со стола, когда в дверь постучали. Глухо. Три раза. Она подошла. Генри даже не поднялся – просто смотрел в окно. Вернулась она уже с другим лицом. В руках – конверт. Он узнал его сразу. Цвет, почерк, воск. Всё. Она поставила его перед ним.
– Это что?
Он молчал. Взял. Посмотрел. Не тронул.
– Генри.
– Работа.
– Сегодня? Сейчас?
Он кивнул. Она подошла ближе. В глазах – не злость. Только обида. Тонкая, тихая, но сильная.
– Я думала, ты останешься.
– Я остался.
– На ночь. Этого мало.
– Мне хватило.
– А мне – нет. Я не хочу просыпаться и каждый раз гадать, уйдёшь ли ты через час. Я не хочу жить в страхе, что тебя снова не будет. Я не хочу делить тебя с этим…
– С этим я и есть, Адель.
Он сказал это тихо. Ровно. Как констатацию. Как приговор.
– Я этим живу. Я делаю то, что умею. И в этом мире это всё, что у меня есть. Либо ты принимаешь это, либо мне придётся оставить тебя.
Тишина повисла в воздухе. Она отступила на шаг. Глаза – сухие. Щёки – чуть побледнели.
– Ты даже не попробовал выбрать.
– Я выбрал. Я пришёл к тебе. Я остался. Я лег рядом. Я уснул. Это – был выбор. Но я не брошу то, что держит меня в этом мире.
Она отвернулась. Пошла к окну.
– Тогда иди, – сказала она тихо. – Делай, что умеешь.
Он встал. Медленно. Без звука… Надел костюм, пальто. Взял конверт. Остановился у двери.
– Я вернусь.
– Не обещай, – не оборачиваясь. – Ты не умеешь сдерживать это.
Он вышел. Дверь за ним закрылась. Глухо. Как будто снова закрылся целый мир. Адель не плакала. Не разбивала чашки. Не хлопала дверями. Просто стояла у окна, пока шаги Генри не исчезли в глубине улицы. Потом села. В кресло. В то самое, где он сидел ночью. Обняла колени. Закрыла глаза. Внутри не было истерики. Только гул. Странный, похожий на звон после удара по стеклу.
Он ушёл. Опять. Но теперь не просто – вышел по делу. Он вышел с условием. С выбором. И не выбрал её. Она не злилась. Это было хуже. Понимание. Полное, глухое, страшное. Он не станет другим. Ни завтра, ни через год. Ни с ней, ни без. Он может быть рядом – но он всегда будет снаружи. Её шатало внутри. От желания уйти. Уехать. Забыть. А потом – от мысли, что он вернётся, а её нет. И тогда он впервые действительно останется один. Вечером она разогрела чай. Не ужин. Чай. Села на кухне. Слушала, как тикают старые часы. Думала, что не выдержит. Потом – что выдержит всё. Потом – что уже решила. Когда стукнула входная дверь, она не пошла сразу. Только через минуту. Он стоял у стены, пальто снято, лицо ровное. Глаза —сухие, как всегда.
– Ты пришёл, – сказала она спокойно.
– Да.
– Я думала, не вернёшься.
– Я обещал.
Она кивнула. Прошла мимо. Села. Он – напротив. Минуту они сидели в тишине.
– Я останусь, – сказала она.
Он не ответил. Только слушал.
– Я не прощу. Не одобрю. И не забуду. Но я приму.
– Почему?
– Потому что ты вернулся.
Пауза.
– И потому что я знаю – ты не просил, но ты надеялся, что я останусь.
– Я не умею просить.
– Я знаю.
Они снова замолчали. Он встал. Подошёл. Не сел рядом. Просто достал из кармана маленькую бархатную коробку. Без жеста. Без взгляда. Без театра. Открыл. Протянул.
– Будешь?
Она не улыбнулась. Не ахнула. Просто взяла кольцо.
– Да.
Он закрыл коробку. Положил обратно в карман.
– Тогда я остаюсь.
Они больше не говорили. Только смотрели друг на друга. И всё в этом взгляде было чище любого обещания.
Глава 4. Железные руки
Она родилась на рассвете.
Дом был тёплый, пахло кипячёной водой, свечами и сырой тканью. Адель кричала почти беззвучно – так, как кричат женщины, которые уже всё поняли. Она держалась за кровать, потела, дрожала, но в глазах у неё был тот самый свет, который горит у тех, кто больше не боится боли. В комнате стояла повитуха, пожилая, с узкими пальцами, запахом трав и строгим лицом. Генри не уходил. Стоял у двери. Молчал. Не двигался. Он не привык быть свидетелем жизни. Он умел смотреть на смерть. Умел предугадывать боль. Но это – это было что- то из другого мира. Он стоял, как камень. Лицо – холодное. Но руки дрожали. Незаметно. Медленно. Когда ребёнок закричал, мир будто провалился в глухоту. Ни один звук в жизни Генри не пробивал броню, как этот. Он подошёл. Повитуха держала девочку. Маленькую. Сжатую в комок. Розовую. Вся – дыхание, крик, жизнь. Она передала ему ребёнка. Он взял. И впервые в жизни не знал, что делать с руками. Она лежала у него на ладонях, как вся суть, зачем он вообще остался в этом мире. Он посмотрел на неё. Тёмные волосы. Маленький лоб. Морщинистые, но уже упрямые губы. А глаза – как у Адель.
– Вивьен, – прошептала она с кровати. – Назови её Вивьен.
Он не ответил. Только кивнул. Он отнёс дочь к кровати. Положил её рядом с матерью. Адель была бледной. Очень бледной. Он знал этот цвет. Слишком хорошо. Повитуха отводила взгляд. Что- то бормотала. Но Генри уже понимал. По дыханию. По глазам. По пальцам, которые Адель больше не поднимала.
– Генри… – сказала она, почти без звука. Он наклонился.
– Береги её, – прошептала она. – Но не как меня. Не молча.
Он хотел сказать что- то. Всё. Любовь. Боль. Прощение. Но из него вышло только одно:
– Прости.
Она улыбнулась. Очень слабо.
– Уже, – сказала она.
И ушла. Медленно. Тихо. Без последнего крика. Пока дочь рядом плакала – мать замолчала. В один и тот же час. Он стоял. Смотрел. На жену. На дочь. И чувствовал, как его сердце перестаёт быть оружием. И становится раной.
После похорон Адель он не разозлился на мир – он просто перестал с ним разговаривать. Не кричал, не бил стены, не пил больше обычного. Он просто замолчал. Утром – тишина. Вечером – тишина. Даже когда Вивьен плакала, он не говорил ей «шшш», не баюкал. Он брал её на руки, медленно, как будто боялся сломать, и просто держал. Иногда сидел с ней так по часу. Не качал, не убаюкивал, не прижимал к груди. Он просто был рядом. Глаза её закрывались. Плечи расслаблялись. Она засыпала. А он оставался с открытыми глазами, и в голове его гудело: «живи, просто живи». Не себе. Ей. Он не знал, как растить ребёнка. Он не знал, как быть добрым. Но он знал, как быть рядом. Он научился кипятить воду, наливать молоко, мыть детскую посуду, обрабатывать трещины на пальчиках йодом. Неловко. Грубо. Но делал. И каждое её «папа» било по нему сильнее, чем выстрел. Потому что он не заслуживал. Потому что он знал, он держит в руках ту, ради которой должна была жить Адель. Он не нанимал нянь. Не пускал чужих в дом. Вивьен росла в мире, где почти не было других людей. Только он. И работа. И иногда Гарольд, который приносил письма, и всегда смотрел на девочку чуть дольше, чем позволено. Генри не мешал. Он знал, Вивьен нужно хоть что- то, кроме его плеч и его молчания. Но всё равно, когда Гарольд уходил – он сразу закуривал. Смотрел в окно. Глубоко затягивался. Он пропадал. Иногда – на день. Иногда – на трое. Никогда не говорил, куда. Не говорил, когда вернётся. Она не спрашивала. Но он знал, что она ждёт. Всегда. Каждый раз, когда он открывал дверь, она поднимала голову, как будто просто моргнула. Ни упрёка, ни слёз. Только взгляд: «ты снова ушёл». И он не знал, как с этим справляться. Поэтому просто проходил мимо, раздевался, пил воду, садился, закуривал, а потом говорил:
– Была хорошая?
Она кивала. А он клал ладонь ей на голову. Не гладил. Просто держал. Несколько секунд. Её волосы щекотали его пальцы, и он чувствовал: это всё, что у него есть. Когда ей было пять, она впервые увидела кровь на его рукаве. Он заметил её взгляд. Снял пальто. Сказал тихо:
– Это не твоя кровь. И никогда не будет.
Она ничего не ответила. Просто сжала в кулачке угол своей пижамы. А он пошёл в ванную, долго мыл руки. Так долго, что ногти побелели. Он учил её читать. Вечерами. Тихо. Без ласки. Без сюсюканья. Просто сидел рядом. Книги были тяжёлые, с плотной бумагой. Она ошибалась – он не поправлял. Она справлялась – он молчал. Но после – приносил ей печенье. Без комментариев. Просто ставил на стол. И уходил. И она понимала: это и есть его «я горжусь тобой». Мир снаружи не становился мягче. Люди исчезали. Партнёры предавали. Улицы становились грязнее. Генри всё чаще возвращался поздно, в сигаретном дыму, с тенью на лице. Но дома его ждала она. Девочка в халате. С книгой. Или с чашкой. Или просто с глазами, в которых он видел – всё ещё можно дышать. Он не говорил ей, что любит. Никогда. Но каждый раз, когда она засыпала, он сидел рядом. Иногда брал её ладонь. Долго. Не двигаясь. И если она просыпалась, он только шептал:
– Спи. Я здесь.
Это было всё, что он мог. И всё, что ей было нужно.
Когда Вивьен исполнилось восемь, она уже умела определять по глазам, была ли ночь у Генри трудной. Она не задавала вопросов. Просто знала. Если взгляд стеклянный – молчать. Если заходит без пальто – налить воды. Если сидит у окна дольше пяти минут – подать пепельницу, не дожидаясь, пока он сам дотянется. Они не обсуждали её школу – потому что школы не было. У неё были книги. Старые, купленные им у букинистов, в жёлтой обложке. У неё был карандаш. Тетрадь. И он. Вечерами он сидел рядом, курил, слушал, как она читает вслух, иногда ставил ударение, если она ошибалась. Редко. Но точно. Она умела говорить на языке тишины. Она знала, как реагировать на стук в дверь. Никогда не подходила сама. Никогда не спрашивала, кто. Она не слышала, как звучит смех других детей. Не бегала по двору. Не каталась на качелях. Но она знала, как быстро прятать бумаги, если вдруг, кто- то постучит не трижды, а дважды. Она знала, куда он прячет оружие, но никогда не касалась. Знала, что фляга с коньяком – его способ дышать. Знала, что если он выходит, не сказав ни слова, – это значит, что он не хочет быть никем, пока не вернётся.
Когда ей было девять, один из людей Арчибальда пришёл в дом пьяный. Он перепутал адрес. Постучал грубо. Генри открыл дверь, вышел за порог – и вернулся только через полчаса. Вивьен видела, как он вытирал пальцы платком, потом шёл мыть руки – так же долго, как в день, когда умерла Адель. На следующее утро он оставил ей у кровати коробку с конфетами. Она ничего не сказала. Просто взяла одну, развернула. Это был их способ говорить: через жесты, через молчание, через вещи. Она никогда не называла его «папочка». Только:
– Папа.
Иногда:
– Генри.
Он не поправлял.
Когда ей было десять, он начал брать её с собой в магазин, к портному, к часовщику, иногда даже – в старый паб, если Гарольд не мог сопровождать. Она не пугалась запаха дыма. Не пугалась мужчин, которые поднимали глаза и тут же опускали. Она ходила рядом, тихо, в пальто, чуть касаясь его рукава. И он знал: она растёт не как обычный ребёнок. Она растёт как тень. Как человек, умеющий исчезать при свете дня. Он всё ещё был холоден. Но рядом с ней – не пуст. Его ладонь могла быть тяжёлой. Его голос – сухим. Но каждый раз, когда она засыпала, он оставался сидеть. Сигарета. Коньяк. Молчание. И одна мысль:
«Ты единственная, ради кого я не исчез.»
Ей было одиннадцать. Дождь шёл с утра, и к вечеру улицы блестели, как глянцевая бумага. Генри вышел рано. Сказал: «буду поздно». Но ключ оставил. А она, как всегда, ждала. Чай остывал. Книга лежала раскрытая, но глаза бегали по строчкам, не вникая. Вивьен сидела у окна, тёплый свет настольной лампы бил по стеклу, делая её отражение мутным. В какой- то момент она услышала, как у двери провернулся ключ. Он вошёл. Но – не один. Она не вышла сразу. Прислушалась. Второй голос – чужой, громкий, сбивчивый. Генри говорил коротко. Сухо. Его тон она узнала сразу – тот, которым он говорил только тогда, когда не прощал. Они прошли в кабинет. Дверь захлопнулась. Тихо. Но не до конца. И этого было достаточно. Вивьен поднялась. Медленно, как будто знала – сейчас будет что- то, что изменит её.
Подошла. Встала у стены. Щель между дверью и косяком была тонкой, но глаз – ребёнка. И то, что она увидела, навсегда отпечаталось в памяти. Комната была тускло освещена. Только настольная лампа. Генри стоял. Напротив – мужчина. Лет сорока. Пальцы дрожали. Лицо побелело. Под глазом – синяк. На столе – документы. Деньги. Маленькая коробка, перевязанная верёвкой.
– Ты что, подумал, я не узнаю? – голос Генри был ровный. Лёд.
– Я… я просто… они предложили больше…
– Ты взял у нас. Потом взял у них.
– Но я верну! Я верну всё до последнего шилли…
– Уже не важно.
– Генри… пожалуйста…
– Тебе не ко мне. Тебе к Богу. Если он тебя ещё слышит.
Пауза.
Тот человек бросился к нему. Рывок. Вивьен дёрнулась. Щелчок. Генри оттолкнул его резко, точно. Потом – достал пистолет. Но не поднял. Просто положил на стол. Словно говорил: «я могу. Не обязан. Но могу.»
– Гарольд.
Из темноты вышел Гарольд. Как будто всё это время стоял в тени.
– Отвези. Без криков. Без крови на одежде.
– Куда?
– Ты знаешь.
– Да, сэр.
Мужчина забился. Генри не смотрел.
– Пусть молчит, – бросил он, садясь в кресло.
Дверь распахнулась. Гарольд вывел его. Шаги затихли. Вивьен стояла. Ни звука. Ни слезы. Ни вздоха. Просто смотрела. Понимала. Когда Генри вышел из кабинета, она уже сидела в кресле, как будто никуда не уходила. Книга на коленях. Страница та же. Он взглянул на неё. Долго. Прищурился. Сигарета легла в зубы.
– Ты всё слышала?
– Да.
– Всё видела?
– Да.
Он кивнул.
– Хочешь что- то сказать?
Она посмотрела на него. В глаза.
– Теперь всё понятно.
Он кивнул ещё раз.
– Тогда иди спать.
Она встала. Прошла мимо. Но перед тем как исчезнуть в дверном проёме, остановилась.
– Папа?
– Да?
– Я не боюсь тебя.
Он остался сидеть. Не пошевелился. Сигарета горела в руке. И только в его взгляде мелькнуло что- то – тёплое. Страшное. Горькое. Потому что в этой фразе было всё. И он не знал, должен ли он ею гордиться – или бояться.
Ей было двенадцать. Сначала он просто брал её с собой. Без слов. Без объяснений. Вивьен садилась в машину рядом. Руки на коленях. Спина прямая. Он не говорил, куда они едут. Она не спрашивала. Но запоминала всё: маршрут, повороты, лица на улицах, жесты водителя. Гарольд всегда бросал на неё короткий взгляд в зеркало. Не вопросительный. Просто – фиксировал.
Первый раз она вошла с ним по- настоящему – не как девочка, которой нечего делать, а как тень за спиной. Это был склад. Старый. Кирпичный. Внутри пахло пылью, мокрой тканью, жиром и – сильнее всего – железом. Запах – как ржавчина на крови. Густой. Вязкий. Вивьен дышала через рот. Молча. Пол – цемент, местами в трещинах. Вдоль стены – металлические ящики. На них цифры. Стояли трое. Один с бумагами. Один с кожаным портфелем. Третий – на страже, с руками в карманах. Они замерли, когда увидели Генри. Потом – её. Он не представил её. Просто кивнул в сторону.
– Она здесь. Привыкайте.
Мужчины переглянулись. Но не сказали ни слова. Вивьен смотрела. Не на лица. На детали. Один в дешёвом галстуке, но с дорогими часами – значит, ворует. Второй с запачканным ботинком – спешил, не хотел быть здесь. Третий – глаза бегают, нос чешет – нюхает, нервничает.
Она стояла у стены. Не шевелилась. Взгляд вперёд. Не вниз. Не в пол. На столе – бумаги. Опись. Количество ящиков. Номера. Один из них начал говорить.
– Мы получили шестьдесят две единицы. Опиум сырой, влажность…
– Неинтересно, – сказал Генри. – Сколько процентов утечки?
– Ну… где- то…
– Я не задавал вопрос. Я жду цифру.
– Девять.
– Должно быть не больше пяти.
– У нас проблемы с упаковкой…
Генри бросил взгляд на Вивьен.
– Скажи мне, что ты видишь.
Она подошла. Медленно. Открыла один ящик. Протянула руку. Ткань. Сырость.
– Не герметично. Переходник плохо закреплён. И запах – сырость пошла снаружи. Не внутри.
Один из мужчин прикусил губу.
– Она… разбирается?
– Ещё нет. Но учится.
– У вас странные методы.
– А у вас – слабые упаковки.
Сделка продолжилась. Подписи. Печати. Один из мужчин, тот, что с часами, косился на Вивьен. Генри заметил. Достал сигарету. Медленно закурил.
– Следующий раз – без взглядов. Она не мясо. И не товар. Она – память. И если кто- то подумает тронуть мою память – я сотру его имя с улиц.
Пауза. Дым висел в воздухе. Никто не возразил. Когда они вышли, Вивьен шла рядом. Руки в карманах пальто. Он не говорил. Только закурил. Она смотрела вперёд.
– Почему «память»? – спросила.
– Потому что ты – всё, что осталось.
Она кивнула. Больше не спрашивала. Вечером дома она написала в тетради:
Сделка. Один говорил. Один нервничал. Один – врал. Папа знал это с первого взгляда. Я – со второго. Учиться надо до того, как начнёшь говорить.
Ей было пятнадцать. Переулок в Кэмдене был забит грязным снегом и запахом гари. Гараж снаружи выглядел заброшенным – но внутри горел жёлтый свет, и дышать было трудно: опилки, перегретый металл, сигареты. Генри открыл дверь первым. Вивьен – за ним. Она уже не держалась в стороне. Шла рядом. В пальто. Рука в кармане. Не нервно – привычно. Внутри – трое. Стол из фанеры. Весы. Калькулятор. Один стоял, как лидер. Второй – руки в масле. Третий – смотрел в пол. Раньше бы Вивьен стояла сзади. Теперь – в центре. Никто не спросил, кто она. Никто не посмел. Её шаги звучали ровно, как у отца. Её глаза не бегали. Она смотрела прямо. И это было хуже, чем пистолет. Генри бросил папку на стол.
– Это отчёт за два месяца.
– Мы не успели всё пересчитать, – сказал тот, что в масле.
– Не мой вопрос, – отрезал Генри.
Вивьен подошла к ящику. Открыла.
– Сырость, – сказала. – Примеси. Вес обманут.
– Но это…
– Не перебивай, – сказал Генри.
Вивьен вытащила один мешок. Разрезала ножом. Провела пальцем по кромке. Понюхала.
– Кукурузный крахмал.
– Это всего…
– Ты думаешь, что я не знаю разницу? – она сказала это без гнева. Ровно. Так, как будто в её голосе было разрешение умереть. Тот, что в масле, побледнел. Она подошла к третьему. Тот смотрел в пол.
– Почему молчишь?
– Я…
– У тебя были свои расчёты. Ты знал, что он подмешивает. Но молчал. Значит, ты либо соучастник, либо трус.
Пауза.
– Мы не работаем ни с теми, ни с другими.
Генри молчал. Курил. Он смотрел на неё – не с гордостью. С удивлением. Она говорила, как он. Стояла, как он. Даже тень от её плеча легла так же, как раньше ложилась от его – на тех, кто провалился.
– Вы трое исчезнете. Сегодня. Не из жизни. Из города. У вас час. После этого – другие придут за вами.
Она развернулась. Пошла к выходу. Генри – за ней. На улице он достал сигарету.
– Сильно, – сказал он.
– Справедливо, – ответила она.
– Страшно, – добавил он.
Она взглянула на него.
– Мне тоже. Но не за себя. За тебя.
Он выдохнул дым. Глубоко. Смотрел, как он расплывается в морозном воздухе.
– Я никогда не думал, что ты станешь мной.
– Я не стала тобой. Я стала тем, кто умеет выживать. И ты – научил.
Он не ответил. Просто кивнул. Они пошли дальше. Как два одинаковых силуэта. Только её шаги звучали даже тише.
Ей было двадцать. Здание было новое, но стены пахли старыми страхами. Бетон. Хром. Запах дешёвого кофе и документов. На двери – табличка: «Договорное бюро поставок». Ни слова правды. За дверью – склад. За складом – люди, которые думали, что могут стать новыми. Когда Вивьен вошла, в комнате было шестеро. Один стоял. Остальные сидели. На ней – чёрное пальто в пол, облегающее платье, перчатки. Волосы собраны. На губах – холодный бордовый цвет. Ни драгоценностей. Только маленький пистолет в кобуре под тканью. Он не мешал ходить. Лёгкий. Как жест. Она сняла перчатки. Медленно. Села. Скользнула взглядом по лицам. Все замолчали. Она вытащила сигарету. Закурила. Сигнал – не спешим.
– Мне сообщили, что вы забыли, кто платит.
– Мы не забыли, – проговорил один. – Просто правила изменились.
– Нет. Изменились только вы. Правила не трогают.
Она сделала глоток коньяка из узкой фляги. Та самая, что раньше носил отец, достала бумаги. Положила на стол.
– Опоздания. Двойные накрутки. Попытка заменить три партии опиума травами. Я уважаю креатив, но не глупость.
– Это не было злым умыслом. Просто… сложные поставки, новое правительство, налоги…
– Вы не в парламенте. Вы в подвале. Тут налоги платятся либо вовремя, либо кровью. Слово «кровь» она произнесла так, как будто оно стоило дороже, чем их жизни. Один из них пошевелился. Поднял руку.
– Леди Вивьен…
Она взглянула. Резко. Молча. И он замолчал.
– Вам дали шанс быть рядом со мной. Не стать мной – это невозможно. Но хотя бы рядом.
Она встала. Медленно.
– И вы думали, что сможете торговаться?
Один засмеялся. Низко. Нервно.
– Вы думаете, вы стали как он?
Пауза. Она достала пистолет. Положила на стол. Рядом с бокалом.
– Я стала хуже. Потому что он учил, но жалел. А я – нет.
Она кивнула охраннику. Троих вывели. Двое остались.
– Вы – будете работать. Без вариантов. Без задержек. Без недоумков. Следующее письмо с подписью в конце будет не от меня – от моего адвоката.
Она одела перчатки. Медленно. Взяла флягу. Сделала глоток. И ушла. Не оборачиваясь. В коридоре ветер тронул край её пальто. Она шла, как будто под ногами не пол – лед. И каждый шаг говорил: я не дочь Генри. Я его наследие. И ваш конец.
Через два месяца. Утро было холодным. Ноябрьским. Сероватым. Таким, когда даже город дышит тише. Генри встал рано. Слишком. На кухне уже кипел чайник, сигарета догорала в пепельнице, окно было приоткрыто – как всегда, чтобы не застаивался дым. Вивьен вошла, на ней было шёлковое домашнее платье и плотно завязанный халат. Волосы собраны. Шла босиком. Он сидел за столом. Рубашка расстёгнута на две пуговицы. Взгляд в окно. Чашка полная. Остывает. Не пьёт. Смотрит, будто что- то ждал.
– Слишком рано, – сказала она, подходя.
– Время – не инструмент. Оно просто течёт. Не зависит от того, когда я встаю.
– Обычно ты так философствуешь только после трёх рюмок.
– Сегодня – исключение.
Она молча налила себе чаю. Села, напротив, не спрашивала, ждала.
– Есть один человек, – сказал он наконец. – Джонатан Хейл. Мы работали с ним несколько лет. Он не из наших. Торговля металлом, документы, контракты. Но он всегда был полезен. Связывал с людьми, которых мы не могли касаться напрямую. Спокойный. Умный. Тихий. Без амбиций – казалось.
– Но?
– Вчера пришла бумага. Один из его людей пытался переписать пункт в контракте. Незаметно. Без подписи.
– И?
– Это значит, что он думает, будто может управлять изнутри.
Вивьен сделала глоток. Медленно. Поставила чашку.
– Я пойду.
– Нет.
– Я справлюсь.
– Я знаю. Но я сам.
Пауза. Они смотрели друг на друга.
– Ты слишком близка к ним. Они уже чувствуют, что тебя надо бояться. А меня – давно не боятся. Я должен напомнить.
– А если это ловушка?
Он усмехнулся.
– Тогда это будет красиво.
– Это не смешно.
– Я и не смеялся.
Она опустила глаза. Медленно провела пальцем по краю чашки.
– Возьми Гарольда.
– Возьму. Но снаружи. Это личный разговор. Я должен посмотреть ему в глаза. Впервые – за пять лет – я хочу услышать ложь прямо.
Он встал. Подошёл к зеркалу. Застегнул пуговицы. Поправил запонки.
– Не задерживайся, – сказала она, не глядя.
– Не собираюсь.
– Возьми коньяк.
– Уже в кармане.
Он подошёл к двери. Остановился. Повернулся. Посмотрел на неё.
– Если не вернусь вовремя…
– Не продолжай, – перебила она. – Просто иди. Я всё знаю.
Он кивнул. Вышел. Дверь закрылась. Она сидела. Чашка дрожала в руке. Впервые за много лет – её пальцы дрожали. Потому что в этом «я всё знаю» было всё. И она действительно знала.
Склад был новый. Лицо у него – приличное. Бетон. Чистая табличка. Даже лампы не мигают. Всё слишком правильно. Это настораживало. Гарольд остался снаружи, по приказу. Генри прошёл внутрь один. Шёл медленно, как всегда. Спина прямая, пальто не застёгнуто. Под ним – всё, что нужно, если разговор пойдёт в кровь. Хейл ждал. Чистый костюм. Чашка чая. Улыбка. За спиной – двое. Молодые. Руки в карманах. Генри остановился в трёх шагах. Не ближе.
– Ты сам, – сказал Хейл, чуть удивлённо.
– Всегда. Когда речь идёт о чести.
– А ты ещё веришь в это слово?
– Верю в последствия.
Пауза. Молчание.
– Ты принёс бумаги? – спросил Хейл.
– Принёс. Но мне не бумаги нужны. Мне – правда.
– Какого рода?
– Ты хотел украсть. Через подпись. Через тень. Тихо. Не в лоб.
– Ничего серьёзного. Мы могли бы обговорить.
– Мы не говорим, когда уже поставлено имя. Мы молчим и исправляем.
Генри достал флягу, один глоток, поставил на ящик рядом.
– Ты был полезен, Джонатан. Очень. Но ты начал думать, что ты – сам себе хозяин.
– А я не могу быть?
– Нет.
Один из молодых за спиной Хейла пошевелился. Плохо. Нерешительно. Генри не посмотрел.
– Не делай глупостей. Пусть стоят. Пусть слушают, как уходит их покровитель.
Хейл сжал губы.
– Ты пришёл убить меня?
– Нет.
– Тогда что?
– Посмотреть в глаза тому, кто предал. Один раз. Перед тем, как исчезнешь.
Он повернулся. Шагнул к выходу. В этот момент – щелчок. Глухой хлопок. Никаких криков. Генри споткнулся. Резко. Повернулся наполовину. Ударился спиной об ящик. Сначала – тишина. Потом – пятно. Тёмное. Густое. Он посмотрел вниз. На грудь. Пуля. Чётко. Под рёбра. Он сел. Не упал. Сел.
– Гарольд… – выдохнул. Но тихо. Гарольд был снаружи.
Хейл подошёл. Тот самый молодой стоял позади, с пистолетом, и не понимал, что только что сделал.
– Жаль, – сказал Хейл. – Мы могли ещё поработать.
Генри посмотрел на него снизу- вверх.
– Ты – всё испортил.
– Ты знал, чем рискуешь.
– Я знал, что ты слаб.
Он достал флягу. Остаток – в рот. Глоток. Последний. Он медленно опустил руку. В глазах – не боль. Разочарование. Через несколько минут его тело всё ещё сидело у стены. Прямое. Как будто он просто смотрел. В последний раз. Когда прозвучал выстрел, Гарольд не сразу бросился. Он знал Генри. Знал, что не терпит паники. Но когда тишина затянулась, он выскочил из машины.
Рывок. Металл двери. Гул. Склад был мёртв. Запах пороха – свежий. Генри – у стены. Сидел. Как будто отдыхал. Но по лицу было видно – ушёл. Плечи расслаблены. Грудь больше не поднимается. Глаза – открыты, но не смотрят. Он знал, куда смотреть. Внимание – не на рану. На руку. В ней – фляга. Почти пустая. Гарольд медленно опустился. Дотронулся до запястья. Холодно. Взял флягу и положил в карман. Он не плакал. Только выдохнул.
– Сэр…
Внутри его пиджака, на подкладке – конверт. Плотный, тяжёлый. Надпись:
«Для Вивьен. Только если я не вернусь.»
Он не вскрыл его сразу. Просто держал в руке, пока снаружи поднимался холодный ветер, а в небе солнце пробивалось через дымку. Позже, когда тела уже не было, когда склад стоял закрытый, когда улицы начали жить своей жизнью – Гарольд передал письмо и флягу. Без слов. Она взяла. Тоже – без слов. Открыла в комнате, где всегда пахло табаком и тишиной.
Вивьен,
Если ты читаешь это, значит, я не дошёл обратно. Неважно, как. Важно – что я знал. И знал давно. Что рано или поздно этот путь заберёт меня. И я всегда знал, что ты останешься. Одна. Но не сломанная.
Ты – моя работа. Моя ошибка. Моя гордость. Ты выросла на холоде, но не стала пустой. Ты научилась тому, что я пытался спрятать. Ты стала мной. А потом – стала лучше.
Я не сказал тебе многих слов. Я не умею. Но знай – ты держала меня на плаву все эти годы. Не Гарольд. Не сделки. Не оружие. Только ты.
Я оставляю тебе всё. Бизнес. Людей. Связи. Не потому что ты – моя дочь. А потому что ты – единственная, кто сможет держать это в руках и не сломаться. Я верю в тебя так, как никто не верил в меня.
Если станет тяжело – не прощайся. Молчи. Ты умеешь. Но помни: я был рядом. Всегда. Даже в молчании. Я люблю тебя.
Г.
Она прочла письмо один раз. Потом – второй. Потом положила его в ящик. Без слёз. Без слов. И только тогда – позволила себе сесть и заплакать.
Погода с утра была вязкая, серая. Туман висел низко, цеплялся за ветви деревьев, за пальто людей, за лица. Дождь не лил, а моросил – мелко, едко, как насмешка. Такой дождь промокает не сверху – он пропитывает изнутри. Кладбище стояло на окраине. Старые деревья, кованая ограда, скрип ворот, земля – тёмная, мягкая, словно знала, кто ляжет в неё. Могила была уже открыта. Чёрная. Без поэтики. Просто яма. Подготовленная, как отчёт. Гроб стоял на подставках, матово- чёрный, гладкий. Без блеска. Без украшений. На памятнике только имя. Без даты рождения. Только дата смерти.
Генри не терпел сентиментальности. Даже в смерти. Людей собралось немного. И слишком много. Все свои. Все – в прошлом его враги, его партнёры, его страх. Стояли молча. Взгляды в землю. Кто- то курил, пряча сигарету в ладони. Кто- то держал руки за спиной, чтобы не дрожали. Один мужчина даже снял перчатки – из уважения. Кожа на руках была красной от холода. Гарольд стоял справа. В чёрном костюме. Лицо – каменное. У него в руке – зонт. Он держал его над Вивьен. Она не просила. Просто стояла. И он знал, что вот в этот момент она нуждается не в укрытии от дождя, а в стене между ней и остальными. Он – и был этой стеной. Вивьен стояла перед гробом. Пальто – длинное, плотное, почти военное по силуэту. Волосы собраны назад. Без прядей. Без романтики. Перчатки – из мягкой кожи. Под ними – тонкие пальцы, сжимавшие крошечную флягу, его флягу. На лице – ничего. Даже не пустота. Контроль. Губы сжаты. Глаза смотрят чуть выше крышки. Она не опускает взгляд. Ни на секунду. На ней не было траура. На ней была власть. Та, что остаётся, когда уходит тот, кто учил её носить её молча. Священник говорил что- то. Гарольд слушал. Остальные – делали вид. Она – нет. Она не слушала. Её дыхание было ровным. Руки – не дрожали. Когда гроб начали опускать, Вивьен сделала шаг вперёд. Один. Все расступились. Она подошла. Медленно. Как будто не по грязной земле, а по мрамору. Нагнулась. Открыла флягу. Сделала один глоток. Без гримасы. Без жеста. Без взгляда. Упустила флягу и вылила на край гроба остатки коньяка. Туда, где крышка почти исчезала в земле.
– Последний, – сказала она. Тихо. Только Гарольд услышал. И повернулась. Она не смотрела на могилу. Не плакала. Не вздохнула. Просто ушла. Точно. Шаг за шагом. И каждый шаг звучал, как обещание:
«Я теперь – ты.»
Глава 5. Имя, которое теперь моё
Вивьен стояла ещё несколько секунд, не двигаясь. Его слова – глухой фон. Вода уже впиталась в мех, тускло капала с подола брюк. Но она не чувствовала холода. Только взгляд, отпечатавшийся где- то внутри. Он снова поднял глаза, уже чтобы ещё раз извиниться – и тут же опустил их. Её молчание оказалось тяжелее крика.
– Я… я всё уберу, – пробормотал он и отступил, увлекая за собой ведро, в котором осталась вода, отражающая лампу, как крошечное озеро. Он скрылся за дверью служебного помещения – как будто его и не было. Вивьен осталась одна. Она медленно посмотрела вниз. Рука коснулась края полушубка. Промокло насквозь. Кончики волос – влажные, слипшиеся. Пальцы – холодные, но не дрожат. Она вздохнула. Тихо. Почти не заметно. Потом развернулась и направилась обратно в зал. Мэрион подняла глаза, заметив мокрую ткань.
– Что случилось?
– Вода, – коротко.
– Убила бы того, кто тебя так окатил, – хмыкнула та. Вивьен не ответила. Только села. Закурила. Выдохнула в сторону. И сказала:
– Завтра я вернусь сюда одна.
Мэрион удивлённо приподняла бровь.
– Почему?
– Не знаю.
Но она знала. Просто не умела говорить о таких вещах.
На следующий день она пришла в то же время. Села за тот же столик. Заказала тот же коньяк. Смотрела в сторону коридора. Не явно. Краем глаза. Он появился ближе к вечеру. В той же серой форме. Шёл с ведром. Она не подошла. Не позвала. Просто наблюдала. Он не смотрел в её сторону.
Она приходила по- разному – иногда в шесть, иногда к девяти, иногда за полчаса до закрытия. Но всегда одна. Без слов. Без звонков. Без поводов. Просто появлялась в зале, как тень от прежней себя, и садилась за свой столик, где официанты уже знали, как поставить бокал, как подать сигареты, какую пепельницу выбрать. Она больше не открывала меню. Пальцы легко обводили край бокала, как будто ловили ту вибрацию, что не слышна другим. Она не смотрела по сторонам, не выискивала его взгляд – но всегда чувствовала, когда он входил. По тому, как воздух чуть сдвигался, как будто сам ресторан делал вдох. Он никогда не смотрел на неё прямо. Проходил мимо, не задерживаясь. Его ботинки были немного скошены, шнурки – старые, на рубашке под серой курткой – всегда один залом, на правом плече. Он был неаккуратен, но не неряшлив. Он двигался с такой точностью, как будто не хотел быть частью ничьего взгляда. И именно поэтому она не могла не замечать его. Он стал частью её ритуала – такой же важной, как тишина в начале вечера или вкус первого глотка коньяка. Она пила медленно, курила молча, и ждала, хотя никогда бы себе в этом не призналась. Иногда он проходил мимо, и на его лице был тот же выражение, что однажды было у Генри – усталость, смешанная с достоинством, которое не выставляют напоказ. Он был не похож на отца. Он был… родной. Но не по крови. По ощущениям.
Однажды она задремала. Это был особенно тяжёлый день, и в её пальцах коньяк отдавался не терпкостью, а горечью. Она опустила голову, опёрлась подбородком на ладонь, и на несколько минут выпала – не в сон, а в забвение. Сигарета тлела в пепельнице, огонёк медленно умирал. Он вышел в этот момент, увидел её. Не подошёл, не окликнул. Просто остановился в нескольких шагах и стоял. Минуту. Две. Его лицо было неподвижным, как у статуи, но в глазах – тревога. Не из страха. Из участия. Потом она открыла глаза. Медленно. Увидела его. Они встретились взглядами на секунду – и он сразу опустил глаза. Как человек, пойманный за тем, чего не должен был чувствовать. Она не сказала ни слова. Только выпрямилась и закурила новую сигарету, как будто ничего не произошло. Но на следующий день она пришла на час раньше.
В тот вечер она попросила у официанта салфетку. Он принёс, вместе с обычным коньяком. На салфетке уже было написано имя. «Робин». Чётко, аккуратно, без излишеств. Она не удивилась. Прочитала, как читают имя на надгробии – тихо, без страха. Имя легло в неё, как будто всегда там было, просто спало. Она оставила салфетку на столе, подложила под бокал. И не спрашивала больше. Имя теперь было её.
Иногда он выходил позже обычного, и она начинала злиться на себя за ожидание. Но когда он появлялся – злость исчезала. Он никогда не задерживался. Никогда не подавал виду, что знает. Но теперь в его движениях появилась осторожность – не робость, а будто он несёт внутри себя что- то хрупкое. Вивьен замечала это. И это становилось частью её вечеров. Коньяк, сигареты, его шаги, его глаза, его присутствие, не нарушающее дистанции, но живущее где- то совсем рядом. Её одиночество больше не было одиночеством. Оно стало – разделённым молчанием.
Ресторан был почти пуст. Поздний вечер. Зал погрузился в ту самую тишину, которая наступает после двух последних столиков, после того как официанты перестают играть в услужливость и просто существуют на фоне. Вивьен сидела у окна, как всегда. Перед ней – недопитый бокал, сигарета, затушенная до половины, и тишина, которую она не делила ни с кем. Робин появился у противоположной стены. Он выносил мусор, но двигался медленно, как будто оттягивал шаг. Он знал: она здесь. Она всегда здесь, по четвергам, в это время, с этим выражением лица, в котором нет ни тени мягкости. Но в котором он давно нашёл то, чего не понимал – тягу. Ресторан медленно замирал. Последние звуки фарфора и серебра растворялись в тишине. Люстры тускнели. Воздух становился плотным, пропитанным древесным спиртом, табаком и предчувствием. Вивьен сидела у окна, с неполным бокалом, с полупустой пепельницей. Коньяк был тёплым, как чужая рука, которую нельзя удержать. Он появился без звука. Обычные шаги. Обычные движения. Только в этот раз – с чем- то решённым в осанке. Подошёл медленно, остановился в двух шагах. Чуть поклонился.
– Прошу прощения за дерзость, мэм. Я не хотел нарушить ваш покой.
Вивьен не отреагировала сразу. Её пальцы легко коснулись бокала, будто пробовали, осталась ли в нём сила. Затем подняла на него глаза. Медленно. Спокойно.
– И всё же вы здесь.
Он выдержал паузу.
– Бывают моменты, мэм, когда молчание становится… тяжёлым. Я, признаться, не умею говорить красиво. Но хотел бы попробовать – один раз.
Она чуть склонила голову, разглядывая его. Не грубо. Просто как вещь, которая неожиданно выдала звук.
– Вы много наблюдали?
– Простите, если это было заметно, мэм. Я лишь… не мог иначе. Вы слишком – вы.
Легкий вдох скользнул по её губам. Она улыбнулась – едва, чуть насмешливо.
– Это не ответ.
– Возможно, это всё, что я способен сказать, – ответил он мягко. – Ваше присутствие здесь, мэм, стало частью моего дня. Я… не знаю вашего пути, и не смею претендовать ни на внимание, ни тем более на симпатию. Но я хотел бы, если позволите, просто быть рядом. Без лишнего. Если вдруг… вам понадобится молчание не в одиночестве.
Вивьен сделала глоток. Поставила бокал. Пальцы откинулись на подлокотники кресла.
– Вы всегда были столь… благородны? Или я – исключение?
Он улыбнулся. Тихо. Без вызова. Почти по- детски.
– Вы не исключение, мэм. Вы – причина.
Она замолчала. Смотрела на него почти с любопытством. Как на человека, который не испугался стучать в запертую дверь.
– Вам не стоит здесь задерживаться. Вас могут отругать за излишнюю галантность.
– Уволить, скорее, – мягко заметил он. – Но, полагаю, это был бы достойный повод.
Она чуть усмехнулась. И сказала почти шепотом, без смеха, без игры:
– Ваше имя?
– Робин, мэм.
– Я запомню. Я не забываю тех, кто говорит с достоинством.
Он слегка поклонился, как джентльмен, воспитанный на тех книгах, которые никто больше не перечитывает.
– Благодарю, мэм. И… спокойного вам вечера.
– Спокойствие – понятие относительное, – сказала она, и снова взяла сигарету.
Он понял, что это – прощание. И ушёл. Тихо, как пришёл. А она, оставшись одна, закурила – с той неспешностью, в которой было не удовольствие, а способ не чувствовать.
Они не стали близки – не сразу. Просто появились разговоры, как будто воздух между ними начал давать трещины. Вивьен продолжала приходить по четвергам. Сидела за своим столом, как всегда, с коньяком, сигаретой и тем выражением лица, которое не предполагало интереса. Но когда Робин оказывался рядом – ей не нужно было менять выражение. Он был тем, кто не требовал перемен. Он просто был. Один из вечеров. Всё как обычно – ресторан почти пуст, мягкий свет, чуть слышный гул разговоров за дальними столами. Он появился в зале под предлогом замены ваз с орхидеями. Подошёл к её столику. Остановился, когда уже собирался пройти мимо.
– Мэм, не сочтите за вмешательство… Вы читаете газету или смотрите в неё?
Она не подняла глаз.
– Разве вы видите разницу?
– Иногда да. Особенно когда смотрит тот, кто думает, что не смотрит.
– Интересное наблюдение для… уборщика.
Он улыбнулся.
– Привилегия быть незамеченным, мэм. Я вижу многое.
Она медленно подняла взгляд, прищурилась.
– И что вы видите во мне, раз уж вы такой наблюдательный?
Он не растерялся.
– Женщину, которой наскучили ответы. И потому она предпочитает вопросы, на которые нельзя ответить сразу.
Она сделала глоток. Движение было изящным, как у балерины, вставшей на носок.
– Вы много думаете для того, кто моет полы.
– Думаю, потому что не спрашиваю. А не спрашиваю – потому что боюсь ответов. Особенно ваших.
Она чуть кивнула, почти утвердительно. В её глазах было одобрение – не как комплимент, а как признание того, что он достоин продолжить говорить.
– Вы всегда говорите такими словами, Робин?
– Только с вами, мэм.
Она приподняла бровь.
– Это должно меня польстить?
– Это должно вас насторожить.
Она усмехнулась. Улыбка вышла медленной, почти ленивой, но не пустой.
– Я уже насторожена. Всегда. И во всём.
Он кивнул.
– Я чувствую это. Вы – как острый край бокала. Красивы. И опасны, если дотронуться не теми руками.
Она не ответила. Только закурила новую сигарету, чуть прищурившись от огня. Несколько секунд молчания.
– Вы боитесь меня, Робин?
Он посмотрел на неё – впервые по- настоящему прямо.
– Да, мэм.
– И всё равно говорите?
– Потому что бояться – не значит молчать.
Она сделала затяжку. Откинулась на спинку кресла.
– Хороший ответ.
– Я старался.
– Не старайтесь. Это утомляет.
– Тогда я просто… останусь рядом. Если вы позволите.
Она долго смотрела на него. Не пронзительно. Просто… видела. Сканировала. Взвешивала. Потом кивнула. Почти незаметно.
– Только не становитесь привычкой.
Он кивнул тоже.
– Я умею быть тенью, мэм.
Она снова затянулась.
– Надеюсь, хорошей.
Всё происходило не сразу. Они продолжали встречаться, разговаривать понемногу – по четвергам, наедине, под покровом ламп и затухающего вечера. Он больше не робел, но не позволял себе лишнего. Она слушала его – не как человека, которому доверяют, а как голос, который интересно различать в шуме привычного мира. В один из вечеров, когда зал уже почти опустел, и официанты начали гасить дальние лампы, Робин подошёл ближе обычного. У неё закончился табак. Он увидел это, не спрашивая. Просто вышел из- за стойки, приблизился и положил на край её стола портсигар – потёртый, чуть изогнутый, старый.
– Позвольте, мэм. У меня осталась одна хорошая.
Она чуть приподняла бровь.
– Благородство – не ваша профессия, Робин.
Он улыбнулся.
– В вашем присутствии, мэм, всё звучит неуместно. Даже вежливость.
Она взяла сигарету, и в этот момент их пальцы соприкоснулись. Неосознанно. Он не успел отдёрнуть руку. Она – не убрала свою. Мгновение. Короткое, как звук падения капли на мрамор. Но оно осталась – в ней. В нём. В пространстве между. Он отдёрнул ладонь.
– Простите, мэм.
Она не ответила сразу. Вставила сигарету в держатель, зажгла, сделала затяжку.
– Всё в порядке. Но не повторяйте. Контакт – вещь хрупкая. Особенно если он… не разрешён.
Он кивнул.
– Понимаю, мэм.
И ушёл. Она смотрела ему вслед, не выдыхая дым. Взгляд был пустой. Почти. Но в глубине выросла тонкая трещина. Она была не против. И именно это – пугало больше всего.
Следующим утром Вивьен вышла из особняка в черном пальто, со стальным выражением лица и хрупкой заколкой в волосах. Сегодня был день дела. И её глаза, ещё вчера мягкие, стали такими, какими их знали в подпольных кабинетах, за занавешенными дверями и в сыром подвале старого магазина на окраине. Теперь она – не женщина, которой подают коньяк в бокале и позволяют курить у окна. Теперь она – лицо сделки. И чья- то жизнь сегодня закончится в зависимости от того, улыбнётся ли она в нужный момент. Сделка назначена на шесть вечера. Место – склад в доках, кирпичное здание с выбитыми окнами и новыми решётками. Снаружи пахло солью, углём и гниющей древесиной. Старая гавань. Грузовые машины стояли в отдалении, как молчаливые свидетели. Возле входа курили трое мужчин в пальто: один с повязкой на руке, другой – с тростью, третий – с глазами, в которых читалась статистика смертей. Ни один не заговорил, когда Вивьен подошла. На ней было чёрное пальто с высоким воротником, закрывавшим шею. Под ним – тёмный костюм: узкие брюки, жилет с серебряной цепочкой, белоснежная рубашка без украшений. Волосы – убраны высоко, но не туго. Заколка – сдержанная, из чёрного металла, как напоминание. На ногтях – холодный лак, цвета мокрого асфальта. Лицо – без румянца. Губы – не накрашены. Только взгляд. Тот самый. С которым сдаются даже стены. Внутри – всё было готово. Слева: их люди. Справа: другие. Посередине – стол. Деревянный. Пыльный. На нём – три ящика, бумага, портфель. В углу – охрана. Молчаливая. Без вопросов. Один из них подал ей сигарету. Она взяла. Не поблагодарила. Только кивнула. Закурила. Появился главный. Чужой. Представился фамилией. Без имени.
– Мисс Холлоуэй. Рад видеть вас лично.
– Радость – вещь скоротечная, – ответила она и сделала затяжку. – Покажите товар.
Он жестом приказал открыть ящик. Там – опиум. Сырые блоки, запечатанные, промаркированные как табак. Вивьен наклонилась, провела ногтем по упаковке. Поднесла ближе. Запах – знакомый. Тяжёлый. Липкий.
– Проверено? – бросила она.
– Трижды, мэм, – ответил её помощник.
– Хорошо.
– А деньги? – спросил тот, что, с другой стороны.
Она кивнула телохранителю. Тот открыл портфель. Банкноты. Свежие. Запах краски.
– Считайте.
Пока тот проверял, Вивьен выдохнула дым. Он поднялся, как завеса. Никто не двигался. Только слышался шелест купюр и глухой стук пальцев по ящику. В комнате пахло металлом, табаком и ожиданием.
– Всё верно, – произнёс человек с портфелем.
– Тогда… – начала Вивьен. И вдруг резко: – Где Баркли?
Наступила пауза.
– Он не пришёл, мэм, – ответил мужчина с повязкой. – У него… проблемы.
– У всех есть проблемы, – спокойно отозвалась она. – Но мои люди не исчезают.
– Его жена…
– Меня не интересуют жёны.
Она подошла ближе.
– Передайте ему: у него ровно сутки. После – я решу, что он выбыл. Навсегда.
Все кивнули. Не в знак согласия. В знак страха. Она сделала последний глоток из бокала, который стоял на ящике, допила до дна. Поставила.
– Сделка завершена.
– И снова безупречно, мэм, – проговорил кто- то.
Она бросила взгляд. Не ответила. Повернулась. Ушла первой. Каблуки тихо стучали по бетону. Снаружи – ночь. Свет фонарей рвал туман, как лезвие бумагу. Она вышла, не обернувшись. Телохранитель открыл перед ней дверцу машины. Вивьен села. Закрыла за собой. Молча. И только потом, в полутьме салона, закурила новую сигарету. Глубоко. До самого дна.
На следующий вечер она появилась, как всегда. Тот же час, тот же столик. Тот же запах духов – терпкий, с примесью кожи и сухого жасмина. Коньяк уже стоял. Сигареты – в портсигаре. Лёгкий туман за окнами. Фонарь слегка дрожал на ветру, отбрасывая бликующее пятно на скатерть. Но в ней было что- то другое. Не в одежде – всё то же. Не в походке – такая же прямая. Не в выражении лица – оно всегда было безукоризненным.
Разница была в воздухе вокруг неё. Он стал холоднее. Робин увидел её сразу, как только вышел из- за стойки. Он не подошёл – сначала просто наблюдал. Раньше её движения были как у хищницы – точные, острые, сдержанные. Сейчас – как у хищницы после трапезы. Уставшие. Уверенные. Опасные. Она курила с самого начала. Коньяк пила медленно, но с другим ритмом – не для вкуса, а чтобы затопить что- то внутри. Не давала взгляду ни единого повода остаться – он скользил по залу, как лезвие по стеклу. Когда он подошёл, она даже не посмотрела.
– Добрый вечер, мэм, – сказал он, тихо, почти с почтением.
– Добрый вечер, – отозвалась она, не глядя.
Он замолчал, будто ждал, что она скажет что- то ещё. Она не сказала.
– Сегодня вы… иная, – произнёс он спустя паузу.
– Я всегда разная, Робин. Просто иногда – больше, чем обычно.
Он чуть наклонился, будто хотел заглянуть в неё глубже. Но не решился.
– Если я могу чем- то облегчить ваш вечер – скажите.
Она повернула к нему лицо. В глазах – пустота. Но не бессмысленная. Холодная. Как у человека, который знает, что сделал то, от чего уже не отмыться.
– Сегодня, Робин, мне не нужно облегчение. Мне нужно – молчание.
Он понял. Кивнул.
– Тогда я просто… рядом, мэм. На всякий случай.
– Надеюсь, он не наступит.
Он не ушёл. Просто остался неподалёку – убирая вазу, переставляя чашку, вытирая то, чего не было. Он делал всё, чтобы быть рядом, не быть навязчивым. Она – не смотрела. Но знала, что он рядом. И это… чуть- чуть согревало.
Вечер был дождливый. За окнами – улицы в каплях, блестящие, как старая ртуть. Зал – полупустой. Официанты двигались медленно, уставшие, как актёры в пьесе, которую играют в пятый раз подряд. Вивьен сидела у своего стола, как всегда. Коньяк. Сигарета. Бокал отражал тусклый свет, как лужа в переулке. Всё было привычным. Слишком. Робин долго стоял за барной стойкой, глядя на неё. Потом – впервые – снял фартук. Оставил его на крючке. Подошёл. И сел. За соседний стол. Не напротив. Не рядом. Чуть в сторону. Ровно настолько, чтобы не нарушить пространство. Но быть в нём. Она посмотрела. Не удивлённо. Не холодно. Просто – посмотрела.
– Новый ритуал? – спросила она, делая глоток.
– Возможно, мэм. Или, может, старая смелость, нашедшая себе вечер.
– Удобно устроились.
– Я долго стоял. Устал.
– И решили сесть – именно рядом со мной.
– А где ещё, если не рядом с тем, чья тишина кажется родной?
Она сделала затяжку. Выдохнула. Смотрела в сторону. Но в голосе уже не было иронии.
– Опасно говорить такие вещи. Люди могут подумать, что вы меня знаете.
– А вы – можете подумать, что мне всё равно, что думают люди.
– Вам не всё равно. Это видно.
– Верно. Но только тогда, когда речь идёт о вас.
Она помолчала. Затем повернулась к нему чуть ближе.
– Что вы хотите, Робин?
Он посмотрел на неё. Внимательно. Спокойно.
– Ничего. Кроме того, чтобы быть в этом моменте. С вами. Не рядом. Не, напротив. Просто… внутри.
Она усмехнулась. Тихо.
– Вы начинаете звучать, как человек, которому не всё равно.
– Это так.
– Это опасно.
Он кивнул.
– Возможно. Но, мэм… если всё равно – то жить становится бессмысленно.
Она сделала глоток. Медленный. И вдруг сказала:
– Я привыкла к бессмысленности.
Он не ответил сразу. Только взял свою чашку – ему принесли кофе – и медленно сделал глоток.
– Тогда, может быть, я просто посижу с вами… Пока вы не разуверитесь в этом.
Она не улыбнулась. Но её плечи чуть опустились. Рука легко скользнула по бокалу.
– Хорошо, Робин. Но запомните: я не тот человек, с которым остаются.
– Возможно, мэм. Но я – не тот, кто уходит.
Они замолчали. Долго. И в этой тишине – не было напряжения. Только присутствие.
Сделка была назначена на поздний вечер. Старое промышленное здание за пределами города, бывшая мастерская, где-когда- то собирали паровые прессы. Сейчас – склад. Внутри – ящики. На ящиках – номера, выжженные, будто шрамы. Товар – драгоценности. Нечистые, нелегальные, с историей и кровью. Тех, кто их привёз, это не волновало. Вивьен – тоже. Её интересовал только контроль. Она прибыла в чёрной машине, одна. Охрана – за отдельным автомобилем, без имен, без слов. Вивьен вышла первая. В пальто с мехом, с перчатками, с лицом, которое не допускало вопросов. Волосы – собраны, как всегда. Взгляд – вымерен. Сигарета – уже горела, когда она ступила на гравий. Её ждали.
– Мисс Холлоуэй, – сказал главный из другой стороны, пожилой мужчина в шляпе. – Надеюсь, без недоразумений.
– Недоразумения – это роскошь, которую вы не можете себе позволить, – спокойно ответила она.
Они вошли внутрь. Осмотр. Подписи. Обмен.
Её руки не дрожали. Даже тогда, когда один из молодых помощников с той стороны – глупец, с лихим блеском в глазах – попытался шутить. Она только посмотрела на него. Один взгляд. И тот замолчал. Надолго. Сделка завершилась без стрельбы. Это было почти скучно. И это – было тревожным.
Дом встретил её тишиной. Не торжественной, не уютной – той, что гудит в ушах, как ветер в длинных коридорах. В прихожей – ровный свет ламп под матовыми абажурами. На столике – свежий коньяк в графине, письма, аккуратно разложенные, как предательство, сделанное с уважением. Дворецкий склонил голову.
– Добрый вечер, мисс Холлоуэй.
– Всё готово?
– Да, мэм. Вода набирается. Камин в вашей комнате разожжён.
Она не сняла пальто. Прошла мимо. Каблуки отстукивали по мрамору ритм, в котором не было чувств. На лестнице – портреты. Генри смотрел с высоты, как молчаливый приговор. На втором этаже её уже ждала тёплая ванна – старая, с эмалью, в золотых ножках. Пар поднимался от воды, как дыхание времени. На вешалке – халат. На столике – стеклянная пепельница, два тонких полотенца, и флакон с маслом, запах которого она не чувствовала уже год. Вивьен вошла. Сняла перчатки. Аккуратно. Затем пальто. Расстегнула пуговицы блузы. Сняла кольцо с безымянного пальца. Положила в лоток. Осторожно, как оружие. Разделась. Медленно. Не глядя в зеркало. Села в ванну. Вода покрыла плечи, подступила к шее. Тепло разлилось по телу – но не внутрь. Она закрыла глаза. Окунула лицо. Молча. Когда вода остыла, она поднялась. Кожа покрылась гусиной кожей. Волосы влажными прядями прилипли к вискам. Протянула руку к полотенцу. Обернулась. На полу – ровная капля. Как след. Как напоминание. В коридоре уже ждал слуга.
– Мэм, вам подать что- нибудь?
– Нет. Всё. Уходите. Отдохните.
– Благодарю, мэм. Доброй ночи.
– И вам.
Она шла в комнату босиком. Пол был тёплый, ковёр глушил шаги. Камин потрескивал. На столике – графин и бокал. Коньяк, как всегда. Как у него. Как тогда. Закрыла дверь. Повернула ключ. Села на край кровати. Халат скользнул по плечам. Взяла бокал. Налила себе – медленно, без дрожи. Сделала глоток. Горло не дернулось. Просто проглотила. Долго смотрела вперёд. На пустую стену. На пламя. На отсутствие всего.
– Если бы он знал, кто я… – сказала она в тишину. Голос был ровным. Почти усталым. – Остался бы?
Ответа не было. Только тишина – глубокая, как колодец, в который кричишь и слышишь не эхо, а собственное дыхание.
– Или ушёл бы, как все остальные… – продолжила она.
– Может, это и лучше. Может, он нужен мне только потому, что не знает.
– Потому что смотрит… не так. Не как подчинённый. Не как враг.
– Как человек.
– А я не человек. Я… то, что от него осталось.
Она поднялась. Медленно расстегнула халат. Осталась в сорочке. Легла. Одеяло холодило кожу. Слишком много пространства. Закурила. Последнюю. Дым поднимался к потолку. Сигарета дрожала в пальцах. Глаза начали закрываться. Сон пришёл не сразу. Сначала – полутьма. Потом – сны.
…Дождь. Тонкий, моросящий, как сажа на коже. Они были в доках – на складе, с пробитыми окнами и мокрым полом. Вивьен была маленькой. Лет двенадцать. Пальто великовато, капюшон сбился. Генри держал её за руку – крепко, но не грубо. Он не думал, что она помнит. Не думал, что это останется.
Он сказал:
– Стой здесь.
Она кивнула. Он подошёл вперёд. Там были двое. Один – молчал. Второй – говорил. Резко, грубо, на повышенных тонах. Что- то про долг. Про предательство. Про последнее предупреждение. Вивьен стояла в темноте, у стены. Видела, как отец смотрит на них. Как молчит. Как курит. Как держит руку в кармане пальто. И вдруг – выстрел. Один. Глухой, как удар дверью. Мужчина упал. Второй – не шелохнулся. Генри сказал:
– Ты знал.
Вивьен не закричала. Только сделала шаг назад. И наткнулась на холодную стену. Пачка пыли и паутины осыпалась ей на волосы. Она не понимала, что именно случилось. Но знала: это навсегда. Генри подошёл. Гладил её по плечу.
– Всё хорошо. Ты – со мной.
Она посмотрела на него. В его глазах не было злости. Не было ужаса. Только – необходимость. Холодная, как металл.
И в этом сне – всё было, как тогда. Только теперь… тело на полу было с лицом Робина. И она стояла, и не могла сделать ни шага. Потому что знала – это она привела его сюда. В этот мир.
– Ты же обещала, – шептал он. – Ты же… не такая.
Проснулась резко. Пульс в горле. Руки дрожали. На лбу – холодный пот. Сердце стучало, как пули в тишине. Она села. Взяла бокал. Он был пуст.
– Господи… – прошептала.
Но имя Божье не спасло. Только ещё раз напомнило – где она была. И кем стала. Это было не что- то новое. Эти сны посещали ее каждую ночь, только они заставляли её знать, что она ещё жива. Но с Робином… Когда он рядом… Это ощущение приходит иначе.
Утро не наступило – оно просочилось сквозь туман, как чужое присутствие, которое не спрашивает, можно ли войти. Свет за окном был серым, размытым, как будто сам город ещё не решил, хочет ли жить дальше. Комната дышала холодом от камина, что давно погас. На простынях – вмятины сна и капли пота, выдавшие тревогу ночи. Она лежала на спине, открыв глаза, но не двигаясь. Несколько секунд смотрела в потолок, как будто ждала, что он заговорит первым. Потом медленно села, провела рукой по лбу. Кожа – влажная, пряди волос прилипли к вискам. Она встала. Молча. Без звука. Прошла к столику. Взяла сигарету из портсигара. Поднесла к губам. Щелчок. Огонь зажигалки дрогнул, отразился в её глазах и тут же исчез. Первый вдох – глубокий, будто кислород не мог заменить дыма. Второй – медленный. Дым поднялся к потолку, как молитва, сказанная не вслух. Она стояла у окна в сорочке, босиком, глядя на Лондон – он был сер, затянут, равнодушен. Ни один прохожий не поднял головы. И в этом было что- то… правильное.
– Уильям, – сухо, в сторону двери. Голос был ровный, без капли усталости. Через мгновение дверь приоткрылась. Прислуга уже ждала за ней.
– Да, мэм?
– Мой костюм. Пальто. Рубашка. Всё как обычно. Погладить. Пальто – щёткой. Через двадцать минут. И приготовьте мне ванну. Не кипяток.
– Разумеется, мэм.
Он поклонился и исчез. Дверь снова закрылась. Она стояла, докуривая, в полном молчании. Лишь шелест пепла в пепельнице говорил, что время ещё движется. Ванная была почти готова. Пар уже сочился из- под приоткрытой двери. Она вошла – медленно, как в чужую территорию. Кафель был тёплым. Воздух пах солью, лавандой и чем- то терпким – маслом, которое добавили по привычке. Вода – чуть мутная, как будто память о чьих- то прикосновениях уже жила в ней. Она сняла сорочку, аккуратно сложила на край банкетки. Не смотрела в зеркало. Оно не было ей нужно. Села в воду. Медленно. Вода сомкнулась над коленями, коснулась груди, охватила плечи. Вздох – только один. Потом – тишина. Она лежала, запрокинув голову, смотрела в потолок. Не человек. Фигура. Механизм, который включается только на деле.
– Мэм? – голос за дверью, с лёгким стуком. – Всё готово. Можно войти?
– Войдите.
Он зашёл, не глядя в её сторону. Повесил костюм на крючок, разложил рубашку, аккуратно положил платок и перчатки рядом. Щётка для обуви – рядом. Туфли – вычищены до блеска. Он вышел. Она вышла из ванной спустя пару минут, обернувшись в полотенце. Волосы – влажные, стекающие по лопаткам, как струи ночи. Комната была наполнена полумраком: свет проникал сквозь шторы, но не освещал, а рассыпался, будто боялся ослепить то, что должно остаться скрытым. Она подошла к трюмо. Села. Медленно. Как в театр. Перед ней – всё, что нужно. Маленькие баночки, кисти, флаконы, зеркало, в которое нельзя заглядывать просто так. В него смотрят, когда собираются стать кем- то другим. Сначала – тон. Бледный. Почти меловой. Кожа стала фарфором. Без румянца. Без жизни. Как будто дышать – необязательная роскошь. Затем – чёрная подводка. Тонкая линия вдоль ресниц, вытянутая к виску. Не стрелка – лезвие. Взгляд стал точным, выверенным. Серые тени – лёгкие, как пепел. Они не блистали. Они лежали, как тень прошлого. Затем – губы. Тёмно- винная помада. Цвет засохшей крови. Цвет запретного желания. Цвет, который не говорит «целуй», а говорит: «не смей». Она долго смотрела на своё отражение. Не влюблённо. Не с осуждением. Просто – смотрела. Как на решение. Как на факт. Как на имя, вырезанное на табличке у двери, в которую никто не входит дважды. После этого – одежда. Белая рубашка, гладкая, как нож. Чёрный жилет, подчёркивающий грудную клетку, где давно не живёт тревога. Брюки – прямые, строгие. Каждое движение в них – как шаг в шахматной партии, где все фигуры уже мертвы. Перчатки – чёрные, кожа – тонкая, мягкая, как вторая кожа. Пальто – строгое, графитовое, с высоким воротником, словно забрало. Волосы – собраны в пучок. Ни одной пряди – всё под контролем. Она подошла к двери. Остановилась. На выходе – графин с коньяком. Она прошла мимо. Даже не взглянула. Сегодня – не нужно. У входа её ждала машина. Телохранитель – тот же, всё так же без имени, в тёмном пальто и с лицом, которое не задаёт вопросов.