Пути веры бесплатное чтение
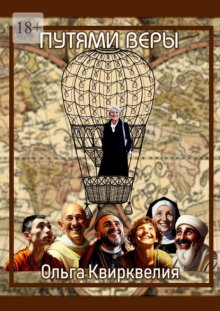
© Ольга Квирквелия, 2025
ISBN 978-5-0067-0246-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Ольга Квирквелия
Пути веры
Паломничество: из смерти в жизнь?
Признаемся: паломничество – очень странное занятие. Человек, преодолевая различные препятствия, зачастую пешком и впроголодь, стремится в какое-то, как правило, удаленное место для того, чтобы, проведя там несколько часов, удовлетворенно отправиться назад. Зачем? Куда? Почему?
Самое простое определение паломничества – путешествие к святым местам по религиозным соображениям. Люди надеются получить утешение, исцеление души или тела – своих или своих близких, – добиться исполнения заветного желания или прощения тяжкого греха. Но часто паломником движет более высокое чувство – благодарения, благоговения, стремления достичь духовного совершенства.
Паломничества свойственны практически всем религиям. Иудеи поклоняются Иерусалиму, городу, священному и для христиан. Но особым почтением пользуется Стена плача – днем и ночью здесь раздаются скорбные голоса иудеев, оплакивающих былую славу своего Храма.
Мусульмане посещают – в обязательном порядке! – Мекку, город, где родился Мухаммед, и Медину, где он похоронен. В Мекке верующие должны семь раз обойти вокруг Каабы – главного святилища – против часовой стрелки, прикоснуться к черному камню в одном из ее углов и поцеловать его. При этом одевается специальная одежда, которую потом используют как погребальный саван.
Сикхи хоть раз в жизни обязаны посетить Золотой храм в Амритсаре, где хранится самый древний список священной книги Гуру Грант Сагиб. Но специальных ритуалов поклонения ему нет.
Индуисты в течение одного месяца в году посещают священную пещеру в отрогах Гималаев, которая почитается как святилище Шивы: в глубине ее каждый год образуется особый вид сталагмита высотой около 2 м в виде фаллоса – символа особого могущества бога. Если сталагмит «вырастает» большой, можно ждать хорошего года, если маленький – Шива сердится на то, что в мире стало слишком много зла. К святилищам Шивы паломничества зачастую совершаются на коленях или перекатываясь, или таща за собой бревно – различными способами умерщвления плоти. В самих святилищах символ Шивы украшается цветами и смазывается душистыми маслами, перед ним поют и танцуют.
Буддисты не совершают массовых паломничеств, но отправляются в индивидуальные путешествия с целью достичь духовного совершенства. Пилигримы, направляющиеся к буддийским святыням, так рассчитывают время, чтобы попасть туда в один из четырех важнейших дней месяца, когда начинается очередная фаза луны – лучше всего полнолуние. В святом месте оставляют цветы, благовония, в остальном же каждый паломник делает то, что ему больше по душе – читает священные тексты, повторяет заповеди.
Ни в конфуцианстве, ни в даосизме специально организованных паломничеств нет. Но в индивидуальном порядке верующие совершают небольшие путешествия по красивым местам – на вершину горы или к истоку реки. И это не туризм, а религиозный обряд хвалы Творцу.
Японский синтоизм – или Путь богов – тоже требует поклонения природе и ее духам. Святилища последних отмечены специальными воротами – тории, проходя через которые, верующие приносят дары, совершают обряды очищения, заключают браки или сжигают покойного.
Но, конечно, самое большое место занимают паломничества в христианстве. Кроме мест, связанных с жизнью Христа или хранящих Его реликвии, более двух третей европейских святилищ посвящены Богоматери. Некоторые из них хранят ее реликвии – дом, в котором она жила в Назарете, ее туника, пояса, перо из крыла архангела Гавриила, платок Марии, локон ее волос и т. д. Множество мест связано с почитанием чудотворных образов Богоматери – как икон, так и статуй. Они известны либо чудесами, совершенными по молитве перед ними, либо чудесными появлениями перед людьми. Но, пожалуй, самые массовые паломничества совершаются к местам явлений Девы Марии – в Лурд, Фатиму, Межугорье.
Еще более многочисленными являются святыни, связанные с апостолами, мучениками и чудотворцами. Любопытно, что это, в основном, могилы. Практически все храмы изначально были усыпальницами святых. Условно говоря, паломничество ведет к смерти, но не к любой, а к той, которая есть начало новой жизни. «Кто не умрет, не обретет жизни вечной». И тогда паломничество – это символ нашего земного существования: через трудности и лишения к последнему пристанищу, за которым открываются врата рая.
Обряды почитания христианских святынь разнообразны, каждое место имеет свой ритуал. Но в основе всех них лежит три момента – покаяние, очищение от греха (исповедь), вознесение хвалы, молитва – просьба.
Итак, паломничества есть практически в любой религии, а местами поклонения могут быть и храмы, и святилища, и просто уголки природы. Чем же паломничество отличается от туризма? Ведь в ходе последнего мы тоже посещаем храмы и религиозные «достопримечательности» и любуемся пейзажами. Конечно, основное различие – в цели, но не только. Паломничество, как правило, требует той или иной степени аскезы – пост в течение всего пути к святыни, большие пешие переходы (а иногда и на коленях). Практически исключены мирские развлечения. Молитвы, религиозные гимны, богослужения – основное времяпрепровождение. Можно сказать, что паломничество определяется не местом и даже не целью, а состоянием души.
Но кто же участвует в поклонении святыням? В конце XIV в. Джеффри Чосер описал участников паломничества. Среди них были Рыцарь со своим сыном Сквайром, Мельник, Мажордом, Монах, Пристав, Повар, Батская ткачиха, Студент,, Купец, Юрист, Доктор медицины, Продавец папских индульгенций, Аббатиса и многие другие. То есть практически все слои общества. Поскольку произведение Чосера – сатира, все его персонажи – люди неприятные, но важно другое: в паломничество отправляются далеко не только святые. То же самое происходит и сегодня, каждый ищет свою «выгоду». Более того, иногда этой «выгодой» становится просто возможность отключиться от повседневности и дать место чему-то иному в своей жизни, Тому, о котором нам просто некогда вспомнить.
И все же… Ведь Бог вездесущ, зачем куда-то идти, чтобы встретиться с Ним? Возможно, вариант ответа можно найти в паломничествах некоторых языческих племен. Аборигены Австралии совершают Путь Грез. Но так они называют саму жизнь. Они живут, переходя от одного священного места к другому, одним и тем же маршрутом, повторяющимся из года в год. За один цикл племя проходит тысячи километров. Именно у них идея того, что паломничество – символ земного пути, – приобретает полноту смысла. Жизнь бушменов в пустыне Калахари построена по тому же принципу. У племени маори из Новой Зеландии распространены ритуальные плавания на каноэ, из которых мальчики возвращаются мужчинами. Да и археологически известны племена и народности, которые всю свою историю куда-то идут, пока не теряются, или не растворяются на лице земли. И речь не идет о кочевниках или «вынужденных переселенцах» – людей гонит к неведомой нам цели отнюдь не экономический расчет.
Когда какое-то явление в истории обладает столь яркой повторяемостью в пространстве и времени, за ним наверняка кроется некая исходная, сущностная для человека и человечества, врожденная, если хотите, причина. Суть ее вербализовать непросто. И, может быть, ради этого люди и двигаются в путь, узнать, зачем они живут и какова цель их земного странствия.
Но сегодня, в наш прагматичный век, есть и другие виды путешествий, которые можно считать паломничествами: с целью узнать и понять что-то новое (по правде – забытое) о вере, о церкви, о ее истории. А иногда целью было совсем иное, но в пути произошло нечто такое, что сделало путешествие паломничеством…
В этом сборнике я не буду педантичной, включу все то, что имело некую духовную составляющую…
КАК Я НЕ СТАЛА МОНАХИНЕЙ
В детстве я была серьезно больна. Отец нас бросил, когда мне было три года, мама вынуждена была пойти работать, и я целыми днями оставалась дома одна. Но не совсем. Был еще кто-то со мной: рассказывал мне всякие истории, позже помогал учиться читать и считать (мама, чтобы мне было чем заняться, очень рано научила меня читать, сначала по-русски, потом по-английски, потом она перешла к математике). Мы вместе шутили и смеялись, иногда он меня ругал, например, за то, что я выкинула обед, оставленный мне мамой на балкон, но не зло, а укоризненно. Он был моим практически единственным другом. Лет в 10 я решила покончить жизнь самоубийством: я мечтала стать археологом, но с моим больным сердцем это было нереально. Я включила газ и села ждать смерти, но соседка учуяла запах, ворвалась в квартиру и спасла меня. Я плакала, а Он стоял в углу и мрачно смотрел на меня.
«Понимаешь, я никогда не стану археологом! Я всю жизнь буду сидеть одна в этой дурацкой квартире! Кому нужна такая жизнь?» – кричала я Ему.
«Прекрати! Я приготовил тебе замечательную жизнь, а ты чуть все не испортила! Дай мне слово, что больше никогда – НИКОГДА – так не сделаешь!»
«Я хочу быть археологом!»
«Будешь, даю слово».
Через год, на обследовании перед уже назначенной операцией, выяснилось, что мое сердце здорово, только на клапане остался маленький шрам. Об этом даже писали в медицинском журнале. Я начала ходить в археологический кружок.
Позже, уже в 12 лет, мне попалось в руки Евангелие, и там я обнаружила те истории, которые Он мне рассказывал. Я спросила, как же так, и Он ответил:
«Да, это про одного из нас»…
А потом началась обычная жизнь: школа, друзья, кружки… Потом надо было готовиться к поступлению в университет… У меня было все меньше времени поговорить со своим Другом… А мне этого очень не хватало… Очень.
За год до окончания школы я поехала летом на раскопки. Поблизости оказался женский монастырь – Святой Ольги. «Это знак!» – решила я и пошла в него поступать (моя мать была атеисткой, а бабушка хронически боялась, что у меня будут проблемы, если она поведет меня в храм или научит молитвам). Пошла я, естественно, как была – в брюках и майке. Посидела немного на камне перед входом, попрощалась с миром и постучалась в двери. Мне открыла пожилая монахиня.
«Я хочу вступить в монастырь».
Монахиня внимательно меня осмотрела:
«А ты крещенная?»
«Нет, но ведь это недолго сделать, да?»
«А хоть одну молитву знаешь?»
«Нет, но я быстро выучу, у меня память хорошая! Пока вы готовите крещение, я уже выучу, вот увидите!»
«Нет, девочка, все надо делать по порядку. Ты же не можешь поступить в институт, не закончив школу. Возвращайся домой, пойди в храм, прими крещение, выучи молитвы, а потом возвращайся!» И она закрыла передо мной дверь.
Я была страшно зла и обижена.
«Ты не хочешь, чтобы я была с Тобой! Ты только делал вид, что Ты мой Друг! Ты меня прогнал!» – Кричала мысленно я Ему.
«Я тебя не прогонял. И я с тобой, как всегда. И как буду всегда.» Но я была безутешна. И поссорилась с Ним. Поступила в университет. Вышла замуж. Родила дочь. Развелась.
Но через шесть лет решила принять крещение – и все опять пошло не так: батюшка мне попался странный, даже вспоминать не хочется, в университете начали процедуру моего отчисления – истфак считается идеологическим, там такие выходки были недопустимы. Я сидела на заснеженной скамейке и плакала. Он сел рядом:
«Перестань, все будет хорошо, я же тебе обещал. Я рад, что ты вернулась.»
«А зачем Ты все это устроил?»
«Э, нет, это не Я устроил, это ты накуролесила! А слабо было совета спросить?»
«Ты от меня отказался!»
«Я всегда был рядом. Если подумаешь, то сама поймешь. И всегда буду рядом. Ты же знаешь, что я тебя люблю. Просто больше не ссорься со мной и хоть иногда находи для меня время»…
Все действительно устроилось. И Он действительно всегда рядом. Все хорошее в моей жизни мы делали вместе, все плохое (иногда случалось) – я одна. Он огорчался, но не отворачивался…
Я не знаю, как Его зовут, да и не очень хочу знать. Он – мой Друг и Друг всех людей, один для всех. Поэтому я расскажу о храмах разных религий, о поездках в разные святилища, и во всех я разговаривала с одним и тем же Другом…
господь держал вас в своих ладонях
Идея паломничества на Соловки родилась давно и логично в ходе сбора данных по новомученикам. «Надо бы, – говорила я себе, – надо бы…» Но однажды вечером, включив телевизор, случайно наткнулась на фильм о Соловках. На экране был светлый солнечный лес, в котором стоял крест. Голос за кадром объяснил, что именно у этого креста тайно служили мессу заключенные католические священники. Всю ночь меня донимали покаянные мысли: о заброшенном католиками одиноком кресте, о неотпетых наших братьях и сестрах, чьи имена мелькают безликими строками на страницах книг и экранах компьютеров. Доминирующим чувством было, наверное, желание придти и извиниться, сказать: «Вот и мы. Не обижайтесь, мы о вас помним, вот только жизнь у нас сумасшедшая, все некогда…» – и сделать, что надо. Я не очень-то представляла себе, что именно надо, но сделать что-то хотелось.
Все оказалось не совсем так: не говорил диктор этих слов, поскольку нет такого креста на Соловках, не лежали неотпетыми наши братья и сестры. Но главное все же осталось: чувство вины и чувство долга.
Вот с этими двумя чувствами мы и собрались в паломничество. Была середина сентября, и все пугали нас штормами и холодами, но я была убеждена: ничего на самом деле плохого с нами не случится – Господь знает, куда и зачем мы идем. И маршрут, и средства передвижения мы постарались выбрать «максимально приближенные к настоящим». И сам путь должен был совпадать с путем католических священников – Кремль на Центральном острове, где они изначально содержались, остров Анзер, куда их затем перевели, опять Центральный остров – Секирка, где содержали приговоренных к расстрелу, затем возвращение на материк, в урочище Сандормоха, где только за первую неделю ноября 1937 г. были расстреляны и захоронены 1111 соловецких узников и среди них наши братья и сестры по вере, 35 из которых мы знаем по именам.
В поезде мы оказались в день всенародного траура по погибшим в результате взрывов. Сначала сомневались, стоит ли молиться вслух, все-таки в вагоне мы были не одни. А потом решили – почему бы и нет? Чего нам стыдиться или бояться? Попутчики сочувственно прислушивались, а потом некоторые достали свои молитвенники и мысленно соединились с нами. И это было хорошо.
В Кемь мы прибыли после полуночи. Нас посадили в автобус и повезли во тьму – к причалу. Все были сосредоточены и серьезны – то ли так действовал путь в неизвестность, то ли все готовились к обещанным трудностям.
На причале нас ждали два катера, не очень похожих на морские лайнеры. Фермен, наш африканец, придававший вместе с двумя латиноамериканками изрядную экзотичность нашей группе в этих северных краях, сдавленно проговорил: «На этом не плавают, на этом тонут!» По-моему, почти все разделяли его мнение. Но вот все погрузились и расселись. Я вообще-то не умею плавать, да и в принципе предпочитаю передвигаться посуху. Поэтому в поисках моральной поддержки я заглянула в центральную каюту и натолкнулась на напряженные взгляды. Только Фермен, обхвативший сумку двумя руками и положивший на нее голову, не шевельнулся, готовясь, видимо, к неминуемой мученической смерти. Вздохнув, я спустилась в спальную каюту, где разместились женщины. Легла, мысленно перелистала скопившиеся грехи, прикидывая свои перспективы в случае гибели без исповеди, подумала, что надо бы кого-нибудь предупредить, чтобы нас не забыли в момент кораблекрушения и – уснула. Как и все остальные в каюте.
Центральный остров встретил нас все той же тьмой и буераками. Мы добрались до гостиницы к 5 часам утра и завалились спать, попытавшись запомнить, что в 11 часов завтрак. К завтраку все почти пришли в себя. Почти – потому что, когда Аня – организатор нашей жизни и пути на Соловках – сказала, что капитан катера предлагает плыть на Анзер сегодня, пока стоит хорошая погода, внутри что-то то ли булькнуло, то ли екнуло. Но перспектива плыть в плохую погоду радовала еще меньше, и мы покорно собрались.
Эти три часа лично мне показались прекрасными. Было немыслимо красиво, и Господь радовал нас Своими творениями – то высунется из воды тюлень, то разрезвится стайка медуз за кормой, то диковинный остров, похожий на летающую тарелку, зависнет на горизонте.
У острова выяснилось, что к берегу катер подойти не может – слишком мелко, – и нам придется пересаживаться в лодки, плыть до камней, а потом по ним добираться до суши. Прыгать с катера в лодку мне еще не приходилось и почему-то не хотелось. Но пришлось – и ничего страшного. Правда, как у Тигры из «Винни-Пуха» в голове вертелась шальная мысль: «А ведь залезать тоже придется»… Пока всех перевезли на лодках, пока все выбрались на сушу и собрались вместе, пришла пора подкрепиться. А подкрепившись, стали готовиться к восхождению на Голгофу. Голгофа – самая высокая точка Анзера, где был пункт распределения по командировкам (так назывались поселения узников) и штрафной изолятор. Именно сюда попадали сначала заключенные, перевезенные с Центрального острова. Юрий Бродский – автор книги о Соловках, сопровождавший нас в паломничестве – прочитал фрагменты воспоминаний об Анзере, и мы двинулись в путь. Шли с молитвами и литаниями, делая стояния Крестного пути. Перед самым выходом о. Стефано предложил, чтобы на них Ю. Бродский тоже читал фрагменты документов и воспоминаний. Времени на подготовку не было, поэтому Юрий шел впереди, показывая дорогу, и листал на ходу книгу. Но все подобралось абсолютно точно.
Да, совершенно непреднамеренно получилось так, что наше восхождение на Голгофу пришлось на праздник Крестовоздвиженья. И это было хорошо.
Дорога становилась все круче. Все меньше голосов подхватывало песни, и вот они смолкли совсем. И тут открылась она – Голгофа. Дул сильный ветер. Было зябко и сыро. Начали готовить мессу, установили свечи, даже не надеясь особо на то, что их удастся зажечь. Но как только вспыхнули огоньки, ветер стих и выглянуло солнце. Оно стояло в небе вплоть до пресуществления (а было уже 19.30), а потом мгновенно закатилось, и на нас упала тьма. Но свечи продолжали гореть. Было и еще одно: за нашими спинами – мирян, не священников, – в тех местах, где в мессе говорит народ, начинала шелестеть листвой рябинка. Пару листьев с нее мы привезли в Москву.
До командировки Троицкой, где сидели в заключении католические священники, нам добраться не удалось – это еще 9 км пешком, уже стемнело, да и плыть на Центральный предстояло еще 3,5 – 4 часа. Возвращаться на Анзер на следующий день тоже было нереально. И мы просто оставили себе зарубку на память – ведь еще вернемся…
Взбираться в темноте из лодки на катер оказалось не страшно – сила желания оказаться в тепле и выпить кофе, имеющееся в каюте, а также сильные руки наших мужчин просто возносили нас на борт. А потом был горячий кофе…
В гостиницу мы попали в 1 час ночи. А с утра отправились в Кремль – Соловецкий монастырь. Теперь здесь снова живут монахи, но их немного, и сил хватает только на то, чтобы освятить алтарные пространства в многочисленных храмах – посреди разрухи, разгрома. Следы СЛОНа – Соловецкого лагеря особого назначения – постепенно уничтожаются. Да уже практически уничтожены.
Мы почти случайно набрели на место, где томились в заключении католические священники в самый трудный для них период на Центральном, когда их поместили вместе с уголовниками в 13-ю роту. Это Савватиевский придел. Мы помолились. Потом пошли в музей. Мы шли вдоль стендов, заполненных фотографиями узников, и искали «своих». Татьяна Шумова нашла двух родственниц. Постояли мы и у портретов экзарха Федорова и Юлии Данзас. А больше никого не нашли. Когда я спросила у Ю. Бродского, почему, он ответил, что здесь музей, в котором должно быть интересно всем, а что мы знаем такого о «своих», что стоило бы рассказать другим? А я с горечью подумала: «А что мы вообще о них знаем, кроме имени, фамилии, места служения…» Может ли существовать почитание без знания?..
После обеда прошли к бывшему административному зданию, перед которым когда-то было решено вымостить площадь булыжниками, для доставки которых в телеги запрягли епископов всех конфессий, в том числе католика Болеслава Слоскана. Большинство епископов, понятно, были немолоды и не крепки здоровьем… Вообще на Соловках меня поражала бессмысленная жестокость. Ладно, ты считаешь этого человека непримиримым и опасным врагом – так просто расстреляй его, зачем же отнимать у безногого костыли и заставлять его ползти к месту расстрела? Ладно, надо вымостить площадь булыжниками – так запряги молодых и сильных, зачем же стариков? Чтобы запугать остальных? Но разве страх может сделать их друзьями советской власти? Или ей не нужны друзья, не нужны идейные сторонники, нужны только покорные рабы? По-видимому, так…
Вечером мы долго сидели у камина и обсуждали пережитое. Слава Богу, не мне одной стало стыдно за наше беспамятство. И мы наметили план действий, свой маршрут по дорогам родины и истории. Впереди – Южное Бутово и Левашовская пустошь, Владимирский централ и станция Шаниха в Нижегородской области,… Соловки – они были везде…
На следующий день мы должны были подняться на Секирку, самую высокую точку Центрального острова, где был расположен штрафной изолятор и куда переводили приговоренных к расстрелу, а в тот период, когда расстрелы не были еще массовыми – они не считались таковыми, если расстреливались 15 – 20 человек, – они там же и приводились в исполнение. Мы знали, что предстоит 12-тикилометровый переход по системе озер на лодках, но почему-то думали, что нас на них повезут. Но оказалось, что грести нам предстоит самим. Более того, догадаться, куда именно грести, тоже предстоит самостоятельно. (Ю. Бродский плыл, конечно, в одной из лодок, но на таком расстоянии ему не удавалось донести до нас свои указания). Нашей лодке повезло – в ней оказалась женщина, которая знала, за какое место держат весло, к тому же у нас нашлась карта, по которой можно было предположить, куда плыть. Поэтому мы шли первыми. Лодка, в которой плыл Ю. Бродский, шла последней, на случай, если придется кого-то подбирать. Лодка с францисканцами – о. Григорием и б. Николаем – смотрелась невероятно экзотично: печальная, закутанная в шаль Бьянка на носу, два удалых монаха на веслах и чернокожий Фермен на корме – то ли собираются бросать персидскую княжну за борт, то ли евангелизируют кого… И вообще, в 160 км от Полярного круга это зрелище поражало. Впрочем, лодка с о. Стефаном, тоже впечатляла – особенно, когда он правил ею, стоя на носу: еще бы песню спел – и чистая полярная Венеция! А может, и пел, но нам в другой лодке не было слышно… Когда через 4 часа мы увидели на берегу автобус!..
К подножию Секирки мы на нем и подъехали. Поднялись на вершину. Здесь стоит храм. В сталинское время он был разделен на два этажа, где и содержались узники. Перед храмом была выложена из булыжников звезда – сейчас от нее остался только холмик, – а за ней – край обрыва (теперь смотровая площадка). На краю этого обрыва ставили приговоренных, а от ворот храма, через звезду, стреляли. Наверное, это был символ того, что убивают не люди, убивает власть. Палачам думать так было легче… Мы помолились и в храме, и вокруг звезды – о расстрелянных и о стрелявших…
Попасть к Германовской часовне, где было разрешено служить мессу католикам, мы и не рассчитывали – знали, что она разрушена и затеряна в лесу. Но буквально к нашему приезду ее удалось найти, и вот – мы едем! От часовни действительно остались только фрагменты фундамента и каменная ступень входа. Вот на этом камне и призвал священников построить если не церковь, то хотя бы алтарь о. Григорий. Честно говоря, это был самый замечательный для меня момент во всем паломничестве, а может, и за долгие годы. Четверо священников (брат Николай, правда, пока только дьякон, но все же почти) – в основном не слишком молодых и не слишком здоровых – делали дело, ради которого избрали свой путь – строили Церковь. И они знали, как это делается. Почти молча, сосредоточенно, слаженно. И по-моему, они были не одни в этом своем труде – Кто-то нес вместе с ними огромные камни… Впрочем, я могла только любоваться со стороны и подкатывать камни и валуны поближе. А потом мы стали сооружать и устанавливать березовый крест. Валентина Васильевна разорвала на полоски носовой платок и мы связали стволы. Ева принесла на алтарь специально привезенную из Москвы икону. Юра Бродский, обычно отходивший в сторону во время наших молитв и месс, укрепил крестовину проволокой. Но главное происходило все же у них, у наших отцов… И вообще, это паломничество что-то надломило в моем антиклерикализме. Потом была месса. Как и все эти дни, стих ветер и вышло солнце. Я не помню другой такой мессы в своей жизни – вместе с Господом и Его святыми вокруг алтаря, созданного Им и нами всеми.
А ночью мы вновь погрузились на катер и покинули Соловки. Был абсолютный штиль, море спокойно поблескивало во тьме, а мимо катера проплывали стаи медуз, казавшиеся в свете прожектора синими звездами. Командир катера сказал: «Господь несет вас в Своих ладонях». И он был прав. Никогда еще не чувствовалось так отчетливо Его присутствие и Его благословение нашего пути.
В Кеми мы сели в автобус и через несколько часов оказались в Сандормохе. О расстрелах и захоронениях в этом урочище узнали случайно – заметили, что весной, когда сходит снег, становятся видны ямы – общие могилы. Над каждой ямой установлен памятный знак, и порой кажется, что в лесу этих знаков больше, чем деревьев. На небольшой поляне архитектор – автор мемориального комплекса – разместил православный и католический кресты и помост для верующих не-христианских религий. И опять стало стыдно – ведь мы давно знаем об этом месте, до него не так уж трудно добраться – ночь на поезде до станции Медвежья гора и полчаса на автобусе. Так почему мы здесь не бываем?!.
Отслужили заупокойную мессу, упомянув поименно всех 35 известных нам расстрелянных здесь наших братьев и сестер. И двинулись в обратный путь. Мне очень хотелось привезти из паломничества что-нибудь живое, и я выкопала кустик вереска. Правда, какой-то патруль отругал меня (вполне справедливо) и поинтересовался, неужели вереск не растет в Подмосковье.
«Нет, такой – нет,» – абсолютно искренне ответила я.
Теперь каждое утро я с надеждой и опаской смотрю на маленький кустик – приживется или нет.
А в поезде мы подсчитывали предстоящие дела: добраться все-таки до командировки Троицкой, собрать и передать материалы в музей, привести в порядок Германовскую часовню, сделать памятную доску в Сандормохе… А главное – помнить. Помнить!
В Москве было очень холодно и тревожно. За время нашего отсутствия прозвучали новые взрывы. Там, на наших Соловках, из крови и боли выросло чудо красоты и света. Там – золотые леса и причудливые лабиринты озер, там звезды медуз и любопытные тюлени. Там Господь и Его святые. Конечно, они есть везде, но неужели и здесь надо пролить море крови, пережить взрывы боли, чтобы это стало очевидным?..
ЧУДО СВЯТОГО ОНОФРИО
В Сульмону первый раз я попала почти случайно: мы с коллегами договорились встретиться на конференции в Анконе, но я освободилась на день раньше. Ехать сразу на море не хотелось – я предпочитаю горы, – поэтому, открыв карту, я поискала место, в котором еще не была. Выбор пал на Сульмону.
В городе бывал Леонардо да Винчи, о чем он сделал запись в своем дневнике, отметив, что там много прекрасного, что стоит увидеть. Ну, раз уж великому Леонардо понравилось…
Вообще этот небольшой городок действительно заслуживает внимания. Конечно, главную его славу составляет родившийся здесь Овидий – аббревиатура строки из его стихотворения входит даже в городской герб. Но и других достоинств у Sulmona много. Нельзя не заметить средневековый акведук, построенный в 1256 г. В городском музее истинное удовольствие доставят средневековые деревянные скульптуры. Но это все, так сказать, для души. А ведь Sulmona знаменита и услаждением желудка: здесь родина конфетте (есть и очень интересный музей, им посвященный). Пастухи, возвращаясь с пастбищ, приносили домой миндальные орехи, которые женщины покрывали разноцветной сахарной глазурью. Сегодня из таких конфет составляют цветы, бабочек и пчел. (кстати, конфЕтте по-итальянски именно такая сладость, шоколадные конфеты называются шоколатини, а вот «конфеттИ» напрямую связаны с конфеттами – тоже круглые и разноцветные).
Приехала я в Сульмону ярким солнечным утром. После мистичной Стиффе город показался мне ярким, праздничным и веселым. С каким-то даже недоумением я оглядывалась, стоя на центральной площади: ну да, храм, ну, акведук, ну, фонтан (гораздо менее загадочный, чем перуджийский) – отчего же мне так радостно? От букетов! От сотен букетов из конфетт, заполонивших площадь! Здесь были не только простенькие цветы из пяти лепестков, но газзании, розы, нарциссы и даже букетики перчиков. И как можно есть такую красоту? И вот, что любопытно: почему конфетты так тесно связаны именно с цветами? Даже на древней вывеске магазина этой сладости изображены цветы и листья…
Я накупила букетиков (один до сих пор живет в моем серванте) и села за столик перед баром, заказав чашечку эспрессо. На горе передо мной виднелось довольно большое здание.
«Что это?» – Поинтересовалась я у сидящего за соседним столиком старика.
«Скит святого Онофрия».
«Ничего себе скит!»
«Сам скит рядом, а в здании живут монахи Святого Духа, они же заботятся обо всей зоне»
«Надо подняться…»
Мужчина посмотрел на меня с сомнением: «В юбке и на каблуках?..»
Подойдя поближе к началу тропы, ведущей в гору, я действительно засомневалась. У подножья раскинулся монастырь Santo Spirito, за которым, собственно, и начинается горная каменистая тропа. Честно говоря, выглядит этот подъем слегка пугающим, но на самом деле он относительно легок, хотя в юбке и на каблуках его все же не одолеть: поверьте, я попробовала. Передо мной встал выбор: или сломать каблуки (а может, и ноги), или все же переодеться. Как у опытной бродяги у меня в рюкзачке были легкие спортивные туфли, и они мне очень пригодились. А вот юбку я оставила, пользуясь тем, что в жаркий полдень на тропе никого не было, так что даже если мне придется карабкаться по горе на четырех конечностях, это зрелище никого не поразит.
Следующие полчаса я вспоминала фразу «Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус»…
Как раз когда начала подкрадываться усталость и стало понятно, что носибельной юбки у меня уже нет (вернее, есть, но в виде живописной рванины в пятнах от травы и глины), равно как и блузы (она уцелела, но была так же ярко раскрашена) передо мной встало огромное святилище Геракла. Спрятавшись на всякий случай, я вытащила из рюкзачка тоненькие бриджи и переоделась. Запасной блузки не было…
Представляете: именно после этого подъем резко изменился. Лестницы, фонтан, мозаика с изображением дельфинов и – тенистые скамейки… Выше – скит отшельника Онофрио – того самого, который написал письмо к конклаву, – а прямо над ним – наскальные рисунки эпохи энеолита. Почти вся история региона отразилась на склоне этой горы…
Спускаясь в город, освещенный заходящим солнцем, я лениво размышляла: юбки больше нет, блузы тоже, бриджи пока целы, но… Мне же завтра читать доклад перед вполне серьезными людьми…
Дорожка перешла в узкую старинную улочку с магазинчиками. В витрине одного из них стоял манекен в женском народном костюме. Он состоял из пышной тяжелой юбки ниже колен красивого цвета, который чудесно называется – «бисмарк-фуриозо» – «разгневанный Бисмарк». Одно название чего стоит! Еще белый фартучек с кружевом, темно-желтый лиф в обтяжку, под ним – белая рубашка с широченными рукавами, завязывающимися желтыми лентами. Как я узнала, замужние женщины носят желтые ленты, а незамужние девушки — красные.
Цвет разгневанного Бисмарка привлекал меня невероятно! Мысль о том, что надо бы во что-то завтра одеться стимулировала. А что, если… Моя экстравагантность в одежде известна… Нет, ну без разгневанного Бисмарка я уехать не могу!
Зайдя в магазинчик, я удивила хозяйку (она же продавщица), потом посмотрела на мой хипповый наряд и улыбнулась:
«К Онофрию ходили?»
Я кивнула.
Вышла я в обновке на улицу (продавщица пыталась уговорить меня купить еще и головной убор – нечто вроде тюбетейки, а сверху квадратная косынка; она объясняла, что на такой «шляпке» очень удобно носить кувшин на голове. Но я искренне надеялась, что меня не ждет еще и это приключение) и вдруг почувствовала, что я изменилась: походка, осанка, посадка головы… И мне понравилась эта новая я.
…На конференции я произвела фурор. Местная делегация пришла в восторг, меня активно фотографировали (еще бы – московская журналистка в национальном костюме Абруццо) и осыпали комплиментами. Наши ребята переглядывались, а в перерыв помчались искать такой наряд для своих прекрасных дам. Но Аскона – современный город, там таких сокровищ нет.
Вот и очередное чудо святого Онофрио
Я ЗНАЮ, КАК ВЫГЛЯДИТ РАЙ
Я впервые попала в Армению в 2001 г., когда Армянская Апостольская Церковь праздновала свой юбилей. Ей тогда исполнилось 1700 лет. Не все знают, что Армения одной из первых приняла христианство как государственную религию – и одна из первых откололась от единой Церкви, вместе с другими древневосточными Церквями. Она пошла своим путем, поэтому отличается и от православной, и от католической традиций. Правда, это произошло, можно сказать, случайно.
Первыми проповедниками были апостолы Варфоломей и Фаддей, они же и избрали первого армянского епископа Закарию (68—72 гг.). Крещена же Армения в 301 г. В 405 г. был создан армянский алфавит. Была переведены не только Библия и тексты Отцов Церкви, но и труды античных философов.
С X в. и по сей день литургия в армянской церкви остаётся практически неизменной, а церковная литургическая музыка и пение с характерной армянской нотацией восходит к началу XI в.
В середине V в. Армения попала под власть Персии, которая пыталась насадить зороастризм. Но Армения осталась верна христианству.
Но как раз в 451 г. был созван Халкидонский собор, на который армянские представители не смогли приехать. Собор был посвящен догматическим вопросам по поводу природы Христа. К единому мнению так и не пришли, и тогда часть Церквей – древневосточные Церкви – откололись. В их число включили и Армению…
В течение многих веков делались попытки объединения Армянской Апостольской Церкви с Византией и Римом, но уния так и не сложилась.
Хотя на юбилей все приехали. И первым – папа римский.
После торжественной встречи Папы и Каталикоса (мне очень понравилось, что они вели себя на равных) папская делегация и армянские священники поехали к мемориалу геноцида армян – там для них спел Аве Марию Шарль Азнавур.
К сожалению, не сохранилась фотография, но зрелище было очень интересным: по одну сторону стоят армянские священнослужители – все в черном, в островерхих капюшонах, суровые (кстати, оказывается, на пятках их обуви изображены дракон и скорпион, олицетворяющие зло, которое священники топчут), а с другой – католические священники, все в белом, с белыми шапочками-тарелочками на головах, упитанные и улыбчивые…