Западня, или Как убить Ахилла бесплатное чтение
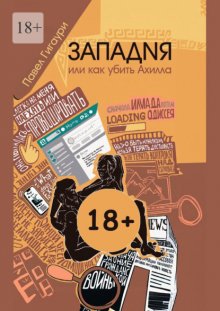
© Павел Гигаури, 2025
ISBN 978-5-0067-3829-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Посвящается HMG
Еще в детстве у меня появилась идея, что человеческая мысль материальна, как радиоволны или гравитация, но тогда я не мог объяснить себе, почему приборы не могут зарегистрировать ее. Позже, читая «Антигону», я нашел этому объяснение: скорость человеческой мысли быстрее скорости света, и поэтому ни один прибор никогда не сможет зарегистрировать мысль, и именно поэтому, мысль, отпущенная на волю, не может быть поймана, заперта или скрыта. Мысль беспредельна и вечна.
Следуя правилам английского языка, номер впереди идущей машины должен читаться и произноситься, как ЭКС-И-ПИ. Эти три буквы английского алфавита превратились в шесть, проникая стереоскопически через два моих глаза в мой мозг, и там опять слившись в три, вместо латинского центра, как компьютерный троянский вирус, активировали центр ответственный за русский шрифт, и обернулись словом ХЕР, вызвав всплеск неожиданной взрывообразной активности в еще полуспящем сознании. Это смешно, – сонно подумал я, и решил посмотреть, кто едет на этой машине, включил левую мигалку, и, выждав удобный момент, прыгнул в левый ряд, чуть подрезав параллельно идущую машину: «Прости, друг, у меня важное дело…». Я стал поджимать впереди идущую машину, чтобы сравняться с интересным номером, но впереди идущая машина не торопилась, и я мог разглядеть только руки на руле: это были женские руки. Я знал, что женские руки на руле всегда очень изящны, но это может быть коварный обман. Так оно и оказалось, когда я поравнялся с машиной, то увидел очень непривлекательную, можно сказать, страшноватую, женщину средних лет, с непонятного цвета распущенными волосами. А она даже не знает, на чем она едет, – с зловредной усмешкой подумал я, разочарованный ее неприглядным видом. Ситуация с визуальным вирусом, проникшим в мой мозг, разрешилась, я окончательно проснулся, но заметил, что этот вирус оставил после себя одну, еще не сформированную, аморфную мысль, которая показалась мне интересной. Ее надо не забыть, вернуться к ней и рассмотреть поближе, четко определить ее контуры, в ней было что-то притягивающее. Это потом, а сейчас надо сосредоточиться на рутине утра. У меня в жизни есть рутина, и это хорошо. После долгих лет неурядицы, неустройства, неопределенности, связанных с переездом в другую страну, разводом, случайными заработками, написанием диссертации, я научился ценить рутину, наконец-то у меня есть постоянная работа, постоянный заработок, жилье. Работа, которой я хотел заниматься всю жизнь, ради которой я переехал в другую страну, и как оказалось, ради которой, я потерял семью, и на которую я выезжаю каждое утро, вливаясь со своей машиной в общий, провинциально слабый, и все равно очень раздражающий, поток утреннего уличного движения. Я живу в Вестоне, небольшом университетском городке, который расположен на берегу большого озера, и окружен вместе с озером невысокими, но настоящими, покрытыми растительностью горами, которые своей красочной вертикальностью прерывают поток горизонтального пространства, создавая вокруг города почти замкнутое пространство естественной цитадели или просто затерянного, изолированного мира. Этот город есть «вещь в себе», где так или иначе все связано с университетом, – это неакадемическое продолжение самого университета, улицы всегда полны молодежью, как студентами, так и какими-то не очень понятными персонажами с неопределенным родом занятий и жительства, таких людей всегда можно видеть сидящими на асфальте около стен домов прямо на тротуаре, играющими на разных инструментах, просящими денег и почему-то всегда имеющими при себе беспородных собак. На столбах всюду развешены яркие листовки с объявлениями об уроках, месте и времени встречи каких-то групп, купле-продаже чего угодно, с призывами к митингам, и выходу на протест против чего угодно или просто призывами к чему-то, например: «Прекратите жрать мясо, сволочи!»
В городе постоянные концерты, как мировых знаменитостей, так и никому неизвестных артистов, рок-групп, комедиантов, в городе всегда что-то происходит, он засыпает только на несколько коротких часов среди недели, а в выходные и вовсе не спит.
Сексуальная жизнь города тоже связана с университетом, студенческие общежития города неутомимо, из года в год, генерируют свободную сексуальную энергию, которая выплескивается на весь город, заряжая электризующей силой творчества, созидательности и продуктивности его жителей. В университете же периодически возникают сексуальные атмосферные завихрения в виде скандалов и слухов
Часть текста удалена по требованию редакции
делает драму неожиданным, захватывающим, и никогда не прекращающимся действием.
Люди, ходящие по улицам города, в основном студенты, в меньшей степени преподаватели, носят в своих карманах и головах разные рецепты, как спасти и улучшить весь мир, но из города, обнесенного горами, как редкие книги из библиотеки, нельзя выносить эти рецепты наружу, и поэтому безнадежно больной мир мается там, за горами, и ждет своих спасителей, а спасители мира, уверенные, что это только вопрос скорого времени, ломают голову, в какой бар пойти сегодня вечером и как организовать все оставшиеся выходные, чтобы успеть везде и быть готовым к понедельнику.
Жизнь в университетском городе, особенно если ты работаешь в университете, не имеешь семьи и здоров, несмотря на каждодневную нервозность и лихорадочную сиюминутную хаотичность, кажется, зависла во времени и не меняется. Каждую осень толпы спасителей мира заполняют аудитории, холлы, общежития университета, волны людей прокатываются по улицам города, как стихийное бедствие, а к лету все пустеет и оголяется, как океанский берег во время отлива. Наступает обманчивое затишье. А потом опять приходит осень, и все начинается сначала; и в этом повторяющемся цикле движение времени совсем незаметно, кажется, что оно попало в западню и с нескончаемой энергией равномерно движется по кругу.
Моя машина проезжает по набережной озера, поворачивает налево и поднимается в гору по центральной улице городка и потом опять поворачивает налево на главную аллею университета. Здесь, в самом старинном здании университета, чья центральная башня красуется на эмблеме учебного заведения, основанного в восемнадцатом веке, находится кафедра классической литературы, в которой я числюсь профессором и специализируюсь на литературе античной Греции. Я подъезжаю к парковке со шлагбаумом, магнитной карточкой отрываю въезд и тихо подкатываюсь к своему месту, парковка, расположенная за учебным корпусом, – привилегия, и я с удовольствием пользуюсь этой привилегией. Припарковав машину, я не иду через парадный вход с широкой, словно русло реки, монументальной мраморной лестницей со сточенными от течения времени ступеньками и дубовыми, отполированными множеством ладоней, перилами, которая величавой спиралью поднимается от первого до последнего третьего этажа, а ныряю в едва заметную боковую пожарную дверь с торца здания и по полутемной, такой же старинной, лестнице поднимаюсь на свой третий этаж. У меня есть своей отдельный, хотя и совсем крошечный, кабинет с окном, что тоже привилегия, большинство кабинетов без окон, хотя и значительно больше по размеру. Мое окно – это не просто окно, это отметка, по которой я могу узнать свой кабинет с улицы, моя личная отметина на фасаде старинного здания, оно будет хранить память обо мне, когда меня уже не будет в университете, и люди, работавшие со мной, позабудут меня, это окно будет меня помнить своей, закрытой ото всех, метафизической памятью, как оно хранит память о людях, смотревших через его стекло до меня. В рамы этого старинного окна вместе с маленькими стеклянными квадратиками вставлены фрагменты ушедших эпох, через которые прошел университет, и через них преломляется не только свет, но и вся теперешняя действительность. Взгляд, направленный наружу с потоком света и сознания, цепляется мыслями и ассоциациями за квадратную деревянную решетку окна и обретает новое направление движения и новую форму. Это окно помогает мне писать статьи, готовить лекции, семинары, в нем есть мистический заряд энергии. Я научился распознавать его снаружи в ряде окон третьего этажа правого крыла здания, если стоять лицом к парадному входу. Когда смотришь в окно из кабинета, то кажется, что смотришь на улицу из самого центра здания, которое очень легко может быть определено извне, потому что весь мир вокруг заглядывает в это окно, он симметрично располагается по отношению к просвету окна, создавая определенную классическую гармонию пространства во внешнем мире: деревья аллеи, здания университета на другой стороне аллеи, прогуливающиеся люди и проезжающие машины, – все проникает в кабинет через окно, как через объектив фотоаппарата. Но когда смотришь на здание снаружи, то удивленно обнаруживаешь безымянность окна. Пытаясь найти его, сужаешь зону поиска, отбрасываешь крайности, и вот остается четыре окна, каждое из которых могло бы быть моим, но трудно сказать с абсолютной уверенностью, которое из них. Мне пришлось прикреплять бумажную снежинку к стеклу, чтобы можно было распознать окно снизу снаружи, в конце концов я научился узнавать его на фасаде здания без снежинки: по ориентирам на крыше и на земле. Само окно было старинное, выложенное из маленьких стеклянных квадратиков, сделанное по образцу корабельных окон, которые люди используют также на океанском побережье, – это окна, которые, когда открываются, не распахиваются ставнями наружу, а нижняя часть окна поднимается, как по рельсам, вверх, так сильный морской ветер не может их повредить. Океана поблизости нет, но университет строили выходцы из Англии, и они делали это так, как было принято дома.
Я люблю открывать свое окно. Я его открываю, заманивая к себе в кабинет последние теплые осенние деньки или пытаясь поймать первые теплые весенние солнечные лучи после долгой и снежной зимы. И вот сейчас я вошел в свой кабинет, протиснулся между письменным столом и книжными полками к окну и привычным усилием, как штангист на соревнованиях, сначала потянул, а потом толкнул вверх раму окна, – на меня тут же пахнуло свежим утром. Пока едешь в машине, бредешь к зданию, то не чувствуешь всей прелести утра; то ли еще не проснулся, то ли здесь, на уровне третьего этажа, воздух, защищенный макушками деревьев, чище и свежее, как бы оно ни было, но утро проникает в мой кабинет через открытое окно на третьем этаже вместе с неотфильтрованными стеклом звуками улицы и неизменным видом зданий напротив из старинного красного кирпича, за которыми скрывается озеро. Я сажусь за свой стол и смотрю на расписание занятий на сегодня, первый час свободный, потом лекция. Открытое окно на уровне моего лица, как рама вокруг портрета, таким меня видит улица. Картинные рамы, наверное, пошли от оконных рам, чтобы усилить иллюзию причастности полотна к месту и времени зрителя, как будто человек смотрит в удивительное окно. Улица через открытое окно дышит мне в лицо, я с грустью отгоняю от себя мысль о том, что следующей весной начнется большой ремонт в здании, будут устанавливать новую отопительную и кондиционерную систему, и, как часть этого проекта, чтобы система была более эффективной, как это делается во всех современных зданиях, будут менять окна; установят новые, повышенной термоизоляционности, подходящие по стилю, но не открывающиеся окна. Жалко. Я привык к доступности улицы, к ее неочищенному через поры фильтров воздуху.
«Гнев, (пауза), богиня (пауза), воспой Ахиллеса, Пелеева сына.» Вот оно, начало. Первая строка, расположенная на странице рядом слов, вытянутых по горизонтали, словно игла шприца, и именно через эту строку-иглу в кровь, в сердце, в самую глубину кровотока вливается божественный нектар бессмертия. Это блаженство бессмертия не делает вас бессмертным, но оно дает вам ощутить его вкус, допускает к себе, позволяет почувствовать его присутствие, ощутить на себе, что это значит – навсегда. Навсегда – это мера времени, это земная человеческая вечность, не бессмысленная вечность вселенной и космоса, где астрономические цифры и размеры просто не имеют смысла, а вечность, соизмеримая с быстротечной человеческой жизнью. Главный герой «Илиады» – это время. Здесь нет главного героя, как в «Одиссее». В поэме множество действующих лиц, но все действующие лица первого плана равны по значимости; «Илиада» не об Ахилле или Одиссее, или Прекрасной Елене, или о Гекторе, – «Илиада» о своем времени, – время «Илиады» – навсегда. Это останется навсегда:
«Всех их на ста кораблях предводил властелин Агамемнон», или «Царь Одиссей предводил кефалленян, возвышенных духом, живших в Итаке мужей и при Нерите трепетнолистном.» Так же навсегда остается и «Вслед их Нирей устремился с тремя кораблями из Сима,… Смертный, прекраснейший всех, после дивного мужа Пелида (то есть Ахилла); Но не мужественен был он, и малую вывел дружину». От этого уже никогда не отмыться, не избавиться, не позабыть: «но не мужественен был он», – это приговор, и приговор навсегда.
Расстояние времени находится в антагонизме с мерой времени – навсегда, если нет отметки времени, то чем больше расстояние времени, тем больше вероятность, что навсегда перейдет в свою противоположность – никогда. Расстояние стирает детали, размывает образы, все становится расплывчато и схематично, объемность теряется, все становится плоско и одноцветно, наступают сумерки узнавания.
Если посмотреть на время Трои снаружи, то увидишь развалины стен города, который существовал давним-давно, и все, что происходило на расстоянии в три тысячи лет, имеет относительные очертания, границы нечеткие, плюс-минус сто лет не имеют значения; день, как единица времени, просто не подходит, как не подходит миллиметр для определения расстояние между городами, каждая отдельная часть происходившего сомнительна в достоверности, но событие в целом было, от этого возникает ощущение невосполнимой потери, условной реальности, но если посмотреть на событие через поэму, через свою память, то события обретают плоть, то есть обретают те подробности и детали, которые обычным взглядом с расстояния в тысячи лет не рассмотреть. На нас обрушивается ниагара информации, но количество информации, которое мы способны воспринимать в единицу времени, имеет предел. Разрешающая способность нашего мозга различать мелкие детали на близком расстоянии ограничена, и вот мы пятимся назад под напором детальности картины, как отстраняем от себя очень близко придвинутую к глазам книгу, чтобы устранить боль в зрачках и комфортно сфокусироваться на буквах и прочитать текст. В «Илиаде» детали визуальные, психологические, эстетические, переплетаясь, сливаются в одно неразличимое целое, кружатся в тысячелетней трубе калейдоскопа поэмы, и все воспринимается как течение жизни. Это художественный прием гения.
Вкус, дурманящий вкус деталей: «и сына обнять устремился блистательный Гектор; Но младенец назад, пышноризой кормилицы к лону С криком припал, устрашася любезного отчего вида, Яркой медью испуган и гребнем косматовласатым, Видя ужасно его закачавшимся сверху шелома». Детали настолько ясны и точны, и звучны, что мы, как боги-олимпийцы, не ведая времени и земного притяжения, переносимся от действа к действу, не испытывая на себе превратностей трехмерного пространства, утянутого, как ремнями, временем и гравитацией. Происходящее настолько явно, что возникает неловкое ощущение, что там, на той стороне – жизнь, там люди из плоти и крови, а мы, призраки-тени, наблюдаем с завистью, тайком, за их действом. Там, во времени Трои, нет безымянных героев, пусть даже эпизодических, появившихся в одном действии там, как в Книге жизни, все занесены на счет времени, все, кто говорит или сражается, умирает, имеет имя, и к их имени приставлены имена родителей, ведь человек не появился из ниоткуда: «Отрасль Форбаса, стадами богатого, Гермесом был Более всех из пергамцев любим и богатством ущедрен; Но от супруги имел одного Илионея сына. Пикой его поразил Пенелей в основание ока, Вышиб зрачок, проколовшая пика и око и череп вышла сквозь тыл, и присел на побоище, руки раскинув, юноша бедный…» И плывет Форбас во времени, навсегда скорбящий о своем убитом единственном сыне Илеонее, и никогда не будет ему утешения. Там личность сохранена во времени, не только чтобы сохранить память о людях, но потому что личность определяет время, время «Илиады» – это время войны: еще нет боевого строя, нет фаланги, нет легиона; воины сражаются один на один, это – поединок. Нет возможности сомкнуть щиты в один непроницаемый панцирь, потому что на щите только одна рукоять, нет ремня для предплечья, нет у воинов возможности слиться в единого зверя войны, нет возможности стать незаметным в боевом строю, – все на виду: ты, твое имя, твоя семья, твой род. «Тут Одиссей копьеборец покинут один; из ахеян С ним никто не остался: всех рассеял их ужас. Он, вздохнув, говорил к своему благородному сердцу: Горе! Что будет со мною? Позор, коль, толпы устрашася, Я убегу; … Кто на боях благороден душой, без сомнения, должен Храбро стоять, поражают его или он поражает.» Мужество, способность пересилить страх, навсегда останутся у людей добродетелями, а трусость – пороком, даже когда не будет войн. Никогда трусливый человек не будет любим другими, потому что трусливый человек – раб собственного страха.
Три тысячи лет назад, время навсегда, война, люди на войне, мы знаем, кто и чем знаменит, и кто и откуда родом, кто и как умер, и кто сразил кого, кто ссорился с кем, мы знаем их имена и имена их родителей, но о том, кто все это написал, мы знаем только имя, звук, и ничего больше. «Старца великого тень», – именно тень, мы ничего о нем не знаем, кроме того, что он есть. Он с нами, и с каждым предыдущим и последующим поколением в духе присутствует в самой гуще троянский событий, ничем не проявляя своего присутствия. Мы ясно слышим его ровный голос, который звучит внутри нас, как эхо в колодце. Он повсюду и навсегда.
Я постучался в массивную высокую дверь и, не дожидаясь ответа, открыл ее:
– Вадим Петрович, к вам можно? – Да, Евгений, конечно, заходите. Как прошло первое занятие нового учебного года?
Вадим Петрович Зелич, профессор-эмеритус, бывший заведующий кафедры, он наш кафедральный или Приам, или старец Нестор, «советами мудрый», или оба в одном лице. Вадим Петрович, а для американцев и всех нерусских просто Вадим, живой классик эллинистики, он переступил границу важности титулов, званий; его имя для людей, занятых в нашей профессии, и титул, и звание. Трудно поверить, но говорят, когда-то это был очень нетерпимый человек, который был настолько одержим своей работой, что не жалел слабостей других людей и своей прямолинейностью мог легко унизить человека, а это ему было сделать очень легко, потому что он обладал колоссальным запасом систематических знаний, готовых к применению в доли секунды. Он мог выхватить цитату или какой-то факт, как дротик, и пустить его в оппонента, а потом, склонившись над окровавленным телом, спокойно добить холодной вежливостью, что-то вроде: «Ну что же Вы, мой дорогой, элементарных вещей не знаете.» Причем доставалось всем – и студентам, и аспирантам, и преподавателям. Но с возрастом он помягчел, а когда ушел с должности заведующего, то и вовсе стал мягким, добродушным человеком, которого обожали аспиранты и молодые сотрудники кафедры – студентами он больше не занимался. И трудно было поверить, что этот чуть располневший старик, с седой головой и вечно присутствующей доброй улыбкой на губах, когда-то был гроза кафедры. Многие удивлялись, когда слышали о прошлом Вадим Петровиче, который так не вязался с теперешним, но я заметил, что чуть сутулые, покатые плечи, нависающий спереди животик, старческая походка на чуть присогнутых ногах, не вязались с его темно-синими, молодыми глазами, которые спокойно, не бегая, почти не моргая, смотрели на собеседника, и глядя в эти глаза, понимаешь, что то, что о нем говорили, могло быть правдой. Благодаря этому человеку я оказался в Америке, он был руководителем моей диссертации, он помог мне остаться на кафедре. Я ему обязан всем. – Не знаю еще, пытался зажечь в них интерес. Посмотрим, сколько дойдет до конца курса. Мне всегда на первом занятии интересно смотреть на лица и гадать, будет ли среди этого класса тот или та, которые зацепятся и останутся с нами, в нашем огороде. Простите, Вадим Петрович, что раньше не зашел, да и вообще, в августе я пропал, не появлялся. – Ну, Евгений, о чем вы говорите, какие извинения, – отмахнулся Вадим Петрович. Вадим Петрович, сын офицера Белой армии, родился уже в Штатах, успел получить классическое образование, то есть знал латынь и греческий в полном совершенстве. По-русски он говорил свободно, без акцента, без нелепостей, без вульгарностей. Мне до конца не было понятно, говорил ли он языком, сформированным до революции и избежавшим воздействия советского времени, или это его личность делала звучание русского языка классическим и не засоренным. Он рассказывал мне, как счастливым стечением многих обстоятельств он оказался в Гарварде, и как началась его карьера, и как он стал заведующим кафедрой в нашем университете, и как постепенно он отошел от дел кафедры, и сейчас овдовев и став почетным профессором (эмеритус), он живет в свое удовольствие. Его удовольствие – это заниматься с аспирантами, иногда замещать кого-нибудь в классе, писать статьи в научные и популярные журналы, иногда записываться на телевиденье в образовательных программах, и не испытывать никакого давления обязанностей. Он шутил: «Единственное, что осталось мне пережить в этой жизни – это собственную смерть.» Оборачиваясь назад, я понял, что Вадим Петрович (я дал ему кличку Приам, видимо, из-за комбинации внешнего архетипного образа мудрого старца и созвучия через буквы п и р: Петрович и Приам) появился в моей жизни задолго до того, как я узнал его лично. Мой отец, советский академик, профессор столичного университета познакомился с ним на одной из международных конференций, и у них завязалась дружба. Дружба – это громко сказано, но они были в постоянном контакте, обменивались идеями, старались поехать на симпозиум, если там был другой, только Вадим Петрович отказывался приехать в Москву. Позже, уже в Америке, я его спросил, почему он ни разу не был в Москве. Он ответил нехотя, но честно: «Я всю жизнь считал и считаю себя русским, я знаю русскую историю, литературу, я знаю хорошо русский язык, но я родился в Америке и никогда не был в России. Родители воспитали меня в любви ко всему русскому, тому русскому, которую они помнили, но той страны уже давно нет. Есть другая Россия. В Советский Союз я не хотел ехать по принципиальным соображениям, в новую Россию я боюсь ехать, боюсь не России, а боюсь обстоятельств. Я приеду, что-то не заладится, заболеешь по дороге или кто-то нагрубит, или украдут что-нибудь, какие-нибудь пустяки, которые случались со мной во всех странах мира, но здесь может испортить все впечатление, это первое свидание, первая встреча, которая может обернуться психологической катастрофой, а времени все исправлять уже нет. Я уже так и останусь русским, который никогда не был в России, когда я умру, меня будут отпевать в русской церкви и похоронят на православном кладбище при монастыре в Джорданвилле, где похоронена моя жена.»
Я думаю, что еще одна деталь сближала Приама и моего отца, это то, что они оба были детьми белых офицеров. Мой дед был совсем мальчишкой, когда был в Белой армии, и должен был уйти с армией за границу, но судьба распорядилась иначе. Молоденький мальчик с тонкой талией в офицерской форме встретил грузинскую девочку, княжну, которая не могла уехать, потому что тяжело болел ее отец. И дед остался в Советской России. Безумная любовь, гражданская война, голод, красный террор, почти дети, они оказались на переломе эпох, но их все обошло стороной, они прошли через войны, разруху, бедность, воспитали сына, дождались внука и тихо умерли с годом разницы: сначала дед, а потом бабушка. Отец Вадима был намного старше моего деда, он ушел с Белой армией в Константинополь, потом в Сербию, потом в Париж, потом одним из первых уехал в Штаты, где уже родился Вадим. Судьбы отца и Вадим Петровича в контексте истории, с моей точки зрения, казались одним целым: один был версией другого в противоположных обстоятельствах, хотя и говорят, что в истории и нет сослагательного наклонения, они являются материализацией предположения «а что бы было, если…» Что бы было с моим отцом, если бы его дед ушел с Белой армией? – он бы был Вадим Петровичем. Что бы было с Вадим Петровичем, если бы его отец остался в России? – он был бы Александром Евгеньевичем Полежаевым, моим отцом. И парадоксально, что обе, довольно счастливые версии, заканчивались одинаково – профессорством по древней литературе.
В советское время мой отец был уважаемый в обществе человек, с хорошим социальным статусом, хорошей зарплатой – академик, профессор, и все рухнуло почти в одночасье. Он остался академиком и профессором, но это уже было неважно, рухнул СССР, рухнула привычная жизнь, рухнул рубль, античная литература оказалась никому не нужна. На волне перемен отца очень быстро отправили на пенсию, чтобы дать дорогу молодым, теперь эти «молодые» уже давно пересидели возраст отца и никуда не собираются уходить. Я тогда как раз закончил университет, я уже не был мажором, но мне очень хотелось продолжать дело отца, я вырос в Древней Греции, за время в университете я превратился в профессионала, я занимался научной работой, я готовил себя к научной деятельности, но вопрос стоял не о том, поступать или не поступать в аспирантуру, а как выжить. К концу университета я познакомился с Катей, мы снимали квартиру, точнее крохотную квартирку, крошечная кухонька, малюсенькая комнатка, прихожей не было, мы были очень горды, что живем отдельно. Катя училась в медицинском, тоже заканчивала институт, но на год позже меня, моя престижная профессия в мирное время вдруг стала абсолютно ненужной в постсоветское время. То, что казалось таким увлекательным и интересным, митинги за перестройку, за Ельцина, за открытое общество, демократию, вдруг прошло: политическая борьба превратилась в политическую возню, а главное, что нам с Катей пришлось съезжать с нашей крошечной квартирки к родителям, потому что мы не могли больше за нее платить. Древнюю Грецию отменили по всей стране, я поступил в аспирантуру, но это было больше приговор суда, нежели исполнение мечты, я жил на отцовскую пенсию и академические, которые вовремя не выплачивали, Катя подрабатывала в клиниках, я стал задумываться о том, чтобы начать ездить за кордон за шмотками, то есть стать челноком. У меня, выросшего в Древней Греции, возникло ощущение нереальности происходящего, я стал видеть себя как бы со стороны, выпавшим из общего движения и парящим в безвоздушном пространстве и не воспринимающим никаких звуков, так что весь мир проходил через меня, как через нематериальный объект, не задевая меня, и не нарушая собственного движения. И в этот самый момент отец вернул мне Древнюю Грецию, он связался с Вадимом Петровичем, обрисовал ситуацию, спросил, есть у него какие-нибудь гранты или программы, по которым я мог бы заниматься наукой у него в университете. И оказалось, что есть программа, по которой, если я сдам все необходимые экзамены по специальности, сдам экзамен по английскому и пройду собеседование, то я могу сделать кандидатскую на его кафедре. Отец продал свою «Волгу», чтобы купить мне билет в Штаты и дать денег с собой в поездку. У меня появился шанс. Я отгонял от себя мысли о том, что я его могу спалить, я отказывался думать о том, что тогда будет. Я верил, что это судьба, я суеверно ни с кем не обсуждал своих дел и не строил планов, я занимался, готовился к экзаменам по истории, по греческому, по английскому. Я приехал в Штаты, Вадим Петрович встретил меня, поселил в общаге, долго инструктировал, как себя вести на собеседовании, как и что отвечать на вопросы, принять душ перед собеседованием (как это было унизительно услышать), объяснял суть письменных экзаменов, как они устроены, что в них заложено, дал мне материалы, как пример того, как ставятся вопросы, – это было ново для меня, в Союзе была совсем другая система экзаменов. Как бы то ни было, я сходил на все экзамены, прошел собеседование, ответ о поступлении я получил уже в Москве. Мы с Катей скоропостижно поженились, чтобы она могла поехать со мной, она как раз закончила институт и получила диплом. И вот мы приехали в Штаты, университет поселил нас в маленькой квартирке, там мы могли жить год, а потом должны найти свое жилье, мне платили маленькую стипендию, денег не хватало, но мы были рады, что что-то происходит в нашей жизни. Катя быстро нашла соотечественников в городе, завязался круг знакомых, она стала подрабатывать, чтобы как-то пополнить семейный бюджет. Я был счастлив фактом, что я вернулся в Древнюю Грецию, это был привычный, понятный мне мир, я все время проводил либо на кафедре, либо в библиотеке, мне казалось, я получил еще один шанс в жизни, и старался вложить все силы в его реализацию: когда-то отец мне сказал, что если чего-то хочешь достичь, то вкладывай все силы, которые есть, все, что можешь вложить, и тогда, если не получится, чтобы не было в чем себя упрекнуть, пожалеть о том, что чего-то не сделал, что мог бы сделать – тогда совесть будет чиста перед своей судьбой. Я работал много и с удовольствием, обращаясь назад на это время, я вижу, как многие делали целые состояния, баснословно богатели, становились директорами банков и компаний, поднимались к власти, а я сидел в библиотеке, экономил каждую копейку, точнее цент, и ни сколько об этом не жалею, это была моя жизнь.
Жизнь на чужбине смыла с меня и с Кати московский снобизм, люди, с которыми мы в прошлой жизни не стали бы дружить, то есть ходить к друг в гости, вместе отмечать Новый год, дни рождения, здесь воспринимались по-другому: выбор, с кем дружить, небольшой, соотечественников мало, проводишь линии раздела осторожнее, условия соприкосновения меняются, стараешься найти объединяющие начала. Если кто-то говорит вместо пальто – польта, то это не конец света, и если человек книжек не читал и не читает, но при этом добрый и отзывчивый, и не сквалыга, чтобы это не означало, то с этим человеком можно общаться, эти люди создают круг знакомства и общения, это помогает выжить. Я проводил мало времени в компаниях, появлялся только на большие сборища, а у Кати образовался свой бабий круг, в котором она проводила достаточно времени, и именно там ее подруги дали ей совет: «Ты же врач, сдавай экзамен и иди в резидентуру, там уже деньги платят, а если станешь врачом, то будешь получать шестизначную зарплату». Катя спросила меня, что я думаю по этому поводу, я оценил идею. Катька по натуре круглая отличница, голова светлая, она очень работоспособная, всегда и все доводила до блестящего конца. Она вообще была очень сосредоточенная, организованная, внутренне и внешне она напоминала мне струну от виолончели: высокая, тонкая, эмоциональна сжатая. Даже в постели она была сдержана и серьезна.
Катя взялась за занятия со свойственной ей сфокусированной настойчивостью, и уже через девять месяцев она отправляла документы в разные госпиталя, чтобы быть готовой к следующему году. Но к счастью для нас, в нашем университетском госпитале кто-то оставил резидентуру по какой-то причине, освободилось место, нужна была замена, Катя была под рукой. Ее вызвали на собеседование, и не взять ее не могли: отличные баллы за экзамены, высокая, тонкая, неулыбающаяся красавица, просто амазонка от медицины. И хотя разговорный английский у нее был не самый лучший, ее взяли тут же, – интервью в четверг, а в понедельник надо было выходить в госпиталь. Это была немыслимая удача, невероятное везение. Наша жизнь ускорилась, мы оба много работали, ее дежурства и длинные дни переплетались с моими длинными днями, мы были все время на бегу. С деньгами стало намного легче, мы переехали с университетской квартиры, моя диссертация двигалась вперед, многие американцы пишут диссертации по семь, а то и больше лет, но я не мог этого себе позволить. Мы стали задумываться, что делать после диссертации и после резидентуры, возвращаться в Москву было некуда, меня там никто не ждал, Древняя Греция там если и существовала, то без меня. Куда я мог податься со своей диссертацией? Правда, здесь я тоже никому не был нужен, и университет не стал бы делать мне грин-карту, какой бы я талантливый, образованный, начитанный ни был, своих американских кандидатов на любую преподавательскую работу на любой кафедре было хоть пруд пруди. С другой стороны, был вариант, Катя могла пойти работать в район, где особенно нужны врачи, и через три года всей семье давали грин-карту, это был самый надежный вариант. Катя начала искать место, где нужны были иностранцы, дело двигалось. Я должен был защитить диссертацию через год после окончания Катиной резидентуры, мы решили, что год мы будем жить отдельно, а после защиты будет видно, – по обстоятельствам. Мы сидели в гостиной, был вечер, мы оба были дома и никуда не спешили. Я сидел в кресле и просто наслаждался спокойным моментом, наблюдая за Катей, как кот с холодильника наблюдает за происходящим, Катя сидела напротив меня на диване, поджав под себя ноги, так что было видно ее острые коленки и тонкие бедра, которые прикрывались легким домашним халатиком, образуя между внутренних поверхностей ног темный туннель, уходящий к низу живота. Она читала какую-то книгу, держа ее на весу длинными переплетенными пальцами обеих рук, над книгой, как брови над носом, нависли Катины ключицы, плечи, прикрытые халатиком, симметрично открывались Катиной тонкой длинной шеей, на которой покоилась наклоненная голова с распущенными волосами. Я вдруг заметил, что Катя изменилась, она стала мягче, женственней, в ней появилась какая-то растерянность, волосы распущены и свободно спадают к плечам, а не утянуты в пучок или хвостик на затылке, между бровями нет озабоченной складки, а чуть приподнятые брови, кажется, подтягивают за собой уголки рта, придавая выражению лица вид рассеянной задумчивости. Как же я не заметил в ней этой перемены, у меня сжалось сердце: от вида того темного туннеля, начинающегося от Катиных коленок и уходящего куда-то вглубь под халат, и вызывающего ощущение в крови легкого раздражения, как от мелких пузырьков, наполняющих меня изнутри, и от какой-то смутной неожиданной тревоги, – я оказался застигнутым врасплох этой переменой, а это значит, что я не знаю, что происходит. Эти все напавшие на меня ощущения, неопределенные, но не предвещающие ничего хорошего, заставили меня сделать глупость, за которую я себя потом неоднократно клял. Я, глядя на Катю, охваченный тревогой и подогреваемый сексуальностью ее вида, от внутреннего отчаяния, а может, от подсознательного отрицания надвигающейся катастрофы, тихо, но очень четко сказал: «Катя, я тебя люблю». Катя встрепенулась от неожиданности, выражение ее лица изменилось, она пристально посмотрела мне в глаза, а потом отвела взгляд. По мере растяжения паузы моя паника нарастала, надежда на быстрый ответ «Я тебя тоже люблю» – который бы развеял все страхи, и все вернул в привычное русло, просто исчезла. Вот он, момент, когда идешь по заснеженному тротуару, и вдруг ноги вылетают вперед в воздух, проскользнув по льду, все тело запрокидывается назад и повисает в воздухе в полной невесомости, начинаются бессмысленные дерганья ногами и руками, а в голове, в такт телу, замирая, проваливается мысль, останавливая дыхание, что сейчас последует тяжелый удар о замерзшую землю. Наступает момент полной беспомощности, от тебя не зависит, как ты приземлишься: может, затылком об лед, может, на неудачно выставленную руку, а может, на плечо, и это бесконтрольное приземление может увести траекторию пути по заснеженной дорожке в сторону на несколько лет, а может и навсегда. Вся жизнь может перевернуться вместе с неожиданным, непредсказуемым переворотом в воздухе. Так почувствовал я, когда не услышал ответа своей реплике. Катя вернула свой взгляд на меня и тихо сказала: «Женя, нам надо поговорить». – Интересный ответ на признание в любви мужа. О чем разговор? – проговорил я отчетливо, борясь со спазмом голосовых связок. – Женя, не обижайся и не злись, но я полюбила другого человека, – тихо, как мне показалось, с плохо скрываемой внутренней глубокой радостью счастливого человека, и как бы призывая меня разделить ее радость, произнесла Катя. Я внутренне почувствовал, что она далеко, далеко в мыслях, чувствах, планах, желаниях. Я поморщился: мне показалось, что это выражение «полюбила другого человека» какое-то нелепое и пошлое, какое-то провинциальное. Хотя что и как положено говорить в данной ситуации? Я молча смотрел на Катю, крепко держа в голове, только одну мысль: надо быть мужиком, нельзя терять достоинства, нельзя терять контроля над ситуацией, осмысливать все происшедшее буду потом, а сейчас надо пережить этот момент. Я молчал, затягивая паузу, как петлю. – Ну, что ты молчишь? – растерянно спросила Катя. Я молча пожал плечами и продолжал в упор смотреть на нее.
– Что ты думаешь по этому поводу? – настаивала Катя. – Я ничего не думаю пока. Мне надо перестроить свои мысли, я тебе, сдуру, в любви объяснился минуту назад, – попытался иронизировать я. – Ты давай сама посвяти меня в дела текущие. Ты-то уже, наверное, все передумала, решила, у тебя, точнее, у вас, и планы есть на будущее, а я послушаю.
У меня стала появляться внутри злость. Позже я возвращался к этому моменту множество раз, пытаясь переосмыслить, разобрать на составляющие все чувства, эмоции, оттенки переживаний, который свалились на меня в тот момент. Злость состояла из естественного чувства ярости от вскрывшегося обмана, но как я признался себе потом, из чувства глубокой несправедливости, что она меня использовала: приехала в Америку, поступила в резидентуру, которую благополучно заканчивает, получит грин-карту, получит свою шестизначную зарплату, а я, защитив свою диссертацию, опять теряю свою Древнюю Грецию. Я сдержал свою злость, – самое худшее сейчас потерять самообладание, и потом стать посмешищем для всех и вся. Опять же позже я заметил, что во мне проскочила тень чего-то, что я тогда не мог ни понять толком, ни зафиксировать в памяти, – легкое мимолетное ощущение, как будто ангел пролетел, – это было предчувствие освобождения, – это я понял позже. Тогда мне Катя говорила, что мы никогда по-настоящему и не любили друг друга, мы были первые серьезные партнеры, и мы были хорошие партнеры по жизни, по сексу, по чему угодно, но мы не любили друг друга, мы не жили душа в душу. Она была права. И даже когда я сказал ей, что люблю ее, перед самым выяснением отношений, за что клял и кляну себя по сей день, то это было от страха, от неожиданного страха надвигающегося катаклизма, скорее последний шанс на спасение, чем реальное чувство. Катя говорила тогда много и страстно, я перебил ее, понимая, что она пытается мне что-то объяснить, что объяснений не требует, да и их не может быть. Что объяснять? Почему она не полюбила меня или почему она полюбила кого-то еще. Это все звучало бессмысленно. – Что мы делаем сейчас? Что мы делаем завтра? – спросил я. – Женя, мы всегда были хорошими, честными партнерами, мы всегда вместе тянули одну лямку. И я это очень ценю, – начала Катя. – Я приехала в Америку благодаря тебе и очень тебе благодарна за это. – И благодаря мне ты встретила своего возлюбленного, – не выдержав, сказал, передразнивая ее высокопарный тон. – Представляешь, так бы жила в Москве, работала в районной поликлинике и никогда бы не встретила свою судьбу. Каково? – Так вот, – продолжила Катя, не обращая внимания на мое высказывание, – я не буду подавать на развод, пока мы не получим грин-карту. Ты защищай свою диссертацию, а я поеду туда, где можно получить карту, когда получим карту, то мирно, безо всяких адвокатов и скандалов, разведемся. Это займет три с половиной года. Но я хотела бы разъехаться сейчас, нам не нужно жить вместе, – она чуть помолчала, и добавила, – мы с Константином хотели бы жить вместе. Ты согласен с моим предложением? – Что ты хочешь от меня? – спокойно спросил я. Мне нравилось, как я держался; я, в конце концов, обманутый муж, я персонаж из всех анекдотов, типичное посмешище, но я почему-то таким себя не чувствовал, я даже любовался собой со стороны, отчасти испытывая мазохистское удовольствие от неожиданной боли всей возникшей ситуации. – Проще всего было бы, если бы ты съехал отсюда, например, в Костину квартиру, а Костя переехал бы сюда, и не надо было ничего снимать среди года, осталось всего четыре месяца, а дальше мы уехали бы, и все… – неуверенно предложила Катя. – Съехать – я съеду, но конечно же, не в квартиру твоего Костика.
Я нарочно ничего не спрашивал ни о ее новом мужике, кто он, где они познакомились, ни о том, когда они стали близкими, ни о их совместных планах, – потому что это было бы глупо и унизительно, это был бы признак слабости, а я не хотел не только казаться слабым в этой ситуации, но и не хотел в действительности быть слабым.
– Я найду квартиру, и когда найду, то перееду, а пока потерпите, – спокойно сказал я.
Найти дешевую квартиру среди года оказалось непросто, квартиры в университетском городке в дефиците; дешевую, потому что мне предстояло жить на одну маленькую зарплату-стипендию, но я нашел то, что мог себе позволить: это была крошечная старая квартирка в доме, который когда-то был односемейным домом, но потом был перестроен в многоквартирный для сдачи внаем. С лестницы вход был прямо в крошечную комнату, что-то вроде гостиной-столовой, там было окно, выходящее на близко стоящий соседний дом, дальше коридор вел в спальню. Коридор был одновременно кухней, там вдоль стены между комнатами стояли белые холодильник и плита, старые и оббитые; из этого же коридора напротив плиты был вход в ванную-туалет. Спальня тоже была крошечная, но из нее был выход на довольно большой балкон, который по размеру был почти со всю квартирку, он выходил на достаточно дикий двор, – это был большой плюс, я уже себя видел проводящим много времени на этом балконе, он был намного приятнее, чем квартира. Ванная комната была тоже небольшая, с окном, и там стояли, видимо, изначальные тяжелые покрытые толстой белой эмалью ванная на чугунных ножках и раковина со старинными медными кранами, отдельно кран для горячей воды и отдельно кран для холодной воды. В ванную вместо нормального душа спускался шланг, когда я сказал хозяйке, что хорошо было бы сделать нормальный душ вместо шланга, то хозяйка грустно ответила, что это слишком большое денежное вложение для нее. Хозяйка была пожилая женщина, опрятно, хотя и старомодно одетая, говорила с грустным видом, как бы опечаленная своим тяжелым, безысходным финансовым положением, такой американский вариант старухи-процентщицы. Раскольникова с топором на тебя нет, – выругался я про себя, но, скорчив недовольную физиономию, согласился с тем, что придется жить со шлангом вместо нормального душа. Я подписал контракт, внес залог и плату за первый месяц, можно было въезжать. Я объявил Кате день моего переезда, сказал, что ничего брать не буду, кроме дивана и всяких мелочей. В назначенный день я без лишнего шума съехал с нашей квартиры в свою норку с балконом.
– Вадим Петрович, представляете, еду сегодня в университет и вижу перед собой номер на машине ЭКС-И-ПИ, а читаю по-русски, неприлично, но смешно; и вот что мне пришло в голову… Человек живет в иммиграции, ассимилируется, старается не выделяться из большинства, но неважно, как бы он ни старался слиться с окружающим миром, мы видим мир по-своему. Получается, чтобы интегрироваться в новый мир полностью, надо не только узнать много нового из этого мира, но и забыть, что знал до этого, а это невозможно. Я на одной вечеринке встретил профессора, он родом из России, из Санкт-Петербурга, приехал молодым, стал профессором здесь уже, говорит по-английски с тяжелым русским акцентом; меня подвели к нему, представили, как русского русскому, наивные американцы думали, что мы будем несказанно рады встретить земляка. Я представился, спросил, откуда он, а он мне ответил, даже очень резко, что сильно жалеет, что когда-либо жил в той стране, и не хочет даже вспоминать об этом. Я растерялся, что-то ответил… Но выглядел он как-то нелепо в этой ситуации со своим тяжелым русским акцентом, хотя очень успешный человек, заведует большой лабораторией, и прочее, и прочее… – Это ты у Лисы встретил? – поинтересовался Вадим Петрович. – Да, у них на кафедре то ли защита была, то ли что-то еще в этом роде, я был при ней. – Что у вас с Лисой? – Приам переводит стрелки, чтобы снять ненужную остроту темы, но я знаю, что он вернется к разговору, и вернется с неожиданной стороны. – Все по-прежнему, – вместе как бы, но не очень близко. – Чего ждете? Оба уже не дети, – заметил Приам, и вдруг начал: – Набоков, который писал «Лолиту» на английском, в самом начале, когда описывал перемещение кончика языка по небу, описал движение русского языка, точнее, движение языка, следующего русской фонетике. Я не знаю, сделал он это умышлено, как бы закодировал что-то, или непроизвольно, но факт интересный… Когда голова новорожденного проходит родовые пути, то форма головы определяется родовыми путями матери, так и наша внутренняя форма мышления определяется местом, где мы родились, хотим мы того или нет. – Вадим Петрович, Вы не перестаете меня удивлять. – Евгений, не стоит ничему удивляться. Учебный год начался, в среду ужинаем вместе? – спросил Приам. Это наша традиция, во время учебного года, по средам, мы ужинаем вместе, идем в какой-нибудь ресторанчик, по настроению, и там спокойно говорим о чем угодно: о кафедральных делах, просто о жизни, о политике, о науке, тема всегда находится. – Конечно, Вадим Петрович. Мы распрощались.
Рутина, то есть монотонно повторяющиеся события в жизни, создает иллюзию контроля над собственной жизнью, и родственную иллюзию того, что ты знаешь, что произойдет завтра, а завтра ты идешь из дома на работу, после работы домой, какие-то мелкие вибрации не меняют направления движения, а поскольку вероятность того, что завтра ты опять пойдешь на работу, очень высока, то тут и возникает ощущение, что ты знаешь, что произойдет завтра. Это, конечно же, не так. Ты едешь в поезде, точнее едет поезд и везет тебя, ты пространственно совпадаешь с поездом, но если вдруг поезд резко остановится, то ты полетишь с места кувырком по вагону. Завтра может вообще не наступить, или измениться помимо нашей воли с ног на голову, и тогда возникает абсолютное незнание того, что произойдет на следующий день, и это незнание создает ощущение, что завтра это вакуум, пустота – что совсем другая крайность. На самом деле неизвестное завтра – это не перемещение в вакуум, а выход на уже приготовленную сцену; по сценарию тебя там уже ждут люди и готовы к твоему появлению, хотя тебе кажется, что все встречи и события – это вопрос хаотичной случайности. Когда я готовился к переезду от Кати и старался это сделать опять же спокойно, без драм и сцен, я перевез все мелкие вещи, одежду, сам, на машине, не прося ни у кого помощи, старуха-процентщица разрешила начать въезжать раньше. Но тут встал вопрос дивана, – диван одному мне было не осилить. На кафедре я не хотел никому говорить, что происходит дома, и что я разъезжаюсь со своей женой, а среди соотечественников у меня не оказалось близких друзей, к кому бы я мог обратиться за помощью. Катя была на связи со всеми русскоговорящими, она знала всех, все знали ее, телефон у нее не замолкал, до расставания все мои общения были через нее, теперь общения не было. О том, чтобы просить Катю помочь, не могло быть и речи, но как выбраться из ситуации, я точно не знал. Был вариант нанять какого-нибудь бродягу за несколько долларов, что было очень неопределенно и туманно. Мысленно я перебирал всех знакомых, кого бы я мог попросить об одолжении, но все как-то не вырисовывалось. Я не был близок с этими людьми, я всегда избегал их и общался с ними по необходимости из-за Кати, теперь обращаться к ним было бы неправильно, эти люди чувствовали мое отношением к ним, я уверен, что они злорадствовали по поводу ухода Кати и смотрели на меня, как на полного лузера, поэтому обращаться к кому-то из них было бы сверхунизительно – лучше спать на полу. Время переезда подходило, а решения диванного вопроса не было, я просто перестал об этом думать. Я брел с тележкой по продуктовому магазину, соображая, что мне нужно, чтобы выжить одному, то есть нужно что-то простое в употреблении, готовить я не умел, сытное, но и здоровое. Выросши в Древней Греции, я восхищался не только их скульптурами, пьесами, поэзией, философией, но и их образом жизни, из которого и родились философия, поэзия, пьесы, скульптуры. Мне очень нравилось отношение древних к физической красоте, которая должна была гармонично резонировать с красотой внутренней: считалось позорным быть толстым и тупым. Еда тоже должна быть простая, питательная и полезная: поэтому в моей тележке лежали батон французского хлеба, самое близкое, что можно найти в американском магазине похожее на наш привычный русский хлеб, флакон оливкового масла, прозрачный пластиковый контейнер, заполненный большими черными мясистыми маринованными оливками с косточками и бутылка вина – на этом мое представление о здоровой и полезной пище в Древней Греции заканчивалось, дальше начиналась современность. Я чувствовал себя потерянным в большом продуктовом магазине, забитом неимоверным количеством всяких продуктов, и каждый вид продукта был представлен несколькими сортами, разобраться во всем этом было очень сложно. Мне надо было быть очень экономным, я возвращался на крошечную стипендию, денег было в обрез. Я ломал голову, что нужно купить еще, казалось бы, все, но все мне не нужно: как насчет кукурузных хлопьев – они могут стоять долго, полезные, питательные и их не надо готовить, к ним нужно молоко… Отлично! Я был рад прогрессу. И тут передо мной возникла мужская фигура: «Привет!» Я поднял глаза, оторвав их от полки с рядом разных кукурузных хлопьев: это был Боря Шнейдер. Когда я перебирал в голове всех соотечественников, которых я знал, Боря как-то выпал из памяти, наверное, потому что я перебирал одну группу людей, которые составляли одну компанию и были единым большинством, живущем в городе, Боря не был частью этой компании, как не был ею и я. Я встречался с Борей пару раз на больших сборищах, последний раз, когда мы виделись, мы здорово напились вместе и ржали, как сумасшедшие, весь вечер, ловя на себе косые взгляды остальных присутствующих, позже я получил нагоняй от Катьки, что мы вели себя неприлично. У Бори была репутация плейбоя, он жил один, его видели с множеством разных женщин, он много путешествовал, его суждения обо всем были неожиданные и остроумные, он был внешне привлекателен и никого из окружающих не подпускал близко к себе. Его знали очень многие из соотечественников, потому что Боря был менеджером, проще говоря домоуправом, в льготном доме для стариков, где жили многие родители наших соотечественников. О нем было много слухов, говорили, что он был на кафедре программирования в одном из очень престижных университетов в Нью-Йорке, и вдруг переехал сюда, и начал работать не в университете, а домоуправом. Он держался обособлено, появлялся на больших сборищах, но ни с кем особенно дружбы не водил. Когда я с ним познакомился, он по-человечески мне очень понравился, но у меня не было времени на дружбу, я, не разгибаясь, работал над диссертацией, оба раза, когда мы встречались, то договаривались созвониться, но это так и оставалось неосуществленным планом.
– Привет, – отозвался я, еще не решив, рад я его видеть или нет. – Я слышал, у тебя перемены в жизни. Ты же знаешь, слухи распространяются быстрее интернета, – с легкой, как бы извиняющейся усмешкой, сказал Боря. – Да, вот готовлюсь к независимому существованию, – неопределенно ответил я. – Послушай, – спокойно, без усмешки сказал Боря: – если тебе нужна какая-то помощь, или просто поговорить о всякой ерунде, то я вполне готов либо выслушать, либо поговорить. Я был в чем-то похожем, я знаю, как это может быть. Я это говорю абсолютно серьезно. Я посмотрел в Борины глаза, они были без усмешки, серьезны и в них был какой-то мягкий огонек. Борино лицо было спокойно, всегда присутствующей насмешки не было, все черты лица: длинный прямой нос, черные брови, черные короткие волосы, небольшой рот и массивный подбородок, все спокойно зависло вокруг глаз, подчеркивая их открытость и искренность. Я был один в своей ситуации, никого вокруг не было, с кем я мог бы поделиться переживаниями, мыслями или просто побыть не одному, разбавив самого себя чьим-то присутствием. – Как насчет в субботу помочь мне перевезти диван? Или ты по субботам не работаешь? – с усмешкой спросил я. – Я стараюсь не работать всю неделю, это мое кредо. Но помочь диван перевезти – дело святое. Говори, когда и во сколько, и я буду, как Майти моус, на месте. – Отлично. Спасибо. Я грузовик заказал на одиннадцать утра в субботу, давай в одиннадцать тридцать около моего, точнее Катькиного дома, – я дал ему адрес. – Все, договорились, – подытожил Боря. – Ты что обычно предпочитаешь пить после перевозки дивана? – поинтересовался я. – Всегда и везде – водку. Я однообразен. Ты о водке не беспокойся, я принесу пузырь, ты организуй закуску, или можем пойти ко мне, у меня найдется, чем закусить. – А диван тоже к тебе повезем? – передразнил его я. – Если хочешь принести водку – неси, я не большой специалист по водке, я больше по вину, но закуску я организую. И, Боря… Спасибо. В назначенную субботу мы перевезли диван. Катя была дома, мы пришли без особых разговоров, забрали тяжеленный, на железной основе, раскладывающейся вперед диван. Когда мы мучились с диваном, вынося его из квартиры, я тайком пытался подсмотреть за Катей, но ее видно не было, мне было досадно от этого, но потом в голову пришла простая мысль: для меня в этом моменте расставания есть оттенок сожаления, какой-то грусти, шесть лет жизни, обиды, как я ни пытаюсь себя разубедить в этом, а для нее – это чтобы я убрался побыстрее, чтобы она могла привести своего мужика и зажить новой счастливой жизнью.
Когда наконец мы преодолели лабиринт узкой лестницы к моей новой квартире на втором этаже, а потом еще протащили диван в спальню, мы были взмокшие и обессиленные. – Если ты будешь отсюда переезжать, то диван оставляй здесь! В любом случае, на меня можешь не рассчитывать, – задыхаясь и смеясь, сказал Боря.
И вот, наконец, расположились у окна, за небольшим раскладным столом, которые продаются в каждом магазине с раскладными четырьмя стульями в придачу. На столе стояла бутылка водки и закуска, из так называемого русского магазина, и две хрустальные рюмки моего деда, всего их уцелело пять, я все их привез с собой из Москвы, просто, как память о домашних застольях. Боря хозяйничал, он разлил водку в рюмки, набросал себе колбасы, сыра на тарелку, подцепил вилкой маринованный гриб, поднял рюмку и спокойно, глядя мне в глаза, сказал: «Из вежливости не буду тебе ни сочувствовать, ни поздравлять: что произошло, то произошло, жизнь продолжается по собственному сценарию, и все будет зае… сь,» – заключил он. – Скорее надо поздравлять, чем сочувствовать. Что не срослось, то не должно быть вместе, – философски ответил я. – Если честно, то я пока плохо соображаю, что произошло, у меня легкий ступор от неожиданности. Моя главная задача была до настоящего момента выбраться из физической близости с бывшей женой, точнее из «непосредственного физического соприкосновения с противником», потому что я боялся, что может что-то произойти непредсказуемое, – эта задача выполнена. Теперь я могу спокойно осмыслить, что случилось и почему, хотя, если честно, абсолютно честно, мне неприятно, вся ситуация очень неприятна, но в то же время все равно, где-то в глубине души. Это все, наверное, звучит достаточно абсурдно, – то ли спросил, то ли констатировал я. – Звучит как звучит, – отозвался Боря, разливая водку. – Давай, за твою свободу. Хочешь ты или не хочешь, но ты теперь свободный человек, быть свободным в жизни – это не последняя вещь, к тому же детей у вас нет, с детьми все было бы по-другому. – За свободу, – кивнул я и вылил рюмку себе в рот. Я заметил, что не чувствую вкуса водки. Боря выпил вслед и начал наливать новую дозу. – Боря, не части, – взмолился я. – Это для разгона. На самом деле, я пью редко, особенно и не с кем, так, изредка, перед обедом, но сейчас нужно набрать темп, чтобы в душе наступило легкое затишье или помутнение сознания, что тебе больше нравится. – Конечно же, помутнение сознания, – не раздумывая, ответил я. – За что пьем? За сознание или за его отсутствие? – За то, чтобы сознание работало на нас, а не мы на сознание, – изрек Боря и опрокинул рюмку водки, забросив голову назад. Я кивнул и молча выпил. – Объясни. Боря съел несколько грибков, потом положил несколько колечек салями на ломтик черного хлеба, откусил бутерброд и начал говорить. – Человек должен быть предельно честным с самим собой, тогда его сознание остается его сознанием, и работает на него, это его связь с реальностью, а когда человек начинает врать себе, подделываться под свое сознание, то сознание перестает быть сознанием, потому что расстается с реальностью, – закончил фразу Боря и опять откусил бутерброд. – В этом что-то есть, – легко согласил я. – Я врал себе, что люблю Катьку. Врал, хотя относился к ней очень хорошо, но это не была большая, как легенда, любовь. У меня в семье есть легенды о любви, один мой дед, белый офицер, остался в советской России из-за бабушки, потому что она не могла уехать, хотя понимал, что красные могут его к стенке поставить. Легенда легендой, но я помню, что они хорошо жили, не знаю, что там происходило в их жизни, были ли какие-то сбои и казусы или нет, но прожили вместе долгую жизнь, и у них были нормальные, добрые отношения. Другие дед и бабушка не прожили долго, отцовский отец был белым офицером, а материнский отец был красным командиром в гражданскую, после гражданской он женился на бабушке, работал в наркомате тяжелой промышленности у Орджоникидзе. Когда Орджоникидзе неожиданно, среди бела дня, застрелился, то сразу после этого в наркомате прошли аресты, и моего деда арестовали как заговорщика. Его расстреляли очень быстро, бабашку вызывали на Лубянку, она рассказывала, какой ужас ее охватил, рассказывала о высоких дубовых дверях, широкой лестнице, она беременная была, ее не тронули, удивительно, но факт. Бабушка была совсем молодая, когда овдовела, но замуж больше никогда не вышла, и никогда у нее никого не было, и говорила о деде всегда с большим уважением, именно уважением. Она была из семьи известного московского адвоката, а он был из городской бедноты, семья переехала из деревни в город, но, судя по бабушкиным рассказам, был человек незаурядный, сильный, порывистый, кипучий – такие бабам нравятся. Я видел у бабушки фотографию, где дед сидит на диване, откинувшись на спинку, а бабушка, моя бабушка, которая до конца дней своих строго одевалась, причесывала аккуратно волосы и если выходила из дома, то одевала туфли пусть не на высоком, но каблуке, говорила на очень правильном, я бы сказал, несколько формальном, русском языке, бабушка, которая не выносила никаких фамильярностей, моя бабушка лежала головой на коленях моего деда, положив руки тоже на его колени. Бабушка очень стеснялась этой фотографии и пыталась что-то невнятно говорить о каких-то моментах в поведении человека и что-то непонятное, запутанное. Очень трогательная фотография, особенно, если знаешь мою бабушку. Так вот получается, что с обеих сторон в семье была любовь, о которой пишут в книгах, которая идеализируется и овеивается ореолом романтизма, которая живет в семье как предание, как пример для детей, внуков, правнуков. – А как твои родители жили? – поинтересовался Боря. – Родители? Нормально, скучно, счастливые люди, никаких жизненных катаклизмов, у них были очень теплые отношения, доверительные теплые отношения. Я никогда не был свидетелем никаких скандалов или больших ссор, я никогда краем уха не слышал, чтобы у отца был какой-то роман на стороне, там секретаршу трахнул или что-то в этом роде. Мы жили в академическом доме, там много слухов распространялось, и еще одна деталь, много профессоров и академиков ездили часто отдыхать в санаторий одни, – отец только с матерью. Легенды никакой нет, но они были просто счастливые люди, тоже неплохо, как пример. Так вот к чему я все это рассказываю, к тому, что Катька в это не вписывалась, а я себе врал и уговаривал, что время другое, мы другие, – это я прямо сейчас понял. – У тебя в семье интересная вещь высвечивается, не имеющая отношения к теме разговора: твой дед-белогвардеец прожил всю жизнь при советской власти, и его не тронули, а деда-большевика свои же и расстреляли, – подытожил Боря. – Это правда, – согласился я.
Я смотрел на наш стол с нехитрой закуской, разложенной на одноразовых бумажных тарелках, и на таких же бумажных одноразовых тарелках лежали наши одноразовые пластиковые вилки и ножи, и только две хрустальные, на тонких ножках, конусообразные рюмки улавливали свет своими гранями и красовались своей неуместной изысканностью. Это были рюмки моего деда, всего пять, шестая где-то когда-то кем-то была разбита «на счастье».
– У меня тост, – вдруг сказал я, – наливай. Это наш семейный тост, я как-то забыл его совсем, наверное, из-за того, что давно не пил в кругу семьи. – Наливаю, – откликнулся Боря, показывая всем своим видом, что готов слушать. – Этот тост стал своего рода семейным преданием, он родился на маминой с отцом свадьбе, его сказал моей дед, из чьих рюмок мы сейчас выпиваем. Свадьбу отмечали дома, были только свои, самые близкие. Женился сын белого офицера, хотя к этому времени дед прошел всю войну с января сорок второго до декабря сорок шестого, и закончил войну майором Красной армии, но тем не менее… И дочь красного командира в гражданскую. На свадьбе все поздравляют молодых, как положено, желают всяческого счастья, как все нормальные люди, а мой дед встал и полушутя, полусерьезно произнес: «За окончание гражданской войны!» Эффект, судя по рассказам, был неописуемый. С тех пор первый тост на всех семейных сборищах был: «За окончание гражданской войны!» Так вот, Боря: За окончание гражданской войны!
– За окончание гражданской войны, – отозвался Боря. Мы выпили. Однако лихо меня Боря разговорил, – подумал я. Мысли были хмельные, чуть плыли в голове и как-то тяготились телом.
– Боря, ты обмолвился, что был в похожей ситуации. Рассказывай. – Интересный тост придумал твой дед. Это легенда твоих родителей, хорошая легенда. Моя история, Женя, совсем грустная, не хочется тебя нагружать, у тебя своих забот полно, – лениво отозвался Боря. Я взял бутылку и наполнил рюмки. – Боря, сегодня вечер грустных историй. Выпьем и начинай. Мы выпили без тоста, молча закусили. – Моя история не знаю точно, когда и где началась, но предыстория в семье. У меня куча родни, большая еврейская семья, и все друг с другом общаются, все близки, все лезут в дела друг друга, всегда какие-то вечные обиды, недомолвки, но, когда надо, все друг за друга, я в этом вырос. Лояльность семье самое важное. Там своя семейная история, много детей у одного портного из еврейского местечка где-то на перекрестке Украины и Белоруссии, после революции все разъехались, выучились, потом была война, кто осел в Харькове – пропали, войну не пережили, кто осел в Москве или в Свердловске – пережили войну. Кто-то воевал, кто-то был ранен, женились, рожали детей, и заметь, только на евреях, так было принято в семье. И почти все снялись и уехали в Америку, когда перестройка началась, заметь, не в Израиль, а в Америку. Я приехал в Америку, только закончил институт, программист, поступил тут же в аспирантуру, точнее, Пи Эйч Ди программу в университете в Нью-Йорке, вся семья неподалеку. Родители, двоюродные братья и сестры, троюродные, дядьки, тетки, там уже племянницы и племянники подоспели, все периодически вместе собираются, шум, галдеж, лязг, звон, детский плач, – все идет своим чередом, вся эта семейная драма… И я часть всего. И вот в университете я встречаю девочку, я не буду вдаваться в подробности, скажу только, что она была очень красивая, очень умная… – Но не еврейка? – попытался угадать я. – Если бы только… Но хуже того – мусульманка, и еще из Ирана! Когда я ее увидел, я знал, кто она и откуда, я пытался не обращать на нее внимания. Я реально понимал, что мы не пара. Но во всем было что-то необычное, я когда заговорил с ней первый раз, у меня случилась эрекция, просто от разговора. От нее исходила какая-то энергия, которая просто напрямую влияла на меня. Неважно, суть да дело, мы не просто сблизились, мы вцепились друг в друга, – это была абсолютно зеркальная взаимность. Все было прекрасно, как в сказке, персидская царевна, весь мир искрится, как в коротком замыкании. И вот я начал запускать информацию в семью, чтобы привыкали к мысли. И что тут началось! Все взбеленились, идиотская часть семьи стала абсолютно вести себя по-идиотски: угрожать, стыдить, обвинять. Более умная часть семьи стала делать заходы, типа: ну, ты пойми, что она никогда не станет частью семьи, все ее будут избегать, она будет абсолютно одна, каждая встреча будет пытка для нее и для тебя, и так далее, снова и снова. Я решил, что мне все по барабану, они пусть делают что хотят и судят как хотят, а я от нее не откажусь ни за что. Хотя я переживал все сильно, и это переживание усиливалось, естественно, родители подключились. – Как звали персидскую царевну? – поинтересовался я. – Анахита. Я звал ее Аня. Она звала меня Бараз. Моя семья доводила меня до исступления, на семейные сборища либо меня не приглашали вообще, либо приглашали одного. Глядя назад, я думаю, что я до конца не осознавал, насколько вся эта ситуация влияла на меня. И вот однажды Аня мне говорит, что решила вернуться в Иран, она закончила свой проект, и что оставаться в Америке ей больше незачем, что так будет лучше для меня, потому что вся ситуация меня извела, и это все добром не кончится. Она сказала, что если она переедет в другой штат, то это не поможет, и мы все равно окажемся вместе, и вся история продолжится. Поэтому она вернется домой, и все уляжется. Я, конечно же, возражал, но … – Что но? – Но в глубине души я почувствовал какое-то облегчение, – в этом я себе признался позже. И вот настал день, я повез Анахиту в аэропорт, и мне хотелось, чтобы все быстрей кончилось, весь этот день отъезда, вся эта семейная буря в стакане водки. Зарегистрировались на полет, сдали багаж, я весь из себя деловой, помогаю, суечусь, и вот подходим к секьюрити, время прощаться. Я посмотрел на Анино лицо, она спокойная, улыбается, но так, как я никогда до этого не видел, я посмотрел ей в глаза, и у меня в голове что-то заклинило, как парализовало волю, язык, я сам не свой, такое чувство, как будто на меня рояль падает сверху, а я не могу пошевелиться. Она поцеловала меня в губы и сказала, что для меня письмо дома, на кухне, в холодильнике, улыбнулась, повернулась и пошла к секьюрити. А я все стоял, смотрел ей в спину, пока она проходила контроль, потом она обернулась, махнула мне рукой и пошла в терминал. И вот тут на меня рояль и обрушился… Я стал звонить ей, но телефон отключен, я звонил опять и опять, – бесполезно. Потом я, как сумасшедший, слонялся по аэропорту, почему-то думал, что она может выйти обратно, в ней была такая здоровая сумасшедшинка, она любила удивлять. В итоге я поехал домой, сразу на кухню, там в холодильнике письмо. В письме было что-то вроде, я дословно не помню: «Мое письмо начинается, как начинаются письма самоубийц, если ты читаешь это письмо, то… это значит я в самолете в воздухе по дороге в Тегеран, и мы никогда не увидимся. Я сама решила так сделать, чтобы тебе было легче, мне тяжело было смотреть, как ты мучаешься. Но я надеялась до последней секунды, что ты не отпустишь меня, заставишь сдать билет или утащишь из аэропорта, пусть в самый-самый последний момент. Но раз ты читаешь это письмо, то значит, этого не случилось. Спасибо тебе за то, что я узнала, что такое любовь, ведь можно прожить всю жизнь и так этого и не узнать».
Тут я вспомнил ее глаза, перед тем как она ушла, ее последняя надежда на то, что я схвачу ее, и скажу: «Все, хватит! Пойдем домой! Или еще куда угодно, хоть на край света, но вместе». Этого не случилось. Я понял, что я сделал или не сделал. Я стал бродить по квартире, везде ее присутствие, и ее нет. Я помню, сел на кухне за наш стол и съел ее письмо, запил его водкой, а потом еще и еще водкой. Так больно мне никогда не было в жизни, эта боль, не утихая, длилась год, потом стала утихать. Зато моя семья радовалась несказанно, как будто я выздоровел от рака или что-то в этом роде. Через год я овладел собой, за этот год я думал лететь в Тегеран, не слезал с интернета, искал знакомых иранцев, – все оказалось глупости. Я смирился с ее потерей, но решил изменить жизнь: семья – это люди, которые должны поддерживать тебя в трудные минуты и должны любить тебя любого, даже если ты педофил или серийный убийца, – на то они и семья. Мои же готовы были отвернуться от меня, задолбили мне все мозги, из-за чего? Я не отрекся от них, но решил уехать подальше, университет меня больше не интересовал, в итоге я нашел эту работу. Поскольку Ромео из меня не получилось, то, как сказали классики, «переквалифицировался в управдома». Я официально заявил, что религия – это зло, это опиум для народа. Я не посягаю на Всевышнего, он здесь ни при чем, люди придумывают религии, а эти религии разобщают людей, делят людей на группы, оправдывают подлости. Теперь я живу, чтобы жить, трахаю баб, как будто они в чем-то виноваты, путешествую, стараюсь работать как можно меньше, и не буду жениться, пока не произойдет что-то необычное в моей жизни, сравнимое с тем, что я пережил. – Ты так о ней ничего и не слышал? – спросил я. – Нет, как в воду канула. – Она права была в одном – это точно, – грустно сказал я. – В чем? – Можно прожить всю жизнь, и так не узнать, какая она, любовь. Я, например, не знаю, что это такое. И, может, никогда так и не узнаю. Катька, может, узнала это, а я нет пока. Ты знаешь это, и это все-таки важно в жизни. – Да, только осознать, что ты сам просрал эту любовь… И все, самолет улетел. – Помнишь русскую народную песню про Стеньку Разина, «из-за острова на стрежень…», «и за борт ее бросает…» Княжна была персидская. Это про тебя. Твоя ситуация, за борт самолета. Цветаева написала свою интерпретацию истории, найди, прочти, стихотворение интересное. Что я тебе могу сказать, Бараз… – Не называй так меня, не надо. – Хорошо, Боря, не буду. Прости, я не хотел тебя обидеть. Что произошло в жизни, то произошло, во всем есть какой-то смысл, иногда нам непонятный. Давай выпьем за твою Анахиту-Аню, пусть у нее все будет хорошо в жизни, там в Персии-Иране, или где бы она не была, и давай выпьем за тебя, пусть и у тебя будет все хорошо, ведь жизнь продолжается. – Давай. За окончание гражданской войны. За окончание гражданской войны, – заключил Боря. Так мы с Борей стали друзьями.
У меня брямкнул телефон, пришла смска от Бори: «Жека, приходи скорее, Данила уже здесь». С Борей мы встречались довольно часто, но раз в месяц к нам присоединялся Данила-мастер. Мастер – это кличка, у нас у каждого была кличка, просто так, для смеха, я был профессор, Боря был либо Бендер, либо управдом, взаимозаменяемые варианты, а Данила был мастером, по ассоциации со сказкой, и он был действительно был мастер на все руки. Я встретил Данилу приблизительно тогда же, когда мы подружились с Борей, то есть, когда я переехал от Кати и стал жить один. Тот период ознаменовался очень интересным и новым ощущением, все мои чувства оголились, как провода, и любое прикосновение вызывало ответную реакцию. Неожиданный стресс и одиночество, неопределенность того, что будет завтра, нехватка денег, жизнь в крошечной каморке, где слышно все, что происходит в доме, а душ принимаешь, сидя в ванной и поливая себя из шланга, сняли с меня наросшие за годы жизни слои чувственного ороговения. Я проходил процесс омолаживания, когда слои прошлого опыта сползают, как змеиная кожа: жизнь в академической московской квартире в итоге сменилась на жизнь в каморке. С уходом Кати с меня смыло все окружение, все случайные, ничего не значащие люди в моей жизни исчезли, именно потому, что они ничего не значили в моей жизни, а важных и дорогих людей рядом не оказалось, и я остался один. С родителями, которые были далеко, я не хотел делиться своими проблемами, сделать они ничего не могли, а волновать их не стоило, Боря оказался единственным человеком, который занял определенное пространство в моей жизни. В остальном, мое настоящее, моя реальность сжалась и готова была раствориться в окружающем мире, к счастью, Древняя Греция расширилась и словно газовое облако расползлась по городу, зависла над озером, и проникла в мою каморку, смешиваясь со звуками скрипучей лестницы под чьими-то ногами в моем доме. И хотя я не люблю спартанцев, я вел спартанский образ жизни, спал мало, много писал и учился, бегал по утрам, ел сдержанно, а по вечерам выходил в город на прогулку. Бег и прогулка были обязательны, независимо от погоды. Единственное нормальное общение – это были встречи с Борей, который всячески пытался разрушить мой спартанский образ жизни, затащив меня в какой-нибудь бар, в надежде, что я зацеплюсь за какую-нибудь студентку, потому что по его теории, случайная половая связь – это лучшее лекарство от всего в жизни. Сам он лечился таким образом постоянно.
Я брел по вечерней набережной озера, фонари вдоль озера освещали мелкий дождь, пустота над озером распространялась на берег, людей не было, вся набережная была в моем распоряжении. Я думал о том, что сейчас в моей жизни все временно, нет ничего постоянного: место работы, место проживания и страна проживания, и это ощущение временности и неопределенности, смешанное с чувством незащищенности, распространялось и на реальность, распространялось на озеро, на горы, на улицы города, на набережную под дождливыми фонарями. И эта реальность со смесью временности дробила жизнь на минуты, часы, дни, она выделяла их из общего безымянного временного потока, радовала вкусом неповторимости и очень простого счастья прямо сейчас, ощущением самого себя в пространстве и времени. Эта временность позволяла наслаждаться настоящим безо всяких опасений и страхов за него, за него не надо волноваться или переживать, оно все равно пройдет, по отношению к нему нет никаких обязанностей, и в этом нет ничего плохого, просто так распорядилась жизнь. Все свелось к тому, что если у тебя ничего нет, и все временно, то ты сам есть самая постоянная реальность, и что барьеры между тобой и всем миром рушатся, и весь мир почти умещается на твоей груди, – так, наверное, чувствовал Одиссей, возвращаясь домой после войны. Я углубился в небольшой городской парк вдоль озера, я заметил фигуру человека у самого берега, который забрасывал спиннинг. Я всегда знал, что рыбаки чудаковатые люди. Когда я поравнялся с человеком со спиннингом, он решительно направился ко мне, оставив удило лежать на берегу. В парке фонари светили тусклее, они стояли вдоль дорожки, по которой я шел, и совсем немного света перепадало к берегу озера. Фигура человека стала более четко вырисовываться по мере его приближения. Он был одет в легкую короткую куртку, бейсбольную кепку и джинсы, двигался он быстро, почти порывисто, я остановился, чтобы он мог подойти ко мне без спешки, не волнуясь, что я его не заметил или пытаюсь уйти от него. Он вскочил в конус света от фонаря, и без улыбки, без заискивающего или чуть стыдящегося вида, какой люди часто принимают, когда просят что-то, с очень серьезным видом, как будто это вопрос жизни или смерти, громко произнес: «Эта, сорри, лайтер, до ю хэв лайтер?» Я посмотрел на человека в бейсбольной кепке: он был старше меня лет на десять, небольшого роста, подтянутый, скуластое лицо, маленькие, широко поставленные глаза, кожа на лице неровная, небольшой прибитый нос и сильная челюсть. – Я не курю, – ответил я по-русски. – О, земляк! – удивлено обрадовался человек в бейсболке. – А я вот спички в машине забыл, идти к машине неохота. Ну, да ладно. Курить охота. А ты че, вот так, один бредешь?
Мой неожиданный собеседник говорил громко, напористо, и казалось, что он выбирал самый короткий вопрос между тем, что его интересовало и потенциальным ответом, промежуточные приличия его мало волновали. – От меня жена ушла, – спокойно ответил я. Меня подкупила и чем-то раззадорила его напористая искренность, простая искренность – это то, что практически нигде не встретишь. – Да и не переживай, – успокоил меня собеседник, – раз ушла, значит – не твоя, и никогда твоей не была. От меня бабы уходили, я от жены уходил, – все успокаивается, все забывается. – А я и не переживаю, – опять спокойно ответил я. – Но гуляю один. – Тебя как зовут? Меня Даниил, или просто Данила. – Женя. Приятно познакомиться. Данила протянул мне руку, мы обменялись крепкими рукопожатиями. – Подожди, я удочку захвачу, и прогуляемся вместе. Он быстро пошел обратно к самой воде, взять свою удочку, а я смотрел ему вслед. Я здесь третий год, а Данилу не встречал. Или он здесь совсем недавно, или просто не вписывался в местную компанию. Он быстро вернулся с удочкой. – Слушай, пойдем к моей машине, я зажигалку возьму. Курить охота. – Пойдемте. – Слушай, давай на ты. – Давай, – согласился я. – Подожди, – вдруг остановился Данила. Он полез во внутренний карман куртки и вытащил оттуда плоскую флягу. Он открутил пробку: – Давай, за знакомство!
И отпил из фляжки пару глотков, и протянул фляжку мне. – Что это? – поинтересовался я. – Это классная вещь! Водка, настоянная на лимонных корках, сам делал. Я молча взял флягу, выдохнул, и, стараясь не касаться губами фляги, отпил два глотка. Напиток был хороший, он приятно проскользнул вниз, оставляя за собой шлейф цитрусового вкуса и тепла.
– Хорошая, – одобрил я искренне. – Я же говорю тебе, – обрадовался Данила. – Ты где живешь?
– Тут, совсем недалеко. – А я на Лейквью парк, – сказал Данила. Лейквью парк – это был небольшой квартал, состоящий из маленьких домиков, которые по структуре и виду напоминали строительные бытовки, только больше по размеру, это было льготное жилье для городской бедноты. Домики называются трейлеры, а люди, живущие в этих домиках, получили прозвище «трейлерный мусор», что созвучно с «бледнолицый мусор» или «красные шеи» для работяг, которые вкалывают весь день на улице, или «нигер» для черных, – я никогда не мог принять этих кличек, как бы я ни относился к данному человеку, меня коробило внутри, словно кто-то царапал гвоздем стекло, и я всегда презирал людей, которые их употребляют. Я заметил, что люди, которые стереотипно подпадают под одну из этих категорий, чаще всего употребляют эти прозвища по отношению к другим. Мы побрели от озера к улице, где была припаркована Данилина машина. Машина оказалась небольшой, частично проржавевший «Фольксваген», белого цвета, что было видно даже в темноте уличного света. Данила открыл машину обычным ключом, нырнул в машину по пояс и вынырнул с зажигалкой. Тут же прикурил от зажигалки, и было видно, что первая затяжка доставила ему несказанное блаженство. На его лице появилась довольная улыбка. – Давай еще по глоточку, – предложил Данила, доставая заветную фляжку. – Совсем почти ничего не осталось.
Он открутил крышку, чуть отпил и протянул фляжку мне. Я заколебался, не хотелось допивать последнее. – Да ладно, допивай, я обойдусь, у меня не горит, – отказался я. – Нет, давай глотни, тут всего несколько капель, так, для порядка. Я молча взял флягу и опрокинул ее в рот, оттуда вылился один крошечный глоточек. – Слушай, а давай в здешний магазин подскочим. Догонимся, – вдруг радостно предложил Данила. Я стоял под дождем на вечерней пустой улице, по которой изредка проезжали машины, выстреливая брандспойтом брызги из-под колес в окружающее пространство, тем самым нарушая ленивую монотонность падающей с неба под тяжестью собственного минимального веса воды, и все было странно, ново и непривычно. У меня в жизни пропал ритм, удары ритма сменились на равномерный поток течения, события переходили одно в другое вследствие метаморфозного изменения, поэтому движения не чувствовалось. Мой новый знакомый, распивание с ним водки из фляжки, в прежней жизни казалось просто невозможным, а сейчас это происходит в реальности, а не во сне. В моей облегченной от ненужностей жизни все воспринималось по другой шкале, Данилина искренность была настоящей. Я прочувствовал, ему не столько хотелось выпить, сколько было просто одиноко. – Ты давно здесь живешь? – поинтересовался я. – Скоро будет пять лет, – быстро ответил Данила. – Так что, в магазин подскочим? – У меня денег с собой нет, – ответил я. – Да, ерунда, у меня есть. Мы же по чуть-чуть. Возьмем по чекушке на брата и по шоколадке, и нормально. – Ну, коли ты угощаешь, то поехали, – согласился я. – Я здесь почти четыре года, а тебя раньше не встречал. – Да, я как-то ни с кем не общаюсь. По-честному, все от меня рожи воротят, я же живу в трейлер-парке, работаю на лесопилке, а все вокруг господа: кто врач, кто инженер, кто бухгалтер, кто просто где-то в офисе работает. Ты кем работаешь? – Я аспирант, диссертацию пишу в университете, – как можно скромнее ответил я. – Диссертацию по чему? – По Древней Греции. – И кем ты будешь, когда защитишься? – недоуменно спросил Данила. – Надеюсь, что преподавателем. – Ну, пока ты студент, давай выпьем, – почти серьезно сказал Данила, забираясь в машину. Мы съездили в магазин, купили по чекушке и шоколадки и вернулись к озеру, нашли столик у воды, сели на лавку, лицом к воде, опершись спинами на стол, открыли чекушки, распечатали шоколадки. – Давай, Жека, за знакомство, – произнес Данила и протянул ко мне бутылочку, чтобы чокнуться со мной.
– За знакомство, Данила, – я чокнулся бутылочкой. Мы отпили из горлышка своих чекушек. – Ты как в Вестоне оказался? – спросил Данила, прожевав шоколадку. Я коротко рассказал свою историю. – Так ты сын академика! – удивился Данила, почему-то из всего рассказа этот факт больше всего поразил его. – Да. – А я из Кемерово, автослесарь. Я машины знаю, как свои пять пальцев, я никого не знаю, кто знал бы машины лучше меня. Американцы – дебилы, машин не знают, их учат только – компьютер воткнул и все, а я могу взять палочку, к движку прислонить и прослушать клапана. Ну, неважно. Я открыл с другом автомастерскую, он занимался организацией и бухгалтерией, а я производственной частью. Большая мастерская была, как все в автосервисе, я был при всех понтах, смешно вспомнить: ондатровая шапка, на пальце гайка, значит, золотая печатка, глупости одни. Но работу мы знали четко, весь город к нам ездил на ремонт, и начальник местного КГБ, и менты, и бандюки. У меня все строго было, я был мастер, делал самые сложные вещи и смотрел, чтобы все работали быстро и хорошо. Один раз придурок один, смотрю, тянет, машина стоит разобранная, он все не чешется, я ему один раз сказал, а он: мол, все нормально будет, я знаю все. Хорошо, смотрю, дело не движется, я ему опять, а он опять тоже самое. Ладно, думаю, поглядим. Потом вижу, время подходит, уже скоро клиент придет, а движок разобран, конь там не валялся. Я его за хобот взял, отвел в сторонку, и так легонько как дал ему по бороде, а я кандидат в мастера по боксу, и говорю, чтобы к завтрашнему вечеру все было готово. Он на следующий день, сволочь, не пришел. Пришлось все самому доделывать.
Все шло хорошо, работы было выше крыши, деньги текли рекой. С женой у меня тогда отношения разладились, она сама по себе, а я сам по себе. Баб было море. Я особенно не пил, пить с работой некогда, но баб любил. Тогда же встретил и мою теперешнюю, она моложе меня на пятнадцать лет. Так вот, все было хорошо, наехали на нас, и крыша у нас была, но там у бандюков, похоже, свои разборки начались. Один раз пришли к нам двое, я одному как дал по бороде, он с копыт свалился, в полную отключку, я его дружку сказал: «Ты, давай, забирай своего другана, а то сейчас тебе тоже по бороде въеду, и тогда уже вывозить вас буду я сам. А куда я вас вывезу, там вы сами себя не найдете». Они свалили. И вот однажды, возвращаюсь домой, уже поздно, чуть под банкой, но немного, так, чуть-чуть, вышел из такси, иду к дому, вдруг из темноты выскакивает человек, прям передо мной, вижу, у него что-то в руке, и он на меня направляет, я только и успел чуть отклониться, только помню, яркая вспышка, и такая адская боль вдруг, и все, сознание потерял.
– Ты видел, кто это был? – спросил я, увлеченный рассказом Данилы.
– Нет. Темно было, и все так быстро произошло, что рассмотреть ничего не успел. Очнулся в луже крови, боль такая, что терпенья нет. Я пополз к дому, там меня кто-то заметил, скорую вызвали, отвезли в больницу. Там кровь переливали, две недели лежал без сознания, бинтами к кровати привязанный. Потом потихонечку в себя пришел. Стреляли мне в лицо из обреза дробью, но промахнулись, а то бы мне голову снесло, но в лице дробинок куча, плечо повредили, сустав до сих пор плохо работает, и ухо оглохло, а так все ничего, живой остался. – Повезло тебе, или среагировать успел, – отозвался я, пораженной всей историей. Теперь было ясно, что на лице у Данилы были не оспинки, а мелкие рубцы от дробинок. – Повезло. Поэтому я решил судьбу больше не испытывать и уехал в Америку, как турист, а здесь убежища попросил. – Дали? – Я им показал им свой рентген рожи, там столько дроби, как звезд на небе, – мне сразу убежище дали.
– Ты так и не узнал, кто в тебя стрелял? – Нет. Мне сказали, чтобы я не волновался, что разберутся. Не знаю, разобрались – не разобрались, но я решил уехать. Я помню, сидели с моим другом, с кем мы мастерскую держали, выпивали перед моим отъездом, перед нами журнальный столик, заваленный деньгами, просто гора денег. Мне друг говорит: «Ну, куда ты от этого едешь? Посмотри, сколько денег, где ты еще столько заработаешь?» Я ему тогда сказал, что второй выстрел в лицо я уже не выдержу. – Если он уговаривал остаться, значит, он не мог это организовать. Знаешь, бывает, что люди хотят быть единоличными хозяевами бизнеса. Я не хочу обидеть твоего друга, просто так, со стороны, рассматриваю разные варианты, – осторожно заключил я. – Если честно, я сам думал об этом, просто, исходя из того, что друзья проверяются не в беде, – в беде многие помогут, – а тогда, когда деньги начинают делить. Тут все и начинается, и дружба забывается. Но я не думаю, что это он, я Кормуху с детства знаю, мы вместе много всего прошли, да и потом через полтора года после моего отъезда его самого убили. Нашли на улице с пробитой головой. Так что если бы я не уехал, то меня либо бы убили, либо бы посадили. А здесь я живу хрен знает в чем, работаю на этой гребаной лесопилке, чтоб она сгорела, но зато жив, близнецы родились. Я потом свою бабу, Илону, выписал, мы здесь поженились, и у меня на старости лет близнецы родились: Антони и Айрин. Жизнь идет. – Хороший тост. Давай, за жизнь. Пусть идет, – предложил я.
– Будем живы и здоровы! – откликнулся Данила. Моя жизнь казалась серой и неприглядной по сравнению с Данилиной, он в армии служил в хоккейной команде СКА, то есть профессионально играл в хоккей, был автогонщиком, постоянно дрался с кем-то, потому что «терпеть не мог, когда кого-то обижают или какая несправедливость».
– Как в таком возрасте с близнецами справился, когда они груднички были, – поинтересовался я, – говорят, с возрастом тяжелее не спать? – Мне утром на работу, а Илонка дома с ними; они, когда ночью начинали плакать, то я поворачивался в кровати, ложился на подушку здоровым ухом, и все тихо. – Логично. Передо мной промелькнули обрывки чьей-то жизни, которая все время шла по другому направлению, чем моя линия жизни, и мы вряд ли бы пересеклись дома, мы совсем разные, и тем не менее, мы сидим попиваем водочку, закусываем шоколадками, и я чувствую, что нас что-то связывает. Мы молча смотрели в темноту над озером, озера видно не было, но было слышно, как оно плещется у берега, я представил невидимое озеро по воспоминаниям дня, его сейчас темную, невидимую поверхность, и вдруг представил его темную глубину, которая еще темней, чем поверхность, и в этой глубине, тихо плывущую в невесомости воды, рыбу. Я чуть тряхнул головой, чтобы сбросить видение. – Данила, остался совсем глоточек, на последний тост, у меня есть один тост, я потом тебе расскажу, откуда он взялся. За окончание гражданской войны! – я поднял свою чекушку. – Как скажешь, Жека, – он как-то запросто с самого начала стал называть меня Жекой: – за окончание гражданской войны. Мы выпили все, что оставалось в наших бутылочках. – Жека, причем здесь гражданская война? – спросил Данила. – Вот это я тебе скажу в следующий раз, – ответил я. Давай обменяемся телефонами, созвонимся, может, на выходных, или когда получится, встретимся, выпивка за мной, я должник. А то неудобно получается. – Да о чем ты говоришь! Какой должник? – всплеснулся Данила. – Это ерунда, хорошо посидели, познакомились. Слушай, а может еще в магазин сгоняем, ведь совсем близко, деньги у меня есть, – вдруг загорелся Данила, было видно ему не хотелось меня отпускать. – Нет, на сегодня хватит. Завтра на работу, время уже позднее, давай созвонимся, встретимся, посидим потреплемся, я тебе расскажу про тост. Мы обменялись телефонами и разошлись. Я, подвыпивший, брел домой по сырому, безлюдному городу, и в моих мыслях опять появилась рыба в темной глубине озера. Данила оказался преданный друг, но переносить его в больших количествах было тяжело.
Прошло пару месяцев, подходил мой день рождения, – это должен был быть первый день рождения, который я должен был отмечать один, в Москве было достаточно друзей, которых я приглашал, и мама всегда устраивала праздник дома, здесь Катя собирала, как оказалась, своих друзей на мой день рождения, но во всяком случае были люди. Сейчас же я жил в одиночестве, два человека, с которыми я общался, не знали друг друга, и я плохо представлял их вместе, отмечать день рождения с каждым по отдельности было неинтересно, терялось ощущения праздника, и только усиливало чувство одиночества, легче было просто не отмечать день рождения вообще. Я обмолвился об этом Боре, Боря не согласился со мной и сказал, что отмечать нужно, и что если мы соберемся втроем, где-нибудь в парке, пожарим шашлыки, выпьем, и если сибирский человек не начнет буйствовать и не отмудохает нас, то день рождения можно будет считать удавшимся, а если все закончится дракой и скандалом, то это будет памятный день рождения, – будет что вспомнить. Боря вызвался принести водку в качестве подарка, Данила, узнав о дне рождения, неимоверно возбудился и сказал, что в качестве подарка сделает шашлыки. Я сказал ему о Боре, что нас будет трое, если он хочет, то может прийти с женой, хотя в душе я надеялся, что он этого не сделает, я познакомился с ней, и желания продолжать с ней общаться совсем не было. Данила, без малейшей паузы, отверг вариант с женой: «У нее свои планы, там со своими бабами-соседками. Мы собираемся одни мужики», – заключил он. Я обеспечивал место в парке, жаровню под навесом надо было бронировать через офис, закуску, запивку, стаканы, бумажные тарелки, и, может быть, вилки. В назначенный день, в самый мой день рождения, который пришелся на вторник, то есть народу в парке вообще не было, мы собрались у нашей жаровни, которая стояла внутри открытой беседки рядом с деревянным столом. Я представил Борю и Данилу друг другу, они пожали друг другу руки, и Данила с невозмутимым видом, но с присущим ему напором, принялся за дело: угли, которые я купил в магазине, для жарки шашлыка не годились, «потому что они пропитаны всяким говном, чтобы лучше горели, поэтому он привез настоящие дрова, и угли для шашлыка – это самое главное, ветра нет и это хорошо, разжигать легче, воду он привез из родника в горах, он там всегда набирает воду для питья». И вдруг среди этой кипучей деятельности он остановился, повернулся к Боре и сказал совсем просто, как будто знал Борю всю свою жизнь: «Борисыч, ты на водке, давай открывай, пока суть да дело, надо за именинника по чуть-чуть, да и за знакомство». Боря сдержал смех, и абсолютно серьезно сказал: «Нет вопросов. Какие могут быть проблемы?» И начал открывать здоровенную бутылку «Серого гуся». Я скоропостижно открыл металлическую банку с икрой, открывал целлофановый мешочек с русским, точнее литовским, хлебом, салями, и грибочки, все приобретенное в русском магазине по случаю праздника.
Мы стояли с поднятыми хрустальными рюмками вокруг стола с закуской и с бутылкой водки, с высоты которой над всем столом парили в свободном полете гуси на этикетке. Рядом потрескивали щепки, все больше погружаясь в разгорающийся огонь костра.
– За окончание гражданской войны, – произнес тост Боря. – Сейчас же день рождения, – удивился Данила. – Это не имеет значения, – отозвался я, – он всегда первый, это как за родителей.
– Хорошо, за окончание гражданской войны, – отозвался Данила. Мы чокнулись и дружно выпили. Данила кинулся опять к огню, начал подкладывать дрова, потом принес маринованные шашлыки, две кастрюли. – Это свиные, а это говяжье, для тебя, Борисыч. Сам мариновал, специальный засол. – А ты что, свиных мне не дашь? – с тихой зловредной усмешкой спросил Боря.
Я понял, что Данила сам вошел в эту ситуацию, а Боря, конечно же, не мог пройти мимо, чтобы не повеселиться. Данила опешил. – Да, ну как же, да ради бога, ешь сколько хочешь. Я просто думал, ты не ешь свинину, пожалуйста, сколько хочешь. Я же подумал, что, а вдруг он не ест свинину, а свиные шашлыки самые вкусные, то что тогда делать, – оправдывался растерянный Данила. – Данила-мастер, свиные шашлыки самые вкусные после бараньих, – смеясь, сказал Борис, – я ем все, а пью только водку. Давай, по второй, за именинника, – предложил Борис, и разлил всем по рюмкам.
Мы выпили, и тепло холодного спирта водки растопило последний лед непонимания после знакомства. Данила положил в разгоревшийся огонь привезенные им дрова, и мы расселись вокруг стола, у нас было время поболтать, пока дрова превращались в угли для шашлыка.
– Слушай, Данила, Женька сказал, что в машинах хорошо разбираешься. У меня рулевое колесо вибрирует, недавно стало. Мне сказали, что надо все рулевое управление менять надо, а мне что-то не верится. Лажа какая-то.
– И правильно не верится, чем быстрее скорость, тем хуже вибрирует? – Да, точно, – подтвердил Боря. – Это просто, это колеса. Нужно сделать алайнмент. Жулики эти твои мастера. Иди к другим, и скажи им просто, что руль вибрирует, надо сделать алайнмент, – уверено сказал Данила. – Понял, – обрадовался Боря. – Кругом одни жулики, никому верить нельзя. – Либо жулики, либо жлобы, – я тут намедни заехал домой к своему хозяину, у него своя лесопилка, денег немерено, а дома ходит в старых носках: у них пятка протерлась, так он их перевернул дырявой пяткой вперед и так ходит. Ну, что за жлоб! И платит так же. Надоел он мне, я ему на все руки мастер, и там починю, и здесь, и на машинах лес пилю, все делаю, а он мне платит копейки. Уйду я от него в дальнобойщики, там и платят лучше, и страну посмотрю, а то сижу на его вонючей лесопилке и ничего не вижу, а он из меня все соки выжимает, платить нормально не хочет. – А революцию устроить не думал? – спросил Боря. – Какую революцию? – не понял Данила. – Социалистическую, – как ни в чем не бывало ответил Боря. – Борисыч, я не пойму, когда ты шутишь, а когда серьезно говоришь. Одну страну в жопу загнали, теперь другую загнать, что ли? И потом, я свою порцию дроби получил – с меня хватит. – Революция в России была построена на зависти, – начал развивать мысль Боря. – Так, – вмешался я, – надо повторить тост «За окончание гражданской войны».
Я разлил по рюмкам. – Я не коммунист и не большевик, но я марксист, – вполне серьезно продолжил Боря. – За окончание гражданской войны, – поднял я рюмку. Все согласились и выпили. – Люди поделены на классы. На бедных и… – Боря сделал паузу, как бы спрашивая продолжения у Данилы. – И богатых? – неуверенно ответил Данила.
– Нет, Данила. И очень-очень богатых, богатых настолько, что у них больше денег, чем в бюджете отдельных государств. Маленькая группка людей владеет основными богатствами планеты. В чем разница между человеком, живущем в трейлере, и человеком, живущем в доме за полмиллиона или семьсот тысяч баксов? В чем? – В чем? – все больше недоумевая, отозвался Данила. Я входил в такое же недоумение, как и Данила. – Да ни в чем, – спокойно ответил Боря, жуя бутерброд с икрой. – Подавляющее большинство людей, живущих в этих дорогих домах, живут в них, выплачивая ссуду банку. У кого-то своя небольшая компания, кто-то работает начальником в большой компании, но вот обстоятельства изменились, экономика упала, дела пошли в жопу, и вот ссуду банку платить нечем, дом не продается, и все, банкротство! И человек переезжает в трейлер. И вот два соседа: один живет в трейлере всю свою жизнь, а другой переехал туда из большого дома. Кто будет злее? Кстати, революцию в России делали те, кто жил в трейлерах, против тех, кто жил в больших домах, мотивированные обычной человеческой завистью. Внутри одного класса. Ну убрали анахронизм монархии, она и так бы отмерла, как в Англии. Пропасть между очень-очень-очень богатыми и всеми остальными всю глубже и глубже, вся эта глобализация, отмена пошлинных границ, позволяет супербогатым делать деньги, которые сто лет назад и не снились их предкам.
– Боря, при чем здесь хозяин Данилиной лесопилки и глобализация? – взмолился я. – Да ни при чем. Это мне так навеяло. Я подумал недавно, что все эти очень-очень богатые люди, умные люди, иначе они не были бы такими богатыми, они должны думать о том, как удержать в повиновении все эти массы копошащихся где-то там внизу, людишек. И я понял одну простую вещь; откровенно давить не получится, люди, когда задеты за живое, будут жертвовать жизнями, все, что есть, чтобы добиться справедливости, во всяком случае, как они ее понимают. Но скорее всего, могут стать разбойниками с большой дороги, просто начать охотиться, если узнают, за кем. Человек всегда к чему-то стремится, к деньгам, к свободе, счастью, к чему-то, чего у него нет. И вот возникает вопрос, как они контролируют людей, какие пути? По большому счету мне все равно, у меня чисто академический интерес. Я решил начать собирать теории заговоров, от самых фантастичных до самых реальных, придумывать самому, то, что услышу, то, что покажется подозрительным. Данила молча, не моргая, смотрел на поверхность стола, потом молча разлил водку. – Борисыч, тогда начни с теории, что евреи правят миром, – невозмутимо произнес Данила и поднял рюмку. Я засмеялся. Боря закатил глаза. – Меня никто править миром не приглашал. А знаешь, почему? Потому что денег нет. Все дело в деньгах. Все дело в деньгах. Если у тебя денег больше, чем весь бюджет какой-нибудь Буркина-Фасо, то тогда, возможно, ты будешь среди тех людей. Саудовские принцы втихаря сотрудничают с Израилем, сотрудничают с Америкой, и никакие религиозные различия никого не смущают: две политики – для толпы и для денег. И в этом вторая часть моего марксизма – интернационализм. Для меня глобализм – это когда очень-очень богатые загоняют всех в одно общее стойло, а интернационализм – когда простые люди находят общий язык.
– Ты в Бога веришь? – вдруг неожиданно спросил Данила, обращаясь к Борису. – Не знаю, честно не знаю. С религией просто – не признаю никакую. За религией трудно рассмотреть Бога, без религии трудно увидеть Бога. Я не знаю, значит, агностик.
– Атеист? – не понял Данила. – Да нет, Данила. Агностик. Человек, который не знает, есть Бог или нет. – А мне однажды Бог приснился. Несколько лет назад, я уже в Америке был. – То есть как приснился? – удивился я и насторожился одновременно. – Я Его во сне не видел как фигуру, но чувствовал, чувствовал, что он здесь со мной, знаешь, как бывает во сне, ты знаешь и все. И мне так хорошо было, я не могу тебе этого передать, – лицо Данилы расплылось в млеющей, блаженствующей улыбке, – какое-то тепло разлилось по всему телу, и чувство такого счастья, мне так хорошо никогда не было. И хотелось, чтобы так всегда было. А Он стал уходить, я Ему говорю, Господи, не уходи, пожалуйста, останься, мне так хорошо с тобой, мы с тобой бизнес откроем.
– Что??
Мы с Борей взревели в один голос, удержаться было невозможно, слишком неожиданный был поворот. – Бизнес с Богом? – Я знаю, – грустно отозвался Данила, – чего во сне не скажешь только. Очень не хотелось, чтобы он уходил. А знаешь, что он мне сказал? Еще не время. Мы перестали смеяться. Мне тогда подумалось: а нам с Борей Господь не снился.
Прошло почти десять лет с того знаменательного дня рождения, когда собралась наша троица, и как ни удивительно, но мы до сих пор вместе, мы периодически встречаемся просто поболтать, выпить водки, посмеяться от души, обменяться анекдотами. В нашей компании я был связующим звеном, Боря и Данила были связаны через меня, напрямую они общались только по делам: Данила сделал ремонт в Бориной квартире за очень уместную цену, он всегда помогал нам с машинами. Данила ушел с лесопилки и стал дальнобойщиком. Его история такова: «Один придурок с работы подходит ко мне и говорит: «фак то, фак се», а я ему говорю: «Ну че ты все материшься». А он мне: «Фак ю». Ну, я так не сильно, открытой ладонью, дал ему по уху, и ведь не сильно дал, а он стоит, так вперед наклонился, головой трясет, оглоушенный, а я думаю: «Добавить ему кулаком слева по бороде, что ли?» Но не стал, подумал, что если залупнется, то уже въеду, так чтобы с копыт слетел. Он очухался, побежал к хозяину, тот прибежал, раскричался. Я понял тогда, что надо отваливать, а то это все добром не кончится. Я сказал хозяину, что все, ухожу, так он потом просил меня не уходить, даже обещал денег прибавить, но я все – сказал, что ухожу, значит, ухожу.» Данила закончил курсы дальнобойщиков: «меня на курсах все за гения держали, потому что я знал материальную часть, как никто другой», и стал мотаться по всей стране, набираться впечатлений об Америке, и, что удивительно, он продолжать влетать в разные истории, но теперь уже на огромном грузовике с прицепом. Боря, по его словам, из управдома вырос в уважаемого управдома, продолжал заниматься половым разбоем, много путешествовал и был в отличной физической форме. Как хобби писал книгу о заговорах, по его теории, вопросы о заговорах появляются в больном обществе, и чем больнее общество, тем больше теорий заговоров. Каждая отдельная теория заговора есть отражение определенной язвы в обществе, например, теория о том, что пресса контролируется какой-то маленькой группой людей, версии разные; это могут быть евреи, масоны, несколько богатых семей, или гомосексуалисты, но все это отражает тот факт, что люди видят, что пресса врет, что их не слышат, что нет свободы слова, и так далее. Он создал вокруг себя странный мир, где правда могла оказаться враньем, а полная абсурдность оказаться правдой. Его возмущал термин «фейк-ньюз», почему это называют фейк-ньюз, когда это обычное вранье? Потому что те, кто употребляют этот термин, сами и создают эти самые фейк-ньюз, и они не употребляют слово вранье, потому что это может привести к употреблению слова «правда», а это что они просто боятся даже произнести вслух. По всему земному шару распространяется, как ядовитое облако иприта, глобальная геббельсовская пропаганда, и хотя один геббельс схлестывается с другим, правды не выражает ни один из них, она где-то между ними, как в клубке удавов констрикторов, задыхается и чахнет. Борино первое правило: ничему не верь. Правило второе: ничего не отвергай. Правило третье: проверяй первое и второе. Этот мир, где нет право и лево, верха и низа, где правдоподобная ложь и невероятная правда – безымянны, не имеют своих ярлыков, и единственное мерило правдивости – это реальный факт, этот мир стал для Бори тем же, чем для меня Древняя Греция. Только в моей Древней Греции главное – это честь, за нее не жалели жизни, и не только чужие, но и свои, а в Борином, то есть современном мире, главное это – прибыль, за которую не жалеют только чужие жизни, ведь никто не хочет жертвовать свою жизнь ради денег, мертвым деньги не нужны. Боря оставался марксистом электронного века.
Боря втянул и меня в свой мир абсурдной реальности, то есть мы соревновались в выявлении разных потенциальных заговоров, разного вранья и создания невероятных гипотез футуристического характера, куда идет этот мир. Обычно это происходило за столом. Все было как бы в шутку, но только как бы. Об Анахите мы не говорили, только однажды он сказал, что от кого-то узнал, что она в Тегеране, работает, вышла замуж, нарожала детей не то двоих, не то троих, сильно растолстела. Я тогда не очень деликатно заметил, что если бы он увидел ее сейчас, то, наверное, бы переоценил всю ситуацию с персидской княжной. Он мне тогда спокойно ответил, что отдал бы все, чтобы быть толстым мужем рядом с толстой Аней и иметь кучу детей от нее. Больше мы к этой теме не возвращались.
После расставания с Катей у меня было почти три года периода, который я назвал периодом Ахилла и черепахи, я постоянно пытался что-то догнать: защиту диссертации, грин-карту, работу, постоянное стремление куда-то и к чему-то и невозможность достичь результата мгновенно вызывало ощущение остановки времени, во мне сложилось реальное чувство, что я вне времени. Несмотря на все страхи, раздражение, связанные с моей беспомощностью, это ощущение остановившегося времени было очень эйфоричным, словно какой-то удивительный сон, можно сказать, что я жил, как во сне. Но вот я защитился, я стал PhD – это была важная ступень на моем пути куда-то, куда, я толком не знал, но это звание, полученное в уважаемом американском университете, выделяло меня из толпы людей. Теперь нужна была настоящая работа, моя программа в университете закончилась. Возвращаться обратно на родину было страшно, еще страшнее, чем оставаться в Америке. После защиты отец спросил меня, что я собираюсь делать, я ответил, что толком не знаю, что трудно искать работу в Америке без вида на постоянное жительство, я жду грин-карту. Он мне сказал, если можешь – не возвращайся: на кафедре тебя никто не ждет, я тебе помочь не могу ничем. То, что творится на кафедре, лучше не видеть и не знать, – преподаватели берут деньги за зачеты, экзамены, за курсовые. Полное безобразие, наука никому толком не нужна. Самое лучшее, на что я могу рассчитывать, это найти работу в каком-нибудь частном лицее, преподавать историю. Мне хотелось заниматься наукой, мне хотелось быть в университете. Я рассказал всю свою ситуацию Приаму, я рассказал ему про развод, про грин-карту, что мне нужна какая-то работа, пока я жду вид на жительство. Я тогда завершил свою историю словами: «Не знаю, где и когда моя одиссея закончится.» Вадим Петрович мне тогда сказал, глядя в глаза, он сказал это очень ясно и медленно: «Одиссей был наказан тем, что не мог вернуться на родину, в свой дом, вся его одиссея – это мытарство, путь на родину вопреки воле богов. Ты же можешь вернуться домой в любой момент, и больше того, ты стараешься всеми силами туда не вернуться. Так что это не одиссея.» Мне тогда стало очень стыдно и больно. «Вы правы, Вадим Петрович,» – глухо отозвался я. Мы сидели в его кабинете, он за столом, я перед ним в кресле.