Кризисы. Как зарабатывать, когда экономики рушатся бесплатное чтение
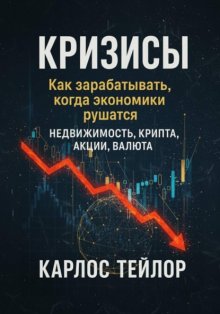
Введение. Почему кризисы – это возможности
Когда фондовые рынки падают на 30% за несколько недель, большинство людей видят катастрофу. Их сбережения тают, новости пестрят заголовками о банкротствах, друзья и коллеги обсуждают, сколько они потеряли. В такие моменты кажется, что единственный разумный вариант: продать всё, что можно, и переждать бурю с наличными под подушкой. Это понятная, естественная реакция. Но это также именно та реакция, которая отделяет тех, кто теряет капитал в кризисы, от тех, кто его создаёт.
История финансовых рынков показывает поразительную закономерность: величайшие состояния были созданы не в периоды экономического процветания, а в моменты максимального хаоса. В разгар Великой депрессии 1929 года, когда американские банки закрывались сотнями, а безработица достигала 25%, Джозеф Кеннеди увеличил свой капитал во много раз, используя короткие продажи и покупая подешевевшие активы. В 2008 году, когда рушился Lehman Brothers и мировая финансовая система оказалась на грани коллапса, хедж-фонд Джона Полсона заработал пятнадцать миллиардов долларов на ставках против ипотечного рынка. В марте 2020 года, когда пандемия COVID-19 обрушила фондовые индексы на 30% всего за месяц, тысячи частных инвесторов купили акции технологических компаний по распродажным ценам и удвоили, утроили свои вложения за год.
Эта книга родилась из простого наблюдения: кризисы неизбежны, но готовность к ним встречается редко. Каждые семь-десять лет экономика проходит через серьёзное потрясение. Это не аномалия и не результат чьих-то злонамеренных действий. Это естественная часть экономических циклов, такая же предсказуемая, как смена времён года. Бумы сменяются спадами, эйфория уступает место панике, активы дорожают до абсурдных уровней и затем возвращаются к реальности. И всё же подавляющее большинство людей встречает каждый новый кризис неподготовленными, совершая одни и те же ошибки, которые совершали их предшественники десятилетия назад.
Причина не в недостатке интеллекта или образования. Проблема в том, что экономические кризисы вызывают у нас эмоциональные реакции, которые перевешивают рациональное мышление. Страх потери активируется гораздо сильнее, чем желание заработать. Когда все вокруг паникуют, очень сложно сохранять спокойствие. Когда авторитетные эксперты говорят о конце света, трудно увидеть возможности. Наш мозг эволюционировал для выживания в саванне, где бегство от опасности было лучшей стратегией. Но на финансовых рынках инстинкт самосохранения часто работает против нас.
Статистика это подтверждает. Исследование поведения частных инвесторов во время кризиса 2008 года показало, что более 60% продали часть или все свои акции в период с сентября по декабрь, когда рынки уже упали на 40%. Они фиксировали убытки в самой низкой точке. Многие из них вернулись на рынок лишь в 2010-2011 годах, когда индексы уже восстановили большую часть потерь. Результат: они потеряли и на падении, и на росте. В то же время профессиональные фонды и опытные инвесторы покупали активы в том самом декабре 2008 года и феврале 2009 года. За последующие три года индекс S&P 500 вырос на 100%. Разница между победителями и проигравшими определилась не знанием сложных финансовых инструментов, а способностью контролировать эмоции и действовать рационально, когда все остальные теряли голову.
Возьмём другой пример. В марте 2020 года, когда пандемия только начиналась, индекс NASDAQ упал с $9000 до $6900 пунктов за три недели. Акции технологических гигантов, таких как Amazon, Apple, Microsoft, потеряли от 25-35% стоимости. Через девять месяцев эти же акции торговались на 50-80% выше мартовских минимумов. Люди, которые купили в панике марта 2020 года, заработали больше за год, чем другие инвесторы зарабатывали за пять-семь лет обычного роста. И это были не профессиональные трейдеры с Уолл-стрит. Многие из них: обычные люди, которые понимали простой принцип. Качественные компании не теряют своей ценности из-за временного шока. Если бизнес-модель сильна, активы продаются со скидкой только потому, что толпа паникует.
Но давайте будем честными: не все кризисы одинаковы, и не все активы восстанавливаются. Некоторые компании действительно банкротятся. Некоторые отрасли умирают навсегда. Сотрудники Lehman Brothers, которые держали весь свой капитал в акциях своего работодателя, потеряли всё. Инвесторы, которые покупали акции авиакомпаний в апреле 2020 года, надеясь на быстрое восстановление, держали убыточные позиции годами. Ключевое слово здесь: различение. Нужно уметь отличать временное падение качественного актива от структурного краха проблемного бизнеса. Нужно понимать, когда покупать, а когда держаться в стороне. Нужно знать, сколько риска можно принять, не угрожая своему финансовому будущему.
Именно для этого написана эта книга. Она не обещает лёгких денег. Она не даёт гарантий прибыли. Финансовые рынки слишком сложны и непредсказуемы для гарантий. Но она предоставляет то, что гораздо ценнее: понимание механизмов кризисов, проверенные временем стратегии и, что важнее всего, психологическую подготовку для действий в условиях хаоса. Потому что самый большой капитал, который вы можете иметь во время кризиса: это не деньги на счету, а ясность ума и готовность действовать, когда другие парализованы страхом.
Как читать эту книгу
Эта книга состоит из восьми глав, каждая из которых посвящена определённому аспекту кризисов и заработка в них. Структура выстроена так, чтобы сначала дать вам фундаментальное понимание природы экономических потрясений, затем показать конкретные исторические примеры, потом углубиться в психологию принятия решений и, наконец, предоставить практические стратегии и инструменты.
Первая глава анализирует анатомию экономических кризисов. Вы узнаете, что такое кризис с механической точки зрения, какие триггеры его запускают и как он развивается по предсказуемым фазам. Мы разберём Великую депрессию 1929 года, нефтяные кризисы семидесятых и азиатский кризис 1997 года. Понимание исторических паттернов критично, потому что, как говорил Марк Твен, история не повторяется, но рифмуется. Кризисы меняют форму, но механизмы остаются узнаваемыми.
Вторая глава полностью посвящена кризису 2008 года, Великой рецессии. Это ближайший к нам серьёзный финансовый шок, и он предоставляет огромное количество уроков. Мы подробно разберём, как формировался ипотечный пузырь, почему рухнул Lehman Brothers, кто и как заработал миллиарды на падении, и что произошло после того, как центральные банки начали печатать деньги триллионами. Этот кризис изменил правила игры навсегда, и важно понимать, как именно.
Третья глава рассматривает пандемический кризис 2020 года. Это был самый быстрый обвал в истории: рынки потеряли 30% за месяц. Но это было также и самое быстрое восстановление. Вы увидите, какие секторы выиграли, какие проиграли, и почему. Мы поговорим о роли криптовалют и альтернативных активов в современных кризисах. Главный урок 2020 года: скорость реакции центральных банков может полностью изменить траекторию кризиса.
Четвёртая глава, пожалуй, самая важная в книге. Она посвящена психологии кризиса. Здесь мы разбираем когнитивные искажения, которые заставляют умных людей принимать глупые решения. Эффект стадности, страх потери, якорение на прошлых ценах: всё это мешает действовать рационально. Вы узнаете о контрариантском мышлении, о том, как развить дисциплину в принятии решений и как управлять рисками, чтобы не потерять всё. Потому что самая дорогая ошибка в кризис: не упущенная прибыль, а потеря капитала, который невозможно восстановить.
Пятая глава переходит к практике. Здесь описаны четыре ключевые стратегии заработка в кризисы: инвестиции в защитные активы, покупка качественных активов на дне рынка, короткая продажа и инверсные инструменты, арбитраж на дислокациях. Каждая стратегия разбирается с конкретными примерами, цифрами доходности и, что критически важно, с описанием рисков. Универсальной стратегии не существует. Каждая подходит для определённых условий и определённого типа инвестора.
Шестая глава посвящена инструментам и активам. Акции, облигации, недвижимость, сырьевые товары, криптовалюты: что выбрать, когда покупать, как оценивать риски. Вы получите критерии отбора качественных активов и понимание того, как они ведут себя в разных фазах кризиса. Некоторые растут, когда всё падает. Некоторые дают возможность купить со скидкой. Некоторые опасны даже при видимой дешевизне.
Седьмая глава помогает подготовиться к следующему кризису. А он обязательно будет. Вопрос не в том, случится ли новый кризис, а в том, когда. Мы рассмотрим индикаторы надвигающихся потрясений: инверсия кривой доходности, переоценённость рынков, рост долговой нагрузки. Вы узнаете, как построить кризисоустойчивый портфель, создать финансовую подушку безопасности и развить навыки, которые помогут не просто пережить кризис, а использовать его.
Восьмая глава: истории успеха и провалов. Уоррен Баффетт, Рэй Далио, обычные люди, которые разбогатели в кризисы. Но также: те, кто потерял всё из-за простых, но фатальных ошибок. Чужие ошибки учат не меньше, чем чужие победы. Может, даже больше.
Важный момент: вы можете читать эту книгу последовательно от начала до конца, что рекомендуется для полного понимания контекста. Но структура позволяет также выбирать главы по интересам. Если вас интересует конкретный исторический кризис, начните с соответствующей главы. Если хотите сразу перейти к практическим стратегиям, открывайте пятую или шестую главу. Каждая глава самодостаточна, но вместе они создают комплексную картину.
Кто выигрывает в кризисы: статистика и факты
Распространённое убеждение гласит: в кризис все теряют, разница лишь в том, кто теряет больше, кто меньше. Это убеждение не просто ошибочно, оно опасно, потому что создаёт ложное чувство безвыходности. Реальность прямо противоположна: кризисы перераспределяют богатство, но не уничтожают его. Деньги не исчезают, они переходят от одних людей к другим. От тех, кто продаёт в панике, к тем, кто покупает со скидкой. От тех, кто держит слабые активы, к тем, кто выбирает качество. От большинства к меньшинству.
Давайте посмотрим на цифры. Во время кризиса 2008 года индекс S&P 500 упал с максимума в октябре 2007 года на 57% к минимуму в марте 2009 года. Средний американский домохозяйство потеряло около 38% своего состояния. Но за тот же период Джон Полсон заработал двадцать миллиардов долларов для своих инвесторов и четыре миллиарда лично для себя. Уоррен Баффетт инвестировал пять миллиардов в Goldman Sachs и три миллиарда в General Electric на пике паники, получив привилегированные акции с высокими дивидендами. Через несколько лет эти инвестиции принесли прибыль в сотни процентов. Хедж-фонды, специализирующиеся на бедственных активах, покупали облигации обанкротившихся компаний за десять-двадцать центов на доллар и получали полную стоимость после реструктуризации.
Но это не только история мегабогатых. Исследование брокерской компании Fidelity показало, что её клиенты, которые не продавали акции во время кризиса 2008-2009 годов и продолжали регулярно инвестировать через пенсионные планы, восстановили потери уже к 2011 году. К 2013 году их портфели показывали прибыль выше докризисных уровней. Те, кто продал на дне и вернулся позже, до сих пор отстают. Простое бездействие оказалось лучше паники.
Ещё интереснее статистика по тем, кто активно использовал возможности. Частные инвесторы, которые увеличили вложения в акции в первом квартале 2009 года, когда рынки были на дне, заработали в среднем 100% за два года. Те, кто покупал конкретные недооценённые акции качественных компаний, зарабатывали 300-500%. Акции Apple, купленные в начале 2009 года по двенадцать долларов, к 2012 году стоили семьдесят долларов (с учётом сплита). Amazon с пятидесяти долларов вырос до трёхсот. Bank of America с трёх долларов поднялся до пятнадцати. Это не экзотические стартапы и не сверхрисковые ставки. Это крупнейшие публичные компании мира, которые были доступны любому человеку с брокерским счётом.
Пандемический кризис 2020 года дал ещё более яркие примеры. Когда в марте индексы обрушились, многие начинающие инвесторы, особенно молодые люди, впервые открыли брокерские счета и начали покупать акции. Платформы типа Robinhood зафиксировали рост числа пользователей на 60%. Эти новички покупали акции технологических компаний, которые упали вместе со всем рынком, но имели сильные бизнес-модели. К концу года многие из них удвоили и утроили свои вложения. Акции Zoom выросли с шестидесяти долларов в марте до пятисот пятидесяти к октябрю. Tesla с трёхсот пятидесяти (с учётом сплита) до семисот. Nvidia с шестидесяти до ста двадцати.
Конечно, не все из этих новых инвесторов сделали правильные выборы. Многие покупали мемные акции или высокорискованные компании и потеряли деньги. Но общий паттерн ясен: кризис создал возможности для тех, кто был готов действовать, пока другие боялись.
Интересная статистика приходит из академических исследований. Экономисты Калифорнийского университета проанализировали поведение более миллиона частных инвесторов за период с 2000 по 2015 год, включая два крупных кризиса. Результаты показали, что 10% инвесторов стабильно получали доходность выше рыночной. Не за счёт особых знаний или инсайдерской информации, а за счёт дисциплины и контрариантского подхода. Они покупали, когда большинство продавало, и наоборот. Их средняя доходность превышала рыночную на 4-5% ежегодно. За 20 лет это разница между портфелем в 500 тысяч и портфелем в 1200000 при одинаковых начальных вложениях.
Другое исследование, проведённое банком JPMorgan, показало, что инвесторы, которые пропустили десять лучших дней роста на рынке за двадцать лет, получили доходность вдвое ниже, чем те, кто просто держал позиции. Проблема в том, что эти лучшие дни часто случаются сразу после худших дней, в периоды максимальной волатильности. Инвесторы, которые продали в панике и ждали стабильности, пропустили восстановление. Тайминг рынка оказался гораздо сложнее, чем просто оставаться в рынке.
Но самая важная статистика касается распределения богатства. После каждого крупного кризиса разрыв между богатыми и всеми остальными увеличивается. Это не конспирология, а математика. Состоятельные люди имеют больше капитала для покупки активов на дне. Они меньше зависят от текущего дохода и могут позволить себе ждать. У них есть доступ к лучшим финансовым советникам и инструментам. Но главное: они понимают, что кризис: это возможность, а не катастрофа. После кризиса 2008 года доля богатства, принадлежащая верхнему одному проценту в США, выросла с 34 до 40%. После 2020 года эта цифра достигла 43%. Средний класс, который продавал активы в панике или не имел капитала для инвестиций, остался позади.
Это не повод для цинизма, а повод для действия. Эта книга написана именно для того, чтобы дать обычным людям знания и инструменты, которые раньше были доступны только профессиональным инвесторам и состоятельным семьям. Разрыв в богатстве растёт не потому, что богатые имеют доступ к секретным стратегиям. Он растёт потому, что они понимают механизмы рынков и контролируют эмоции. Эти навыки можно развить. Эти знания можно получить.
История показывает ещё один важный факт: многие из сегодняшних богатых людей создали своё состояние именно в кризисы. Джон Темплтон начал свою карьеру, купив акции всех компаний, торгующихся ниже доллара, в начале Второй мировой войны. Его первоначальная инвестиция в 10 тысяч долларов превратилась в 40 тысяч за четыре года. Это стало основой его будущей империи. Карл Икан заработал первые миллионы в кризис семидесятых, покупая недооценённые компании и проводя реструктуризацию. Рэй Далио создал Bridgewater Associates после нефтяного кризиса, понимая, что волатильность создаёт возможности для хедж-фондов.
Даже в более близкие нам времена: основатели многих успешных технологических компаний начинали в кризисы. Airbnb запустился в разгар кризиса 2008 года, когда люди искали способы дополнительного дохода. Uber появился в 2009-м. WhatsApp в 2009-м. Эти компании использовали структурные изменения, вызванные кризисом: безработицу, поиск дешёвых альтернатив, распространение смартфонов. Кризис не остановил инновации, он ускорил их в определённых направлениях.
Важно понимать: речь не идёт о том, чтобы радоваться чужим несчастьям. Кризисы приносят реальные страдания реальным людям. Безработица, потеря домов, разрушенные пенсионные планы: всё это реально и болезненно. Но факт остаётся фактом: каждый кризис создаёт новое поколение богатых людей. Вопрос в том, окажетесь ли вы среди них или среди тех, кто потерял. Это зависит не от удачи и не от стартового капитала. Это зависит от знаний, подготовки и способности действовать рационально в хаосе.
Эта книга даст вам эти знания. Она покажет, как выигравшие в прошлых кризисах использовали возможности. Она научит вас распознавать паттерны, управлять рисками и принимать решения, когда вокруг паника. Она не превратит вас в миллиардера за одну ночь. Но она может изменить вашу финансовую траекторию, если вы будете применять эти знания.
Следующий кризис уже идёт к нам. Может, он случится через год, может через пять лет. Но он обязательно будет. Индикаторы накапливаются: высокие оценки рынков, растущая долговая нагрузка, геополитические риски, технологические сдвиги. Когда он придёт, большинство людей снова запаникует, снова будет продавать на дне, снова будет совершать те же ошибки. Но вы, дочитав эту книгу, будете знать, что делать. Вы будете готовы не просто пережить кризис, а использовать его. Потому что кризис: это не конец возможностей. Кризис: это их начало.
*Графики в книге предоставлены сервисом tradingview.com
Глава 1. Анатомия экономических кризисов
1.1 Что такое экономический кризис: механизмы и триггеры
Когда в марте 2020 года фондовые индексы обрушились на 30% за считанные недели, миллионы людей впервые в жизни столкнулись с настоящим экономическим кризисом. Их портфели таяли на глазах, новости пестрели заголовками о крахе, а в воздухе висел знакомый по учебникам истории запах паники. Но что именно происходило в эти моменты? Почему экономика, которая ещё вчера казалась стабильной, вдруг начала разваливаться? И главное – почему некоторые люди не просто пережили эти потрясения, но и сумели на них заработать?
Экономический кризис – это не просто абстрактное понятие из новостей и не случайная природная катастрофа, которая обрушивается на мир без предупреждения. Это закономерный, хотя и болезненный, этап развития любой экономической системы. Представьте себе лесной пожар – да, он разрушителен, но после него почва становится плодороднее, а новые деревья растут быстрее. Кризис выполняет похожую функцию в экономике, сжигая неэффективные компании, раздутые оценки и плохие долги, расчищая место для нового роста. Проблема в том, что большинство людей оказываются не готовы к этому огню и теряют всё, вместо того чтобы использовать обновлённую почву для посева своего будущего благосостояния.
В самом простом определении экономический кризис – это резкое и значительное снижение экономической активности, которое затрагивает все или большинство секторов экономики и длится достаточно долго, чтобы причинить серьёзный ущерб. Но за этим сухим определением скрывается драматическая история разрушенных надежд, потерянных сбережений и упущенных возможностей. А также история тех, кто сумел увидеть в хаосе порядок и превратить крах в капитал.
Любой кризис, будь то Великая депрессия 1929 года или пандемический обвал 2020-го, проходит через четыре отчётливые фазы. Понимание этих фаз даёт инвестору огромное преимущество, потому что позволяет не только защитить капитал, но и заработать на каждом этапе. Это как знать прогноз погоды перед выходом в море – вы можете подготовиться, изменить курс или даже использовать попутный ветер себе на пользу.
Первая фаза – это зарождение кризиса, момент, когда в экономике накапливаются дисбалансы, но почти никто их не замечает. В эти месяцы или даже годы люди чувствуют себя прекрасно, рынки растут, компании демонстрируют рекордные прибыли, а заголовки газет трубят о новой эре процветания. Именно в эти моменты закладываются бомбы замедленного действия, которые взорвутся позже. Перед кризисом 2008 года американцы с плохой кредитной историей получали ипотеку на дома, которые не могли себе позволить, банки упаковывали эти токсичные кредиты в сложные финансовые инструменты и продавали их по всему миру, а рейтинговые агентства щедро раздавали этим продуктам высшие оценки надёжности. Все участники процесса зарабатывали деньги, все были довольны, и мало кто задумывался о том, что произойдёт, когда заёмщики не смогут платить по счетам. Это классический пример фазы зарождения – дисбаланс есть, но его никто не видит или не хочет видеть, потому что текущая ситуация слишком выгодна.
Опытные инвесторы учатся распознавать признаки зарождающегося кризиса. Они обращают внимание на определённые индикаторы, которые мы подробно разберём в седьмой главе, но уже сейчас важно понять главное – кризис не появляется из ниоткуда. Всегда есть предупреждающие сигналы, вопрос только в том, умеете ли вы их читать и готовы ли действовать, когда все вокруг уверены, что вечеринка никогда не закончится.
Вторая фаза – паника, самый драматичный и запоминающийся период любого кризиса. Что-то ломается в экономической системе, и внезапно все осознают, что король-то голый. Крупный банк объявляет о банкротстве, значимая компания рушится, валюта резко обесценивается – и начинается цепная реакция. Страх распространяется быстрее любого вируса, инвесторы начинают паниковать и продавать всё, что можно продать. Цены обваливаются, причём часто падают даже качественные активы, потому что люди просто хотят выбраться из рынка любой ценой. Вспомните сентябрь 2008 года, когда банк Lehman Brothers обанкротился и за несколько недель рынки потеряли более трети своей стоимости. Или март 2020-го, когда пандемия коронавируса привела к самому быстрому падению в истории – фондовые индексы рухнули на 30% за какие-то три недели.
В фазе паники большинство людей совершают свои самые дорогостоящие ошибки. Они продают активы на самом дне, фиксируя убытки, потому что уверены, что завтра будет ещё хуже. Они слушают экспертов, которые предсказывают конец света и новую Великую депрессию. Они теряют способность мыслить рационально, потому что эмоции полностью захватывают контроль. Но именно в эти моменты создаются величайшие состояния. Уоррен Баффетт не зря говорит, что нужно быть жадным, когда другие боятся. В фазе паники качественные активы продаются с огромными скидками, потому что все хотят избавиться от риска. Если у вас есть капитал, нервы и понимание того, что происходит, вы можете купить доллар за пятьдесят центов.
Ключевой момент в понимании паники – она всегда временна. Когда кажется, что мир рушится, на самом деле рушатся лишь завышенные ожидания и иллюзии. Реальная экономика, реальные компании, создающие продукты и услуги, которые нужны людям, продолжают работать. Да, они могут временно пострадать, да, некоторые из них не переживут кризис, но лучшие выживут и станут ещё сильнее. История показывает, что каждый кризис заканчивается, и те, кто сохраняет холодную голову в фазе паники, получают возможность заработать больше, чем за десятилетия спокойного роста.
Третья фаза – дно кризиса, момент максимального отчаяния и минимальных цен. Парадокс в том, что дно почти никогда не определяется в режиме реального времени. Только спустя месяцы можно посмотреть назад и сказать – вот оно, это была самая низкая точка. В марте 2009 года, когда индекс S&P 500 опустился до отметки 666 пунктов, мало кто понимал, что это было дно кризиса 2008 года. Большинство экспертов продолжали предрекать дальнейшее падение, газеты писали о конце капитализма, а люди держали свои деньги в наличных, боясь вкладывать в рынок. Те же, кто набрался смелости и начал покупать акции качественных компаний в том страшном марте, получили возможность заработать сотни процентов прибыли в последующие годы.
Дно кризиса характеризуется несколькими признаками, хотя ни один из них не является абсолютно надёжным индикатором. Обычно к этому моменту плохие новости уже полностью отражены в ценах – рынки перестают падать даже на негативные заголовки. Волатильность достигает пика, цены мечутся вверх-вниз с огромной амплитудой. Наконец, появляются первые признаки стабилизации в реальной экономике – замедляется рост безработицы, центральные банки и правительства объявляют о масштабных программах поддержки, некоторые индикаторы начинают показывать первые признаки улучшения.
Но самый надёжный признак дна – это всеобщий пессимизм. Когда даже самые оптимистичные комментаторы начинают говорить о многолетней рецессии, когда люди клянутся, что никогда больше не будут инвестировать в акции, когда страх настолько силён, что парализует любые действия – скорее всего, худшее уже позади. Рынки всегда разворачиваются раньше, чем реальная экономика, потому что они торгуют ожиданиями будущего, а не текущей реальностью. Когда ожидания достигают предельно негативных значений, единственное направление движения – вверх.
Четвёртая фаза – восстановление, период, когда экономика начинает выбираться из ямы, а рынки демонстрируют впечатляющий рост. Эта фаза может длиться годами и приносит огромную прибыль тем, кто имел мужество войти в рынок на дне или вскоре после него. После кризиса 2008 года началось одно из самых длинных восстановлений в истории – американский фондовый рынок рос почти одиннадцать лет подряд, прибавив более 300% к уровням 2009 года. Те, кто купил акции на дне, превратили каждую вложенную тысячу долларов в четыре тысячи. Те, кто ждал лучших времён или убедительных доказательств восстановления, упустили большую часть этого роста.
Восстановление редко бывает гладким. Обычно рынки растут рывками, с откатами и периодами сомнений. На каждом откате появляются пророки новой катастрофы, утверждающие, что это лишь передышка перед следующим обвалом. Такие голоса были особенно громкими в 2010-2011 годах, когда многие считали, что восстановление после кризиса 2008 года – это иллюзия, созданная политиками, и скоро всё снова рухнет. Но рынки продолжали расти, компании восстанавливали прибыльность, экономика набирала обороты. Те, кто вышел из позиций, поверив пессимистам, навсегда упустили одну из лучших возможностей для заработка в своей жизни.
Понимание этих четырёх фаз критически важно, потому что позволяет инвестору сориентироваться в хаосе и принять правильное решение. Если вы видите признаки зарождающегося кризиса, можно постепенно снижать риск в портфеле, продавать переоцененные активы и накапливать денежную позицию. Если началась паника, нужно держать руки на пульсе, но не поддаваться эмоциям. Если есть основания полагать, что достигнуто дно, пора начинать покупать. А на фазе восстановления важно удержать позиции и не продать слишком рано, испугавшись очередного отката.
Теперь давайте разберёмся с типами кризисов, потому что не все кризисы одинаковы, и каждый требует своего подхода. Финансовые кризисы связаны с проблемами в банковской системе и на финансовых рынках. Классический пример – кризис 2008 года, который начался с ипотечного рынка США, но быстро распространился на всю мировую финансовую систему. Банки накопили огромное количество плохих долгов, упакованных в сложные финансовые инструменты, и когда пирамида рухнула, оказалось, что многие крупнейшие финансовые институты технически банкроты. Люди потеряли веру в банковскую систему, начался отток депозитов, и без массированного вмешательства правительств и центральных банков катастрофа могла бы быть гораздо масштабнее.
Финансовые кризисы особенно опасны, потому что современная экономика полностью зависит от кредита. Когда банки перестают кредитовать, бизнесы не могут финансировать текущую деятельность, потребители не могут брать займы на покупки, вся экономическая машина начинает буксовать. Но для инвестора финансовый кризис создаёт уникальные возможности. Качественные банковские акции, которые были сброшены в панике, могут приносить многократную прибыль, когда система стабилизируется. Джон Полсон заработал пятнадцать миллиардов долларов, играя против ипотечного рынка в 2007-2008 годах, а затем многие инвесторы заработали миллиарды, покупая финансовые акции на дне кризиса.
Долговые кризисы возникают, когда заёмщики – будь то компании, домохозяйства или целые страны – накопили слишком много долгов и не могут их обслуживать. Европейский долговой кризис 2010-2012 годов показал, как опасны могут быть такие ситуации. Греция, Испания, Португалия, Италия оказались на грани дефолта, потому что накопили государственные долги, которые не могли выплатить. Рынки сомневались в выживании самого евро, процентные ставки по облигациям проблемных стран взлетели до немыслимых высот, а простые греки столкнулись с закрытием банков и ограничениями на снятие наличных.
Долговые кризисы обычно развиваются медленнее финансовых, но могут быть более затяжными и болезненными. Проблема долга не решается быстро – нужны годы жёсткой бюджетной экономии, структурные реформы, часто списание части обязательств. Для инвестора важно понимать, что не все долги равны. Долг в собственной валюте, которую может печатать центральный банк, гораздо менее опасен, чем долг в иностранной валюте. Именно поэтому США могут позволить себе гигантский государственный долг без риска дефолта, а развивающиеся страны с гораздо меньшими долгами регулярно попадают в кризисы.
Валютные кризисы происходят, когда национальная валюта резко теряет в стоимости, что может разрушить экономику за считанные недели. Азиатский кризис 1997 года начался именно так – тайский бат рухнул за один день, спровоцировав цепную реакцию по всей Азии. За несколько месяцев валюты Таиланда, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии и Филиппин потеряли от 30 до 80% своей стоимости против доллара. Компании, которые брали кредиты в долларах, внезапно обнаружили, что их долг вырос в два-три раза в пересчёте на местную валюту. Банкротства посыпались как домино, безработица взлетела, а миллионы людей скатились в бедность.
Валютные кризисы особенно жестоки, потому что ударяют по самой основе экономики – деньгам, которыми пользуются все. Когда ваши сбережения теряют половину покупательной способности за месяц, когда импортные товары становятся недоступно дорогими, когда зарплата обесценивается буквально на глазах – это создаёт огромный социальный стресс. Но и здесь есть возможности для подготовленных инвесторов. Те, кто держал активы в долларах или других устойчивых валютах, не только сохранили капитал, но и получили возможность скупать местные активы по бросовым ценам. Валютный кризис делает экспорт из страны сверхконкурентоспособным, что может привести к быстрому восстановлению ориентированных на экспорт компаний.
Структурные кризисы – самые сложные и долгие, потому что связаны не с временными проблемами, а с фундаментальными изменениями в экономике. Нефтяные кризисы 1970-х годов были именно такими. Мир внезапно осознал, что эра дешёвой энергии закончилась, что развивающиеся страны могут диктовать условия, что нужны глубокие структурные изменения в экономике. Результатом стала стагфляция – редкое и мучительное сочетание экономической стагнации с высокой инфляцией, с которым экономисты не знали, как бороться. Традиционные методы не работали, и потребовались годы болезненных реформ, чтобы экономика приспособилась к новой реальности.
Структурные кризисы требуют от инвестора способности видеть долгосрочные тренды и понимать, какие отрасли умирают, а какие рождаются. В 1970-х годах энергоэффективность стала ключевым фактором конкурентоспособности, и те компании, которые поняли это раньше других, получили огромное преимущество. Золото выросло в двадцать раз за десятилетие, став лучшей защитой от инфляции. А инвесторы, которые продолжали держать акции газожорливых компаний, понесли тяжёлые убытки.
Важно понимать, что на практике кризисы редко бывают чистыми представителями одного типа. Обычно они сочетают элементы разных видов, что делает ситуацию ещё более сложной. Кризис 2008 года был одновременно финансовым, долговым и частично структурным. Азиатский кризис 1997 года начался как валютный, но быстро перерос в финансовый и долговый. Умение распознать, какие элементы преобладают в конкретном кризисе, помогает выбрать правильную стратегию действий.
Центральные банки и правительства играют ключевую роль в развитии и разрешении кризисов, и понимание их действий критически важно для инвестора. По сути, центральный банк – это пожарная команда экономики. Когда начинается пожар, все смотрят на него и ждут, что он будет делать. Главные инструменты центральных банков – процентные ставки, печатание денег и регулирование банковской системы. Когда экономика перегревается и накапливаются дисбалансы, центробанк повышает ставки, делая кредит дороже и охлаждая экономику. Когда начинается кризис, он резко снижает ставки, иногда до нуля, пытаясь стимулировать заимствования и траты.
Но главное оружие в борьбе с серьёзным кризисом – это количественное смягчение, программы выкупа активов, когда центробанк начинает печатать деньги и покупать облигации или другие активы. Это прямое вливание ликвидности в систему, которое должно предотвратить коллапс. После кризиса 2008 года Федеральная резервная система США напечатала несколько триллионов долларов, выкупая облигации. Многие предрекали гиперинфляцию, но она не наступила, по крайней мере не сразу. Зато цены на акции и недвижимость взлетели, создав то, что критики называют инфляцией активов.
Для инвестора действия центрального банка – это важнейший индикатор направления движения рынков. Знаменитая фраза "не борись с Федрезервом" означает именно это: когда центробанк печатает деньги и льёт ликвидность в систему, акции будут расти, даже если фундаментальные показатели экономики слабые. Когда он начинает повышать ставки и сокращать свой баланс, рынки оказываются под давлением. Умение читать сигналы центральных банков, понимать их намерения по публичным заявлениям и действиям даёт огромное преимущество.
Правительства дополняют действия центробанков фискальными стимулами – прямыми расходами, снижением налогов, программами поддержки пострадавших отраслей. В кризис 2020 года правительства по всему миру выделили триллионы на прямые выплаты гражданам, поддержку бизнеса, расширение пособий по безработице. Это помогло избежать социальной катастрофы, но также создало огромный навес денежной массы, который в конечном итоге привёл к инфляционному всплеску 2021-2022 годов.
Критическое понимание для инвестора – политики будут делать всё возможное, чтобы предотвратить крах системы. Они напечатают любое количество денег, выкупят любые активы, национализируют банки, если потребуется. Ставки слишком высоки, последствия бездействия слишком катастрофичны. Это не значит, что кризисов можно избежать – дисбалансы всё равно должны быть разрешены. Но это значит, что системный коллапс маловероятен. Это важно помнить в фазе паники, когда кажется, что мир рушится. Власти не допустят полного краха, и как только рынки это понимают, начинается разворот.
История экономических кризисов показывает удивительные паттерны – одни и те же ошибки повторяются снова и снова, одни и те же механизмы запускают кризис за кризисом. Великая депрессия 1929 года была вызвана спекулятивным пузырём на фондовом рынке и последующим кредитным сжатием. Кризис 2008 года – пузырём на рынке недвижимости и кредитным сжатием. Азиатский кризис 1997 года – избыточным заимствованием в иностранной валюте и последующим кредитным сжатием. Видите паттерн? Сначала накапливается слишком много долга, обычно подпитываемого спекулятивным пузырём в каком-то активе, затем пузырь лопается, начинается паника, кредит пересыхает, и экономика рушится.
Финансовый гуру Хайман Мински сформулировал теорию, которая объясняет этот повторяющийся паттерн. В периоды стабильности люди забывают о рисках и начинают брать всё больше долгов. Сначала консервативно, под качественное обеспечение. Но по мере того как время идёт без кризисов, аппетит к риску растёт. Люди начинают брать займы под сомнительные активы, под будущие доходы, которые ещё не получены, даже под растущие цены самих активов, которые покупаются на эти займы. В конце концов система становится настолько хрупкой, что малейший шок приводит к краху. Должники не могут платить, кредиторы несут убытки, начинается паника, все хотят вернуть свои деньги одновременно, и пузырь схлопывается.
Этот цикл повторялся десятки раз в истории. Тюльпановая мания в Голландии семнадцатого века, пузырь Южных морей в Англии восемнадцатого, железнодорожная мания девятнадцатого, пузырь доткомов конца девяностых – одна и та же история с разными действующими лицами. Людям кажется, что на этот раз всё по-другому, что новые технологии или новые финансовые инструменты изменили правила игры. Но фундаментальная человеческая психология не меняется – жадность и страх, эйфория и паника, иллюзия контроля и бегство в безопасность. Эти эмоции гнали рынки столетия назад и продолжают гнать сегодня.
Для инвестора понимание этих паттернов – мощный инструмент. Когда вы видите признаки формирования пузыря – взрывной рост цен на какой-то актив, массовое увлечение им в медиа и соцсетях, истории о лёгких деньгах, оправдания о том, что старые правила больше не работают – можно быть уверенным, что история повторяется снова. Это не значит, что нужно немедленно продавать всё и прятать деньги под подушку. Пузыри могут раздуваться гораздо дольше, чем кажется разумным, и расти гораздо выше, чем представляется возможным. Но это значит, что нужно быть начеку, постепенно снижать риск, готовить денежную позицию для покупок на будущем дне.
Другой повторяющийся паттерн – недооценка риска в спокойные времена и переоценка его в кризис. Перед каждым крахом люди убеждены, что большого падения быть не может, что центральные банки контролируют ситуацию, что экономика слишком сильна. После краха они уверены, что восстановления не будет никогда, что наступила новая эра депрессии, что инвестировать в акции смертельно опасно. Обе крайности ошибочны. Реальность обычно находится где-то посередине, но человеческая психология тянет нас к экстремумам. Контрарианское мышление – способность идти против толпы именно в эти критические моменты – это то, что отличает успешных кризисных инвесторов от остальных.
Ещё один исторический паттерн – кризисы часто начинаются на периферии и распространяются к центру. Азиатский кризис 1997 года начался в Таиланде, небольшой развивающейся экономике, и мало кто думал, что он затронет весь мир. Но через эффект заражения кризис распространился на другие азиатские страны, потом на Латинскую Америку, потом на хэдж-фонды вроде Long-Term Capital Management в США, который пришлось спасать, чтобы не рухнула вся финансовая система. Кризис 2008 года начался с субстандартной ипотеки, небольшого сегмента американского рынка недвижимости, и превратился в глобальную катастрофу. Инвесторы, которые думали, что проблемы где-то далеко их не коснутся, жестоко ошибались.
Это учит важному уроку – в современном глобализованном мире изоляция невозможна. Финансовые рынки связаны тысячами нитей, банки кредитуют друг друга через границы, инвесторы держат активы по всему миру. Когда начинается кризис в одном месте, паника передаётся мгновенно. Но это также означает, что восстановление тоже становится глобальным. Когда центральные банки ведущих стран начинают печатать деньги и стимулировать экономику, эти деньги растекаются по всему миру, поднимая рынки везде.
Последний ключевой паттерн – скорость кризисов растёт. Великая депрессия разворачивалась годами, от краха 1929-го до дна 1933 года прошло четыре года. Кризис 2008 года от пика до дна занял полтора года. Кризис 2020 года – всего один месяц. Современные коммуникации, алгоритмическая торговля, глобальная интеграция рынков ускоряют всё – и падение, и восстановление. Это делает кризисы более волатильными и непредсказуемыми в краткосрочной перспективе, но также означает, что возможности появляются и исчезают быстрее. Инвестор, который медлит, может упустить лучшие точки входа.
Понимание механизмов и триггеров экономических кризисов не превращает вас в провидца, способного точно предсказать следующий обвал. Такой способности нет ни у кого, все эксперты, которые громко заявляли о предсказании прошлых кризисов, обычно умалчивают о десятках своих ошибочных прогнозов. Но понимание даёт вам контекст для принятия решений. Вы перестаёте паниковать, когда рынки падают, потому что знаете, что это нормальная фаза цикла. Вы начинаете видеть возможности там, где другие видят только катастрофу. Вы понимаете, когда власти сделают всё возможное для спасения системы, и можете рассчитывать на это в своих стратегиях.
Кризисы будут повторяться всегда, это неизбежная часть экономического цикла. Вопрос не в том, случится ли следующий кризис, а только в том, когда он случится и будете ли вы готовы использовать его для своего обогащения. История показывает, что каждый кризис создавал миллионеров – из тех, кто сохранял спокойствие, понимал происходящее и имел смелость действовать, когда другие замерли в страхе. В следующих главах мы разберём конкретные примеры исторических кризисов, поймём, кто и как на них заработал, и научимся применять эти уроки к собственным инвестиционным решениям. Потому что знание без действия бесполезно, а действие без знания опасно. Но знание, подкреплённое правильными действиями в правильный момент, превращает кризис из угрозы в величайшую возможность вашей жизни.
1.2 Великая депрессия 1929 года: уроки столетней давности
Двадцать четвёртое октября 1929 года начиналось как обычный четверг для миллионов американцев. Секретарь из Чикаго Элизабет Харрисон собиралась на работу, мысленно планируя, как потратит прибыль от акций, которые выросли за последние месяцы на 40%. Владелец небольшой типографии Джон Миллер уже подсчитывал, сколько ещё нужно заработать на бирже, чтобы открыть второй офис. Даже чистильщик обуви на Уолл-стрит давал советы брокерам, какие бумаги покупать. Казалось, весь мир помешался на акциях, и каждый хотел стать богатым. К вечеру того же дня их жизни изменились навсегда.
Черный четверг стал только началом. За ним последовал ещё более мрачный Черный понедельник двадцать восьмого октября, когда индекс Dow Jones рухнул на 13% за один день. Но истинный ужас был не в цифрах падения, а в том, что происходило с людьми. Элизабет потеряла все свои сбережения за сорок восемь часов. Джон Миллер, взявший кредит под залог акций, оказался должен банку больше, чем стоил его бизнес. Чистильщик обуви вернулся к своей прежней работе, но клиентов стало в разы меньше. Великая депрессия началась не с экономической статистики, а с разрушенных надежд конкретных людей.
Чтобы понять механику того краха, нужно вернуться на несколько лет назад. Двадцатые годы прошлого века в Америке называли ревущими не случайно. После Первой мировой войны экономика переживала бурный рост. Массовое производство автомобилей, радиоприемников, холодильников создавало ощущение бесконечного процветания. Компании выпускали акции, и их стоимость росла месяц за месяцем. Люди видели, как их соседи богатеют, и хотели того же. Проблема заключалась в том, что большинство покупало акции не на собственные деньги.
Маржинальная торговля стала национальным помешательством. Брокеры давали кредиты под 10% стоимости акций, то есть человек мог купить бумаг на тысячу долларов, имея в кармане всего сто. Если акции росли, инвестор получал прибыль со всей тысячи, а не только со своей сотни. Казалось гениальным решением, пока рынок шёл вверх. Банки охотно кредитовали брокеров, брокеры кредитовали клиентов, клиенты покупали всё больше акций, толкая цены ещё выше. Классический спекулятивный пузырь надувался на глазах, но почти никто не хотел это видеть.
Особенно показательна история с Radio Corporation of America. Компания занималась новейшими технологиями того времени, и её акции считались маст-хэв для любого портфеля. За восемнадцать месяцев цена бумаг выросла с восьмидесяти пяти долларов до пятисот четырнадцати. Множитель прибыли компании превысил семьдесят, что даже по меркам технологических пузырей выглядело абсурдно. Но люди продолжали покупать, веря, что радио изменит мир. Они были правы насчёт радио, но ошибались насчёт того, оправдывает ли это текущую цену акций.
К осени 1929 года в спекулятивную игру были вовлечены не только профессиональные инвесторы, но и домохозяйки, учителя, мелкие служащие. Брокерские конторы открывались на каждом углу. Газеты публиковали котировки на первых полосах. В барах обсуждали не бейсбол, а движение General Motors. Классический признак пузыря, когда таксисты дают инвестиционные советы банкирам, проявился в полной мере.
Триггером краха стало несколько факторов одновременно. Летом началось замедление экономики, которое поначалу игнорировали. Производство автомобилей снизилось, строительство замедлилось. Британский Центральный банк поднял процентные ставки, отвлекая капитал из Америки. Несколько крупных инвесторов начали фиксировать прибыль, выходя из позиций. Но главная причина была проще: акции стоили слишком дорого относительно реальной прибыли компаний.
Когда цены начали снижаться, сработал механизм маржин-коллов. Брокеры требовали от клиентов довнести деньги на счета, чтобы покрыть убытки. У большинства денег не было, ведь они всё вложили в акции. Брокеры принудительно продавали позиции, толкая цены ниже. Это запускало новую волну маржин-коллов. Снежный ком нарастал с пугающей скоростью. За несколько дней испарились состояния, накопленные годами.
Двадцать девятое октября вошло в историю как день, когда объём торгов составил шестнадцать миллионов акций, абсолютный рекорд. Тикерные ленты не успевали печатать котировки, отставая от реальности на два с половиной часа. Инвесторы продавали вслепую, не зная, по какой цене выполнятся их ордера. Паника достигла такого уровня, что охранникам пришлось выставить кордоны вокруг здания биржи, чтобы сдержать толпу.
Но крах фондового рынка оказался лишь прологом к настоящей трагедии. Великая депрессия стала таковой из-за банковского кризиса, который последовал за биржевым. Большинство банков в те годы были небольшими региональными учреждениями без диверсификации. Они активно кредитовали спекуляции на бирже и владели акциями сами. Когда рынок рухнул, банки начали нести огромные убытки.
Первые банкротства начались уже в конце 1929 г. Люди услышали, что соседний банк закрылся, и побежали снимать деньги из своего. Классическая банковская паника, которая уничтожала финансовые институты один за другим. Важно понимать, что тогда не существовало страхования вкладов. Если банк разорялся, вкладчики теряли всё. Это создавало мощный стимул изымать деньги при первых слухах о проблемах.
За четыре года, с 1929 по 1933 гг., обанкротилось около 9 тысяч банков. Почти половина всех банков страны прекратила существование. Люди держали сбережения в чулках и под матрасами, не доверяя финансовой системе. Это привело к острой нехватке денег в экономике. Компании не могли получить кредиты для оплаты зарплат, магазины не могли купить товар. Экономика замерла.
Безработица достигла 25%. Каждый четвёртый работоспособный американец не мог найти работу. Очереди за бесплатным супом растягивались на кварталы. Фермеры сжигали урожай, потому что везти его в город стоило дороже, чем можно было выручить. Промышленное производство упало почти вдвое. То, что начиналось как финансовый кризис, превратилось в гуманитарную катастрофу.
История простых американцев той эпохи разбивает сердце. Семьи теряли дома, не в силах платить по ипотеке. Дети бросали школу, чтобы зарабатывать хоть что-то. Образованные люди среднего возраста стояли на углах с табличками, предлагая работать за еду. Самоубийства участились настолько, что газеты перестали их освещать. Великая депрессия оставила психологические шрамы на целом поколении, которое даже после восстановления экономики боялось долгов и рисков.
Но даже в эти мрачные годы некоторые не просто выжили, а разбогатели. Их истории показывают, что любой кризис создаёт возможности для тех, кто готов мыслить иначе. Самый знаменитый пример – Джозеф Кеннеди, отец будущего президента. Кеннеди действовал строго контрариански, делая противоположное тому, что делала толпа.
Летом 1929 года, когда эйфория достигла пика, Кеннеди начал продавать свои акции. По легенде, он принял решение выйти из рынка после того, как чистильщик обуви дал ему совет, какие бумаги покупать. Кеннеди понял: если даже люди без финансового образования активно спекулируют, пузырь достиг критической точки. Он зафиксировал прибыль и перевёл деньги в наличные.
Когда начался крах, Кеннеди не только сохранил капитал, но и активно использовал технику короткой продажи. Он занимал акции у брокеров, продавал их по текущей высокой цене, а затем выкупал обратно по низкой, возвращая акции владельцу и забирая разницу как прибыль. Тактика высокорискованная, но в условиях обвала невероятно прибыльная. Кеннеди заработал миллионы на падении того же рынка, на росте которого обогатились и разорились другие.
После того как цены упали до минимумов, Кеннеди начал покупать качественные активы за гроши. Недвижимость, акции крупных компаний, целые бизнесы – всё продавалось с огромным дисконтом. Важно отметить, что он покупал не мусор, а фундаментально сильные активы, временно подешевевшие из-за паники. К середине тридцатых его состояние выросло в разы, в то время как большинство американцев едва сводили концы с концами.
Другой пример контрарианского подхода демонстрирует инвестор Джон Темплтон. Правда, его звёздный час пришёлся на следующий кризис, но именно уроки Великой депрессии сформировали его философию. Позже он говорил, что лучшее время для покупок наступает в момент максимального пессимизма. Когда кажется, что мир рушится навсегда, именно тогда и открываются самые выгодные возможности.
Были и те, кто делал состояния не на финансовых рынках. Компании, производившие товары первой необходимости, не только выживали, но и процветали. Procter & Gamble продолжала продавать мыло и зубную пасту. Люди, может быть, и отказывались от автомобилей, но чистить зубы не переставали. Coca-Cola тоже прошла через депрессию относительно благополучно. Бутылка колы за пять центов оставалась доступной роскошью даже для бедняков.
Инвесторы, которые держали золото, тоже оказались в выигрыше. Хотя в те годы действовал золотой стандарт и официальная цена была фиксированной, психологически золото давало ощущение безопасности. А когда в 1933 году правительство провело девальвацию доллара относительно золота, те, кто держал физический металл, получили прибыль.
Ключевой урок Великой депрессии состоит в понимании разницы между временными проблемами и фундаментальными изменениями. Те, кто в тридцать втором году купил акции General Electric или US Steel по бросовым ценам, через десять лет сидели на многократной прибыли. Эти компании не исчезли, они просто временно подешевели из-за общей паники. Но различить качественную компанию в трудное время и реальный банкрот непросто.
Второй важный урок касается ликвидности. Во время кризиса наличные – король. У Кеннеди и других успешных инвесторов депрессии был кэш для покупки активов на дне. Большинство же держало всё в акциях, купленных на заёмные деньги, и когда пришла пора действовать, у них не осталось ресурсов. Парадокс в том, что возможности появляются именно тогда, когда кажется, что держать неработающие деньги глупо.
Третий урок – опасность кредитного плеча. Маржинальная торговля в двадцатые годы превратила просадку рынка в катастрофу для миллионов людей. Если бы они владели акциями без заёмных средств, многие пересидели бы падение и в итоге восстановили капитал. Но долг не ждёт. Когда брокер требует деньги на маржин-колл, приходится продавать на худших ценах. Плечо умножает не только прибыль, но и убытки, причём умножение убытков обычно происходит быстрее.
Четвёртый урок связан с психологией. Депрессия показала, насколько сильно человеческое поведение зависит от эмоций, а не от рационального анализа. Летом двадцать девятого года все знали, что акции переоценены, но жадность была сильнее. Осенью все понимали, что при таких ценах некоторые компании стоят копейки, но страх парализовал. Успешные инвесторы научились отделять эмоции от решений.
Интересно проследить, как менялось отношение общества к фондовому рынку после депрессии. Целое поколение поклялось никогда не связываться с акциями. Даже в пятидесятые и шестидесятые годы, когда экономика процветала, многие американцы держали сбережения только в облигациях и недвижимости. Травма оказалась настолько глубокой, что понадобились десятилетия для восстановления доверия.
Правительственная реакция на депрессию тоже даёт важные уроки. Администрация Гувера поначалу придерживалась невмешательства, считая, что рынок сам себя исправит. Это усугубило кризис. Только с приходом Рузвельта и его Нового курса начались масштабные государственные интервенции: страхование вкладов, регулирование бирж, общественные работы. Споры о правильности этих мер идут до сих пор, но факт остаётся фактом – полное невмешательство не работало.
Создание Комиссии по ценным бумагам и биржам в 1934 г. изменило правила игры. Требования к раскрытию информации, ограничения на маржинальную торговлю, запрет на манипуляции – всё это было прямым следствием краха. Иронично, что первым главой комиссии стал именно Джозеф Кеннеди, человек, который использовал недостатки старой системы для обогащения. Видимо, Рузвельт считал, что бывший спекулянт лучше других знает, какие лазейки нужно закрыть.
Система страхования вкладов остановила банковские паники. Когда люди знают, что их деньги защищены государством до определённой суммы, исчезает стимул бежать в банк при первых слухах. Это простое нововведение спасло финансовую систему от повторения кошмара тридцатых годов. Современные кризисы видели проблемы банков, но массовых разорений из-за паники вкладчиков не случалось.
Применяя уроки Великой депрессии к современности, нужно учитывать изменения. Сегодня центробанки действуют агрессивно, вливая ликвидность при первых признаках проблем. Это, безусловно, предотвращает худшие сценарии, но создаёт собственные риски. Инвесторы привыкли, что государство всегда придёт на помощь, что порождает моральный риск и новые пузыри.
Технологии изменили скорость событий. В двадцать девятом году крах растянулся на недели. Современные рынки могут упасть на 20% за день, как показал март 2020 года. Алгоритмическая торговля и мгновенное распространение информации через соцсети создают условия для флеш-крэшей. Но базовая психология не изменилась: люди по-прежнему жадничают на вершине и паникуют на дне.
Параллели между двадцатыми годами прошлого века и современностью иногда пугают. Маржинальная торговля никуда не делась, просто называется иначе. Розничные инвесторы активно используют опционы с плечом, не до конца понимая риски. Мемные акции и криптовалюты порой торгуются с оценками, которые делают Radio Corporation образцом консерватизма. Когда таксист Uber начинает давать советы по опционным стратегиям, возникает дежавю.
Спекулятивные пузыри – не аномалия, а норма капитализма. Они будут повторяться, потому что человеческая природа не меняется. Жадность и страх – вечные двигатели рынков. Вопрос не в том, будет ли следующий пузырь, а когда он лопнет и насколько сильным окажется крах. История учит, что предсказать точное время невозможно, но можно подготовиться.
Подготовка начинается с принятия того факта, что кризисы неизбежны. Это не катастрофы, а часть экономического цикла. За подъёмом всегда следует спад. Понимание этого помогает избежать самой большой ошибки – верить, что на этот раз будет иначе. Эта фраза убила больше портфелей, чем все прочие заблуждения вместе взятые.
Практический вывод из опыта Великой депрессии прост: держите ликвидность, избегайте чрезмерного плеча, покупайте качественные активы по разумным ценам и будьте готовы действовать контрариански. Когда все вокруг скупают акции на пике эйфории, продавайте. Когда кажется, что мир рушится, и никто не хочет ничего покупать – самое время входить. Легко сказать, трудно сделать, но именно в этом разница между теми, кто обогатился в кризис, и теми, кто разорился.
Джозеф Кеннеди не был гением и не обладал магическими способностями предвидения. Он просто следовал базовым принципам: продал, когда все покупали, шортил на падении, покупал качество на дне. Эти принципы работали девяносто лет назад и работают сейчас. Изменились инструменты, появились новые активы, но логика осталась той же.
Великая депрессия закончилась полностью только с началом Второй мировой войны, когда военные заказы запустили экономику. Восстановление заняло более десяти лет. Но для тех инвесторов, которые купили акции в тридцать втором или тридцать третьем году, ждать десять лет не пришлось. Уже через пять лет их портфели показывали солидную прибыль. А к пятидесятым годам те, кто держал позиции, стали очень состоятельными людьми.
Финальный урок столетней давности заключается в том, что время лечит раны рынков. Индекс Dow Jones, упавший с трёхсот восьмидесяти до сорока одного пункта, к 1954 году вернулся к довоенным максимумам. Компании, пережившие депрессию, стали сильнее. Экономика адаптировалась и продолжила расти. Капитализм показал удивительную живучесть, несмотря на все его недостатки и кризисы.
Для современного инвестора эти знания критически важны. Следующий крупный кризис обязательно произойдёт. Невозможно сказать, когда именно и что станет триггером. Может быть, лопнет пузырь на рынке облигаций, может – очередной финансовый инструмент выйдет из-под контроля. Важно другое: у вас уже есть карта того, как действовать. История не повторяется точно, но рифмуется. Те же паттерны, те же ошибки, те же возможности для тех, кто готов учиться на опыте прошлого.
1.3 Нефтяные кризисы 1970-х: когда рушатся сырьевые рынки
Когда 17 октября 1973 года министры нефтедобывающих арабских государств собрались в Кувейте, мир ещё не знал, что следующие несколько часов перевернут глобальную экономику на десятилетия вперёд. Решение было простым и разрушительным: сократить добычу нефти на 5% ежемесячно до тех пор, пока Израиль не выведет войска с оккупированных территорий. Через несколько дней цена барреля нефти подскочила с трёх долларов до двенадцати. За три месяца мировая экономика столкнулась с явлением, которое казалось невозможным: одновременным ростом цен и падением производства. Эпоха дешёвой энергии закончилась, и вместе с ней рухнули все экономические модели послевоенного процветания.
История нефтяного эмбарго началась задолго до октября семьдесят третьего. После Второй мировой войны западные экономики построили своё благополучие на одной простой предпосылке: нефть будет всегда дешёвой и доступной. Американские автомобили становились всё больше и прожорливее, пригороды разрастались, промышленность потребляла энергию без оглядки на завтрашний день. Нефть текла рекой из Персидского залива, и казалось, что этот поток никогда не иссякнет. Западные компании контролировали добычу, западные страны диктовали цены, а арабские монархии молча получали свою долю, не имея реальной власти над собственными ресурсами.
Но мир менял. В шестидесятых годах страны-экспортёры нефти начали понимать, что сидят на самом ценном ресурсе планеты, отдавая его почти даром. В сентябре 1960 года в Багдаде представители Ирана, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии и Венесуэлы создали Организацию стран-экспортёров нефти. Первые годы ОПЕК была скорее дискуссионным клубом, чем реальной силой. Западные нефтяные компании продолжали вести дела как обычно, не воспринимая угрозу всерьёз. Но когда осенью семьдесят третьего разразилась очередная арабо-израильская война, нефтяные министры поняли, что у них в руках появилось оружие посильнее танков и самолётов.
Эмбарго ударило по западным экономикам с силой урагана. В Нидерландах, полностью отрезанных от арабской нефти, правительство запретило воскресные поездки на автомобилях. Картина опустевших автобанов осталась в памяти целого поколения европейцев. В США очереди на заправках растянулись на километры, водители дежурили ночами, чтобы заправить баки. Цены на бензин взлетели на 60% за несколько недель. Авиакомпании сокращали рейсы, заводы останавливали конвейеры, магазины пустели. Экономика, построенная на дешёвой энергии, захлёбывалась.
Но настоящий шок был ещё впереди. Нефтяное эмбарго закончилось в марте 1974 года, но цены не вернулись на прежний уровень. Арабские страны поняли свою силу и не собирались её отдавать. Баррель, стоивший до кризиса три доллара, теперь торговался по двенадцать. Это был не временный скачок, а фундаментальный сдвиг в глобальной экономике. Деньги потекли из промышленных стран Запада в нефтедобывающие государства Персидского залива. За один год страны ОПЕК получили дополнительные семьдесят миллиардов долларов, сумму, сопоставимую с годовым ВВП Великобритании того времени.
Экономисты столкнулись с явлением, которое не вписывалось ни в одну существующую теорию. Инфляция разгонялась до двузначных цифр, а экономика при этом не росла, а сокращалась. В 1974 году американский ВВП упал на 2,5%, а цены выросли на 11%. В Великобритании инфляция достигла 24% процентов при падающем производстве. Традиционные инструменты денежной политики переставали работать. Если центробанк поднимал ставки, чтобы сбить инфляцию, экономика проваливалась ещё глубже в рецессию. Если снижал ставки, чтобы стимулировать рост, инфляция разгонялась сильнее.
Это явление получило название стагфляция, комбинация стагнации и инфляции. Для экономистов кейнсианской школы, доминировавших после войны, стагфляция была невозможна теоретически. Их модели предполагали, что инфляция и безработица движутся в противоположных направлениях: либо растут цены при полной занятости, либо растёт безработица при стабильных ценах. Реальность семидесятых разбила эти представления вдребезги. Цены росли, заводы закрывались, миллионы теряли работу одновременно.
Стагфляция оказалась самым болезненным видом экономического кризиса для обычных людей. Инфляция съедала сбережения, а рецессия лишала работы. Средний класс западных стран, привыкший к постоянному росту благосостояния, вдруг обнаружил, что его реальные доходы падают. Профсоюзы требовали повышения зарплат, чтобы компенсировать рост цен. Работодатели повышали зарплаты, но затем поднимали цены на свои товары, чтобы сохранить прибыль. Цены росли дальше, профсоюзы требовали новых повышений. Спираль зарплаты и цен раскручивалась всё быстрее, а правительства не знали, как её остановить.
Политики метались между стимулированием экономики и борьбой с инфляцией. Американский президент Джеральд Форд запустил кампанию под лозунгом "Победим инфляцию сейчас", раздавая значки с аббревиатурой WIN. Призывы к добровольному сдерживанию цен и экономии не принесли результата. Его преемник Джимми Картер назвал энергетический кризис "моральным эквивалентом войны" и призвал американцев носить свитера вместо того, чтобы включать отопление на полную мощность. Но моральные призывы не могли заменить реальную экономическую политику.
Первый нефтяной шок семьдесят третьего года был лишь началом. В семьдесят девятом разразился второй кризис, ещё более разрушительный. Исламская революция в Иране свергла шаха и остановила иранскую нефтедобычу. Затем началась ирано-иракская война, выбившая из рынка ещё несколько миллионов баррелей в день. Цена нефти взлетела с тринадцати до тридцати четырёх долларов за баррель. Мировая экономика снова погрузилась в рецессию, на этот раз ещё глубже.
Но именно в этом хаосе, когда большинство теряло деньги и надежду, появились те, кто увидел возможности. Самым очевидным победителем стало золото. Драгоценный металл, который веками служил защитой от инфляции, в семидесятых показал всю свою силу. В начале десятилетия унция стоила тридцать пять долларов. К январю восьмидесятого года цена достигла восьмисот пятидесяти долларов. Рост в двадцать четыре раза за десять лет. Те, кто купил золото в начале семидесятых, превратили свои сбережения в состояние.
Золотая лихорадка семидесятых была не просто спекулятивным пузырём. За ней стояла фундаментальная логика. Когда инфляция достигает двузначных цифр, бумажные деньги теряют ценность с пугающей скоростью. Доллары, фунты, марки таяли в руках. Облигации, считавшиеся безопасными активами, приносили убытки, потому что купонные выплаты не успевали за ростом цен. Недвижимость требовала больших капиталовложений и была неликвидна. А золото можно было купить в любой момент, хранить дома или в банковской ячейке, и его ценность росла вместе с инфляцией.
Инвесторы, которые поняли эту логику раньше других, заработали состояния. Семейные фонды, переложившие портфели в золото в начале семидесятых, увеличили капиталы в разы. Обычные люди, купившие золотые монеты или слитки, сохранили покупательную способность своих сбережений, в то время как их соседи, державшие деньги в банках, теряли по 20% в год. К концу десятилетия золото стало синонимом защиты от экономического хаоса.
Но золото было не единственной возможностью. Энергетический кризис породил целую индустрию альтернативной энергетики. Солнечные панели, ветряные установки, геотермальная энергия, всё это существовало и раньше, но считалось экзотикой или игрушками для энтузиастов. Когда цена барреля нефти выросла в десять раз, альтернативные источники энергии внезапно стали экономически осмысленными.
Правительства западных стран выделили миллиарды на исследования в области энергетики. Калифорния запустила программу субсидирования солнечных панелей для частных домов. Дания начала устанавливать ветряные турбины на своём побережье. Франция развернула масштабную программу строительства атомных электростанций, чтобы снизить зависимость от импортной нефти. За десять лет французы построили пятьдесят восемь реакторов, переведя большую часть энергетики на атом.
Компании, которые смогли предложить энергоэффективные решения, получили огромное конкурентное преимущество. Японские автопроизводители, выпускавшие компактные экономичные машины, захватили американский рынок у гигантов Детройта с их прожорливыми седанами и внедорожниками. Honda Civic и Toyota Corolla стали символами новой эры. Пока американские производители продолжали штамповать огромные автомобили, расходующие двадцать литров на сотню, японцы предлагали машины, потребляющие вдвое меньше. К концу семидесятых японские марки заняли четверть американского рынка, начав эпоху доминирования азиатского автопрома.
Нефтяной кризис изменил и саму нефтяную индустрию. Когда цена барреля поднялась выше десяти долларов, разработка месторождений, считавшихся нерентабельными, стала прибыльной. Нефтяные компании устремились на шельф Северного моря, в Аляску, в труднодоступные регионы. Британия и Норвегия из импортёров нефти превратились в крупных экспортёров. К середине восьмидесятых Северное море давало четыре миллиона баррелей в день, снижая зависимость Европы от Ближнего Востока.
Те инвесторы, которые купили акции нефтесервисных компаний в середине семидесятых, поймали волну роста. Компании, занимавшиеся бурением на шельфе, производством оборудования для сложных месторождений, транспортировкой нефти из удалённых регионов, увеличили прибыли в разы. Стоимость их акций росла пропорционально. Это был не спекулятивный рост, а отражение фундаментальных изменений в индустрии.
Энергетический кризис преподал миру жёсткий урок о том, как сырьевые шоки меняют глобальную экономику. До семидесятых годов экономисты рассматривали сырьё как данность, фоновый фактор, который не влияет на большую картину. Нефть была дешёвой, её было много, можно было не думать об ограничениях. Кризис показал, что зависимость от одного ресурса может парализовать целые экономики.
Страны начали думать о стратегической автономии в энергетике. США создали стратегический нефтяной резерв, огромные подземные хранилища, способные вместить несколько месяцев импорта. Европа диверсифицировала поставщиков, снижая долю ближневосточной нефти. Япония, не имея собственных ресурсов, инвестировала в энергоэффективность всей экономики, доведя её до совершенства.
Кризис семидесятых запустил технологическую революцию в добыче нефти. Компании научились бурить на глубинах в тысячи метров под водой, освоили горизонтальное бурение, разработали методы повышения нефтеотдачи. Эти технологии потом привели к сланцевой революции 2000-х годов, когда США стали крупнейшим производителем нефти в мире. Но начало было положено в семидесятых, когда высокие цены сделали рентабельными сложные проекты.
Финансовые рынки тоже изменились навсегда. До кризиса сырьё было нишевым рынком, интересным лишь специализированным трейдерам. После семидесятых оно стало отдельным классом активов. Инвесторы поняли, что нефть, золото, металлы могут быть не только производственными ресурсами, но и инструментами сохранения капитала. Появились товарные фьючерсы, индексы сырья, специализированные фонды. К концу века сырьевой рынок превратился в триллионный сегмент глобальной финансовой системы.
Геополитическая карта мира тоже перекроилась. Страны ОПЕК, внезапно получившие огромные финансовые ресурсы, начали играть новую роль. Саудовская Аравия из бедного пустынного королевства превратилась в финансового тяжеловеса с сотнями миллиардов долларов резервов. Небольшие государства Персидского залива, такие как Кувейт и ОАЭ, стали одними из богатейших стран мира на душу населения. Эти деньги пошли не только на дворцы и роскошь, но и на инвестиции в западные активы, создание суверенных фондов, строительство современной инфраструктуры.
Нефтедоллары вернулись в западную финансовую систему через другую дверь. Арабские страны не могли потратить все полученные деньги немедленно. Они размещали средства в американских банках, покупали казначейские облигации, инвестировали в европейскую недвижимость. Этот поток денег помог финансировать дефициты западных бюджетов, но при этом создал новые зависимости. Теперь арабские монархии владели значительными долями западных активов, что давало им дополнительный рычаг влияния.
Кризис семидесятых показал, что глобализация – это улица с двусторонним движением. Западные страны зависели от ближневосточной нефти, но арабские страны зависели от западных технологий, продовольствия, военного оборудования. Попытка использовать нефть как оружие привела к тому, что обе стороны осознали взаимную зависимость. Полная изоляция была невозможна, но и полное доминирование одной стороны тоже.
Для обычных инвесторов уроки семидесятых оказались бесценными. Во-первых, диверсификация – это не просто теоретическая концепция, а практическая необходимость. Портфели, состоявшие только из акций и облигаций, потеряли значительную часть стоимости. Те, кто держал золото и сырьевые активы, сохранили капитал. Во-вторых, инфляция убивает покупательную способность быстрее, чем кажется. Даже 10% в год означают, что деньги обесцениваются вдвое за семь лет. В-третьих, кризисы создают новые возможности для тех, кто готов мыслить нестандартно.
Семидесятые годы также показали важность понимания макроэкономических трендов. Инвестор, который следил за ростом влияния ОПЕК, видел риски заранее. Тот, кто понимал, что энергия станет дороже надолго, мог вложиться в альтернативную энергетику или энергоэффективные технологии. Макроэкономика перестала быть абстрактной наукой и стала практическим инструментом для принятия инвестиционных решений.
К началу восьмидесятых мир был уже другим. Новый председатель Федеральной резервной системы Пол Волкер поднял процентные ставки до невиданных высот, 20% годовых, чтобы задушить инфляцию. Рецессия восьмидесятого и восемьдесят первого годов стала самой глубокой со времён Великой депрессии. Но инфляция была сломлена. К середине восьмидесятых цены стабилизировались, экономический рост возобновился.
Цена нефти тоже начала снижаться. Высокие цены стимулировали добычу вне ОПЕК, а рецессия снизила спрос. К середине восьмидесятых баррель стоил меньше пятнадцати долларов. Власть нефтяного картеля ослабла. Но урок был выучен. Мир больше никогда не будет относиться к энергетической безопасности легкомысленно. Диверсификация поставок, стратегические резервы, развитие альтернативных источников, всё это стало частью экономической политики развитых стран.
Для следующих поколений инвесторов нефтяные кризисы семидесятых остались примером того, как фундаментальные сдвиги в сырьевых рынках могут создавать огромные возможности. Те, кто купил золото в начале десятилетия, заработали больше, чем держатели акций за всю послевоенную эпоху. Те, кто вложился в энергоэффективность и альтернативную энергетику, поймали волну технологических изменений на десятилетия вперёд. Те, кто понял геополитический сдвиг власти, смогли спозиционироваться в новой реальности.
Семидесятые годы преподали ещё один урок: правительства не всемогущи. Десятилетиями казалось, что центральные банки и министерства финансов могут управлять экономикой, сглаживая циклы и обеспечивая стабильный рост. Стагфляция показала ограничения этой власти. Когда одновременно нужно бороться с инфляцией и стимулировать рост, традиционные инструменты не работают. Политики выбирают между двумя болезненными вариантами, и любой выбор причиняет страдания.
Эта беспомощность властей создала возможности для частных инвесторов. Когда правительство не может защитить ценность денег, люди ищут альтернативы. Золото, недвижимость, сырьё, всё, что нельзя напечатать бесконечно, становится привлекательным. Те, кто это понял, смогли защитить свои сбережения и даже заработать, пока остальные теряли покупательную способность.
Кризис семидесятых также показал, что глобальные системы хрупки. Экономика, построенная на предположении о бесконечно дешёвой энергии, рухнула, когда это предположение оказалось ложным. Финансовая система, не учитывавшая геополитические риски, оказалась беззащитной перед решением нескольких министров в Кувейте. Эта хрупкость означает, что всегда нужно держать в уме альтернативные сценарии, не полагаясь на то, что текущая ситуация сохранится вечно.
Сегодня, когда мир снова говорит об энергетическом переходе и отказе от ископаемого топлива, уроки семидесятых особенно актуальны. Любой фундаментальный сдвиг в энергетике создаёт победителей и проигравших. Страны и компании, которые адаптируются быстрее, получают преимущество. Те, кто цепляется за старые модели, рискуют остаться позади. Инвесторы, которые видят эти тренды раньше рынка, могут заработать на трансформации.
Нефтяные кризисы семидесятых закончились, но их влияние ощущается до сих пор. Они изменили структуру глобальной экономики, геополитический баланс сил, подходы к энергетической политике. Они показали, что сырьевые рынки могут быть источником как катастроф, так и возможностей. Те, кто понял эти уроки, получили инструменты для навигации в будущих кризисах, потому что история имеет свойство повторяться, пусть и в новых формах.
1.4 Азиатский кризис 1997 года: эффект домино на развивающихся рынках
Летом 1997 года мир наблюдал за тем, как процветающие экономики Юго-Восточной Азии рушились одна за другой, словно карточные домики. То, что начиналось как локальная проблема небольшой страны размером с Францию, всего за несколько месяцев превратилось в глобальную катастрофу. Этот кризис стал уроком для всех, кто мечтал о легких деньгах на развивающихся рынках, и показал, насколько хрупкой может быть экономика, построенная на зыбучих песках дешевых долларов и завышенных ожиданий.
История началась в Таиланде, стране, которую в начале девяностых называли азиатским тигром. Темпы роста тайской экономики превышали 7% в год. Бангкок превращался в современный мегаполис, небоскребы росли как грибы после дождя, а иностранные инвесторы выстраивались в очередь, чтобы вложить деньги в эту историю успеха. Казалось, что процветание будет вечным. В реальности же Таиланд строил свое благополучие на фундаменте из заемных средств, и этот фундамент начал трескаться еще в конце 1996 года.
Тайский бат на протяжении десятилетия был привязан к доллару США по фиксированному курсу примерно двадцать пять батов за доллар. Эта привязка создавала иллюзию стабильности и предсказуемости, что привлекало иностранный капитал. Западные банки и инвестиционные фонды охотно кредитовали тайские компании и банки, которые, в свою очередь, вкладывали эти дешевые доллары в недвижимость и акции. Получалась идеальная схема, пока все шло хорошо. Проблема заключалась в том, что тайская экономика зарабатывала в батах, а долги были в долларах.
Первые трещины стали заметны в феврале 1997 года, когда обанкротилась крупная финансовая компания Somprasong Land, не сумев обслуживать долларовые займы. Затем проблемы начались у Finance One, одной из крупнейших небанковских финансовых организаций страны. К весне стало ясно, что тайский финансовый сектор сидит на пороховой бочке плохих долгов, которые были выданы под залог переоцененной недвижимости. Центральный банк Таиланда пытался поддерживать бат, расходуя валютные резервы на интервенции, но это было похоже на попытку залатать дыру в плотине пальцем.
К началу июля 1997 года у Банка Таиланда закончились резервы для защиты национальной валюты. Второго июля правительство объявило о переходе к плавающему курсу. Это был эвфемизм для катастрофы. За один день бат рухнул на 15%, а к концу года потерял больше половины своей стоимости. Для тайских компаний, которые набрали долларовых долгов, это означало, что их обязательства удвоились в одночасье. Начались массовые банкротства.
То, что произошло дальше, экономисты называют эффектом заражения. Инвесторы, обожженные потерями в Таиланде, начали массово выводить деньги из других азиатских стран. Логика была простой и жестокой: если проблемы есть в Таиланде, они могут быть и в Малайзии, Индонезии, Филиппинах, Корее. Никто не хотел быть последним, кто покинет тонущий корабль. К августу кризис перекинулся на Малайзию и Индонезию, к октябрю достиг Гонконга и Южной Кореи.
Индонезия пострадала особенно сильно. Рупия потеряла 80% стоимости за несколько месяцев. Инфляция взлетела до 70% годовых. Полки магазинов опустели, цены на продукты утроились, начались продовольственные бунты. Режим Сухарто, правившего страной тридцать два года, не пережил экономической катастрофы. В мае 1998 года диктатор ушел в отставку под давлением массовых протестов.
Южная Корея, одиннадцатая экономика мира, столкнулась с банковским кризисом беспрецедентного масштаба. Крупнейшие чеболи, семейные конгломераты вроде Daewoo и Kia, обанкротились, не сумев обслуживать долларовые кредиты после обвала воны. К концу ноября 1997 года Корея оказалась на грани дефолта по внешним обязательствам. Валютные резервы страны составляли всего несколько миллиардов долларов, а внешний долг превышал сто пятьдесят миллиардов. Это был момент, когда одна из самых успешных экономических историй послевоенной Азии оказалась в шаге от краха.
Международный валютный фонд вмешался с пакетами помощи, которые в совокупности превысили сто миллиардов долларов. Таиланду выделили семнадцать миллиардов, Индонезии сорок три, Южной Корее пятьдесят семь. Звучит внушительно, но на практике эти деньги пришли с жесткими условиями, которые скорее усугубили кризис, чем смягчили его последствия. МВФ требовал сокращения государственных расходов, повышения процентных ставок и закрытия проблемных банков. Идея была в том, чтобы восстановить доверие инвесторов через демонстрацию финансовой дисциплины.
Результат оказался обратным. Повышение ставок задушило и без того умирающую экономику. Компании массово банкротились, безработица взлетела до рекордных уровней. В Индонезии безработица выросла с 4 до 12% за год. В Таиланде закрылись тысячи предприятий. Требование закрыть слабые банки вызвало панику среди вкладчиков, которые бросились забирать деньги из всех банков подряд, усугубляя банковскую панику. Вместо того чтобы стабилизировать ситуацию, программы МВФ ускорили падение.
Критики называли действия фонда экономическим садизмом. Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц, работавший в то время главным экономистом Всемирного банка, публично критиковал МВФ за неадекватность рецептов. Он указывал, что азиатский кризис был не результатом расточительной фискальной политики, как в Латинской Америке восьмидесятых, а следствием паники на частных рынках капитала. Правительства этих стран имели профицит бюджета, низкую инфляцию, высокие нормы сбережений. Проблема была в частном секторе, который залез в долги. МВФ же применял стандартные рецепты, которые были разработаны для совершенно других обстоятельств.
Еще один провал МВФ заключался в непонимании политической экономии кризиса. Фонд настаивал на структурных реформах, включая либерализацию рынков и сокращение роли государства, в самый неподходящий момент. Когда экономика горит, а люди теряют работу и сбережения, требовать радикальных реформ означает подливать масла в огонь социального недовольства. В Индонезии это привело к свержению режима. В Южной Корее программа МВФ стала символом национального унижения.
Интересно, что Малайзия, единственная из пострадавших стран, которая отказалась от помощи МВФ, справилась с кризисом не хуже остальных. Премьер-министр Махатхир Мохамад ввел контроль за движением капитала, фиксировал курс ринггита к доллару и провел программу стимулирования экономики. Западные экономисты предрекали катастрофу, но Малайзия вышла из кризиса быстрее многих соседей. Это ставило под вопрос всю догматику МВФ о необходимости свободного движения капитала.
На фоне этого хаоса активизировались валютные спекулянты, среди которых самой яркой фигурой был Джордж Сорос. К 1997 году Сорос уже имел репутацию человека, сломавшего Банк Англии. В сентябре 1992 года его фонд Quantum заработал миллиард долларов за один день, поставив на девальвацию фунта стерлингов. Азиатский кризис стал для Сороса и подобных ему трейдеров новой охотничьей территорией.
Премьер-министр Малайзии Махатхир публично обвинил Сороса в организации атаки на азиатские валюты ради спекулятивной прибыли. Он называл валютных спекулянтов паразитами, которые разрушают экономики развивающихся стран. Сорос отвечал, что он не создает кризисы, а лишь использует фундаментальные дисбалансы, которые уже существуют. Если валюта переоценена, а экономика имеет структурные проблемы, кто-то рано или поздно воспользуется этим.
С технической точки зрения Сорос был прав. Тайский бат действительно был переоценен, учитывая растущий дефицит текущего счета и пузырь на рынке недвижимости. Привязка к доллару делала валюту уязвимой для атаки, особенно когда у центрального банка кончались резервы для защиты. Хедж-фонды просто делали то, что делают хедж-фонды: находили слабости и зарабатывали на них. Проблема в том, что их действия ускоряли кризис и делали его более разрушительным.
Механизм заработка был относительно прост. Фонды занимали баты у тайских банков под низкий процент, конвертировали их в доллары и ждали девальвации. Когда бат рухнул, они покупали дешевые баты, возвращали кредиты и оставляли себе разницу в виде прибыли. Это классическая короткая продажа валюты. В масштабах миллиардов долларов такие операции создавали дополнительное давление на бат, превращая предсказание в самосбывающееся пророчество.
После азиатского кризиса Quantum Fund Сороса потерял значительную часть прибыли из-за ошибок в других регионах, но это не меняет факта: валютная спекуляция в Азии принесла огромные деньги тем, кто правильно выбрал момент. Другие хедж-фонды, чьи имена менее известны широкой публике, заработали миллиарды на обвале азиатских валют. Tiger Management, Long-Term Capital Management, Moore Capital Management – все они участвовали в этой игре.
Что касается обычных инвесторов, то большинство потеряло деньги. Западные пенсионные фонды и институциональные инвесторы, которые влили миллиарды в азиатские рынки в начале девяностых, понесли огромные убытки. Индекс MSCI Asia Pacific Index упал на 40% за год. Те, кто покупал акции тайских или корейских компаний в начале 1997 года, к концу года сидели на убытках в 70 или 80%.
Однако были и те, кто заработал. Контрариантные инвесторы, которые имели смелость покупать активы на самом дне кризиса в конце 1997 – начале 1998 года, получили фантастическую доходность. Южнокорейский рынок акций вырос почти в пять раз с минимумов 1998 года до 2000 года. Тайский рынок удвоился. Те, кто купил индонезийские облигации, когда доходность превышала 30%, заработали состояния, когда рынок стабилизировался.
Марк Мобиус, легенда инвестирования в развивающиеся рынки, в 1998 году активно скупал азиатские акции, когда все остальные бежали из региона. Он понимал, что паника создает возможности. Компании с хорошими фундаментальными показателями торговались по абсурдно низким ценам просто потому, что никто не хотел иметь ничего общего с Азией. Это был классический пример, когда страх толпы создает возможности для умных денег.
Урок для инвесторов в развивающиеся рынки был жестоким, но ценным. Во-первых, высокие темпы роста не гарантируют отсутствие кризисов. Азиатские тигры росли по 7-10% в год, но это не спасло их от обвала, когда обнажились структурные проблемы. Рост, построенный на заемных средствах, особенно в иностранной валюте, чрезвычайно хрупок.
Во-вторых, фиксированные валютные курсы в развивающихся странах создают иллюзию стабильности, которая рано или поздно разрушается. Привязка к доллару работает, пока центральный банк имеет достаточно резервов для защиты курса и пока экономика не накапливает критических дисбалансов. Когда резервы заканчиваются, обрушение валюты происходит быстро и жестоко.
В-третьих, эффект заражения между развивающимися рынками – это реальность. Кризис в одной небольшой стране может спровоцировать панику во всем регионе, даже если фундаментальные условия других стран отличаются. Инвесторы не тратят время на детальный анализ каждой экономики, когда начинается паника. Они просто выводят деньги из всех рынков, которые кажутся похожими. Таиланд и Южная Корея имели разные проблемы, но для международного капитала они оказались в одной корзине "азиатских рисков".
В-четвертых, международные финансовые институты не всегда являются спасителями. МВФ может усугубить кризис, применяя неадекватные рецепты. Рассчитывать на то, что кто-то придет и спасет ситуацию, наивно. Инвесторам нужно самостоятельно оценивать риски и не полагаться на внешнюю помощь.
В-пятых, валютный риск в развивающихся странах может уничтожить всю доходность от инвестиций. Даже если компания, в которую вы вложились, показывает хорошие результаты, обвал национальной валюты может свести на нет всю прибыль. Хеджирование валютного риска критически важно при инвестировании в эмержинги, но оно стоит денег и съедает доходность.
Кризис показал и то, что ликвидность на развивающихся рынках исчезает мгновенно, когда начинается паника. Инвесторы, которые думали, что смогут быстро продать активы при первых признаках проблем, обнаружили, что покупателей нет. Спреды между ценой покупки и продажи расширялись до абсурдных уровней. Некоторые активы вообще невозможно было продать по любой цене. Это называется риском ликвидности, и он особенно высок в эмержинг-маркетах.
С другой стороны, кризис продемонстрировал поразительную устойчивость азиатских экономик в долгосрочной перспективе. К началу 2000-х большинство стран региона не только восстановилось, но и вышло на траекторию устойчивого роста. Они извлекли уроки из кризиса: накопили значительные валютные резервы, перешли к плавающим курсам, укрепили банковскую систему, сократили зависимость от краткосрочных иностранных займов.
Южная Корея провела болезненные, но необходимые реформы чеболей, заставив их сократить долговую нагрузку и повысить прозрачность. Samsung, Hyundai, LG вышли из кризиса более сильными и конкурентоспособными. К середине 2000-х Корея стала одной из самых инновационных экономик мира. Таиланд диверсифицировал экономику, снизив зависимость от недвижимости и развивая туризм и экспорт. Индонезия пережила политическую трансформацию, став более демократичной и стабильной.
Для инвесторов, которые сохранили нервы и продолжали вкладываться в Азию после кризиса, награда оказалась щедрой. Следующее десятилетие стало золотым временем для азиатских рынков. Китай вступил в ВТО в 2001 году и превратился в фабрику мира, подняв за собой всю региональную экономику. Индия начала технологический бум. Вьетнам открылся для иностранных инвестиций. Те, кто понял, что кризис 1997 года был не концом истории, а болезненной корректировкой на пути роста, заработали огромные деньги.
Азиатский кризис также изменил глобальную архитектуру управления рисками. Центральные банки развивающихся стран начали накапливать валютные резервы беспрецедентных размеров, чтобы никогда больше не оказаться в ситуации, когда им приходится просить помощи у МВФ на унизительных условиях. К середине 2000-х Китай, Южная Корея, Тайвань, Индия имели резервы, измеряемые сотнями миллиардов долларов. Это стало подушкой безопасности, которая помогла им пережить кризис 2008 года с минимальными потерями.
Другим следствием стал рост регионального сотрудничества. Страны АСЕАН создали механизмы валютных свопов, чтобы помогать друг другу в случае новых кризисов, не прибегая к МВФ. Чиангмайская инициатива, запущенная в 2000 году, позволила центральным банкам азиатских стран обмениваться валютами для поддержки платежного баланса. Это было признанием того, что полагаться исключительно на западные институты опасно.
Кризис 1997 года стал предвестником глобализации финансовых рынков и связанных с ней рисков. Он показал, насколько тесно связаны экономики разных стран и как быстро проблема в одном регионе может распространиться на весь мир. Всего через год, летом 1998 года, кризис перекинулся на Россию, которая объявила дефолт по внутреннему долгу. Затем пострадала Бразилия. Long-Term Capital Management, хедж-фонд, управляемый нобелевскими лауреатами, обанкротился, потеряв четыре миллиарда долларов на ставках по глобальным рынкам. Федеральная резервная система США была вынуждена организовать спасение фонда, опасаясь системного коллапса.
Для обычного инвестора история азиатского кризиса содержит несколько практических выводов. Первый: диверсификация по географии критически важна, но она не защищает от системных кризисов. Когда начинается паника, корреляция между активами стремится к единице, и все падает одновременно. Единственное, что действительно защищает, это ликвидность и способность пережить просадку без необходимости продавать на дне.
Второй вывод: долговая нагрузка в иностранной валюте смертельно опасна как для компаний, так и для целых стран. Если вы инвестируете в развивающиеся рынки, обращайте внимание на то, сколько внешнего долга имеет страна и какова ее способность обслуживать этот долг в случае девальвации национальной валюты. Страны с большим внешним долгом, выраженным в долларах, и ограниченными валютными резервами находятся в зоне риска.
Третий: момент входа на развивающиеся рынки определяет все. Покупать на пике эйфории, когда все говорят о чуде азиатских тигров, означает обрекать себя на потери. Покупать в момент максимального страха, когда все бегут из региона, требует нервов, но именно это приносит фантастическую доходность. Проблема в том, что отличить временную панику от фундаментального краха очень сложно в режиме реального времени.
Четвертый вывод касается роли плеча. Многие инвесторы в Азии использовали заемные средства, чтобы увеличить доходность. Когда рынок растет, это кажется блестящей идеей. Когда рынок падает на 50%, плечо уничтожает капитал полностью. Кредитное плечо на развивающихся рынках особенно опасно из-за высокой волатильности. То, что работает на стабильных западных рынках, может привести к катастрофе в эмержингах.
Наконец, кризис подтвердил старую истину: рынки иррациональны дольше, чем вы можете оставаться платежеспособным. Даже если ваш анализ правильный и вы понимаете, что паника неоправданна, это не поможет, если у вас нет ресурсов пережить период, когда рынок ведет себя иррационально. Джон Мейнард Кейнс, который сам был успешным инвестором, говорил, что рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы можете оставаться платежеспособным. Азиатский кризис – идеальная иллюстрация этого принципа.
Двадцать пять лет спустя азиатский кризис выглядит как важный, но преодоленный эпизод в истории региона. Страны, пережившие катастрофу, стали сильнее и умнее. Они больше не полагаются слепо на иностранный капитал, не привязывают валюты жестко к доллару, не позволяют накапливать критические дисбалансы. Но уроки кризиса остаются актуальными для любого инвестора, который работает с развивающимися рынками сегодня.
Турция, Аргентина, некоторые африканские страны демонстрируют те же симптомы, что и азиатские тигры в середине девяностых: быстрый рост на заемных средствах, большой внешний долг, переоцененная валюта, хрупкая банковская система. История не повторяется буквально, но она рифмуется. Инвестор, который знает, чем закончилась история в Таиланде в 1997 году, будет более осторожен, вкладываясь в похожие истории сегодня.
Развивающиеся рынки предлагают более высокую доходность, чем развитые, но за эту доходность приходится платить повышенными рисками. Кризисы в эмержингах случаются чаще и проходят жестче. Валюты обваливаются на 50% за несколько месяцев. Правительства объявляют дефолты. Рынки акций падают на 70%. Это реальность, с которой нужно считаться.
Однако те, кто понимает эти риски и умеет ими управлять, могут извлечь огромную выгоду. Каждый кризис создает возможности для тех, у кого есть капитал, смелость и терпение покупать активы по бросовым ценам. Джордж Сорос заработал на обвале валют, но другие инвесторы заработали на восстановлении экономик. Оба подхода могут быть прибыльными, если вы понимаете, что делаете, и готовы принять риски.
Азиатский кризис напоминает нам, что в мире финансов нет гарантий и безопасных ставок. Даже самые быстрорастущие экономики могут рухнуть. Даже самые уважаемые институты, такие как МВФ, могут ошибаться. Даже самые умные стратегии могут привести к потерям, если рынок поворачивается против вас. Единственная защита – это знание истории, понимание механизмов кризисов, дисциплина и способность сохранять холодную голову, когда все вокруг паникуют.
Следующий кризис на развивающихся рынках неизбежен. Мы не знаем, когда он случится и какая страна станет его эпицентром, но он обязательно произойдет. Те, кто изучил уроки 1997 года, будут готовы использовать возможности, которые он создаст. Остальные повторят ошибки тех, кто потерял деньги в Азии четверть века назад. История экономических кризисов безжалостна к тем, кто ее игнорирует, и щедра к тем, кто ее понимает.
Глава 2. Кризис 2008 года: великая рецессия и её последствия
2.1 Ипотечный пузырь и крах Lehman Brothers
Летним утром 2005 года риелтор Стивен Морган показывал дом в пригороде Лас-Вегаса паре, которая несколько месяцев назад иммигрировала из Мексики. Мануэль работал садовником, зарабатывая 20 000 долларов в год, его жена Мария подрабатывала уборщицей. Дом стоил 380 000 долларов, почти в двадцать раз больше их годового дохода. По всем разумным стандартам они не могли себе это позволить. Но Морган улыбался и говорил, что всё будет в порядке. Банк одобрит кредит, не нужны документы о доходах, первоначальный взнос можно взять вторым кредитом, а ежемесячный платёж в первые два года будет смешным. Главное: дом растёт в цене по 15% в год, через год можно будет рефинансироваться и снизить платежи. Мануэль и Мария подписали бумаги, не понимая ни слова. Они только что купили билет на американские горки, которые через три года сбросят их в финансовую пропасть, а заодно обрушат мировую экономику.
История ипотечного пузыря началась с благих намерений, как обычно бывает с катастрофами. В девяностых годах американские политики решили, что владение собственным жильём должно стать доступным каждому. Это была красивая идея, воплощение американской мечты. Правительство начало давить на банки, требуя выдавать кредиты людям с низкими доходами и плохой кредитной историей. Два гигантских ипотечных агентства, Fannie Mae и Freddie Mac, получили мандат скупать такие рискованные кредиты у банков, фактически гарантируя, что банки не понесут убытков. Логика была проста: если банк может сразу продать кредит государственному агентству, зачем ему переживать о том, вернёт ли заёмщик деньги?
Первые годы всё работало отлично. Процентные ставки после краха доткомов в начале 2000-х были на исторических минимумах. Федеральная резервная система держала базовую ставку на уровне одного процента, практически даром. Дешёвые деньги хлынули в экономику, и значительная часть потекла в недвижимость. Спрос на жильё рос, цены ползли вверх. Люди покупали дома не для того, чтобы жить в них, а как инвестиции. Появились флипперы, покупавшие недвижимость, делавшие косметический ремонт и продававшие через полгода с прибылью в 30-40%. На вечеринках обсуждали не фондовый рынок, а сколько заработали соседи на перепродаже домов.
Банки быстро поняли, что ипотека превратилась в золотую жилу. Традиционно банкиры были консервативными людьми, тщательно проверявшими платёжеспособность заёмщиков. Но теперь стимулы изменились. Ипотечный брокер получал комиссию за каждый выданный кредит. Его не волновало, вернёт ли заёмщик деньги через пять лет, главное было закрыть сделку сегодня. Банк, выдававший кредит, продавал его в течение недель инвестиционному банку. Инвестиционный банк упаковывал сотни таких кредитов в сложный финансовый инструмент и продавал его инвесторам по всему миру. Риск дефолта перекладывался с одного на другого, как горячая картошка, и в итоге оказывался где-то в немецком пенсионном фонде или норвежском муниципалитете.
Эта цепочка создала систему, где никто не нёс ответственности за последствия. Брокер хотел максимум сделок. Банк хотел максимум кредитов для продажи. Инвестиционный банк хотел максимум продуктов для упаковки. Рейтинговое агентство, которое оценивало эти продукты, получало плату от того же инвестиционного банка и выставляло высшие рейтинги почти всему подряд. Инвесторы на другом конце цепи верили рейтингам и покупали, не задавая лишних вопросов. Все зарабатывали, все были счастливы, пока музыка играла.
Субстандартное кредитование стало нормой к середине 2000-х. Термин субстандартный означал кредиты людям, которые по традиционным меркам не должны были их получить: с низкими доходами, плохой кредитной историей, без подтверждения занятости. Появились кредиты NINJA: no income, no job, no assets, нет дохода, нет работы, нет активов. Заёмщик просто называл цифру своего дохода, и банк записывал её в документы без проверки. Эти кредиты так и называли: кредиты лжецов, но никто не смущался.
Особенно циничными были структуры самих кредитов. Adjustable-rate mortgages, ипотеки с плавающей ставкой, предлагали крайне низкий платёж в первые два года, а потом ставка резко взлетала. Банкиры убеждали заёмщиков, что к тому времени дом вырастет в цене, и можно будет рефинансироваться на лучших условиях. Option ARM давал заёмщику выбор: платить только проценты или даже меньше, при этом основной долг не только не уменьшался, но и рос. Человек платил по ипотеке два года, а задолженность банку увеличивалась. Эти продукты были финансовыми бомбами замедленного действия, но их продавали миллионами.
Механизм надувания пузыря был прост и порочен. Рост цен на жильё позволял заёмщикам брать новые кредиты под залог возросшей стоимости дома. Люди рефинансировались, получали наличные и тратили их на потребление. Этот поток денег поддерживал экономический рост, розничные продажи росли, все чувствовали себя богаче. Но богатство было иллюзией, построенной на растущих ценах активов, которые росли только потому, что в них вливалось всё больше заёмных денег.
К 2006 году американский рынок жилья достиг абсурдных уровней. В некоторых городах, таких как Майами или Лас-Вегас, цены выросли на 300% за пять лет. Соотношение цены дома к годовому доходу семьи достигло девяти, при исторической норме в три-четыре. Дома в пригородах, которые стоили $200 000 в 2001 году, продавались за $60 000. Строительные компании возводили целые посёлки в пустыне, рассчитывая на бесконечный спрос. Все знали, что это безумие, но никто не хотел выходить из игры, пока она приносила деньги.
Настоящая магия, превратившая американскую ипотечную проблему в глобальную катастрофу, заключалась в финансовых инструментах с устрашающими аббревиатурами: CDO, CDS, MBS. Эти три буквы стали синонимом финансового оружия массового поражения, как их назвал Уоррен Баффетт ещё в 2003 году. Но мало кто слушал оракула из Омахи, когда деньги текли рекой.
Mortgage-backed securities, ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, были относительно простой концепцией. Банк собирал тысячу ипотечных кредитов в один пул и продавал доли в этом пуле инвесторам. Инвестор получал часть ежемесячных платежей заёмщиков. Идея разумная: диверсификация снижает риск. Даже если несколько заёмщиков не платят, остальные платят, и инвестор получает свой доход. Проблема началась, когда в пулы стали включать всё более рискованные кредиты, но при этом рейтинговые агентства продолжали присваивать им высокие рейтинги.
Инвестиционные банки не остановились на MBS. Они изобрели collateralized debt obligations, обеспеченные долговые обязательства. CDO был ещё сложнее: брали куски разных MBS, смешивали их вместе, делили на транши по уровню риска. Старший транш получал выплаты первым и считался безопасным, младший транш получал деньги последним и нёс все риски дефолтов. Гениальность схемы была в том, что даже если в пул входили плохие ипотеки, старший транш получал рейтинг AAA, как у казначейских облигаций США. Банки превращали мусор в золото с помощью математических моделей и печатей рейтинговых агентств.
Затем появились CDO в квадрате: synthetic CDO, синтетические обязательства. Эти инструменты даже не содержали реальных ипотек, они были просто ставками на то, дефолтнут ли другие CDO. Финансовая система превратилась в гигантское казино, где размер ставок многократно превышал размер реальной экономики, на которой они базировались. По оценкам, к 2007 году номинальная стоимость всех CDO и их производных превышала размер мирового ВВП.
Credit default swaps, свопы кредитного дефолта, добавили последний элемент в эту токсичную смесь. CDS был по сути страховкой от дефолта. Инвестор, владевший CDO, мог купить CDS у страховой компании или банка. Если CDO дефолтнул, продавец CDS выплачивал страховку. Звучит разумно, но возникли две проблемы. Во-первых, купить CDS мог кто угодно, даже тот, кто не владел базовым активом. Это как застраховать дом соседа и ждать, когда он загорится. Во-вторых, рынок CDS был нерегулируемым, никто не знал, кто кому и сколько должен.
Компания AIG, крупнейший страховщик мира, продала CDS на триллионы долларов, получая премии и не откладывая резервов на случай выплат. Их модели показывали, что вероятность массовых дефолтов ничтожна. Руководство AIG считало, что просто собирает дармовые деньги. Когда ипотечный рынок рухнул, AIG обнаружила, что должна выплатить десятки миллиардов долларов, которых у неё не было. Крупнейший страховщик мира оказался банкротом за несколько месяцев.
Летом 2007 года появились первые трещины. Два хедж-фонда Bear Stearns, специализировавшиеся на субстандартной ипотеке, обанкротились. Цены на жильё, росшие без остановки шесть лет, начали снижаться. Заёмщики с плавающими ставками обнаружили, что их платежи удвоились или утроились. Рефинансироваться уже не получалось, потому что дом теперь стоил меньше, чем долг. Количество дефолтов начало расти. Инвесторы, владевшие MBS и CDO, нервничали, но большинство экспертов успокаивали: проблемы локальные, рынок справится.
Осенью 2007 года Федеральная резервная система начала снижать ставки, пытаясь поддержать экономику. Но механизм был запущен, и остановить его было невозможно. Дефолты росли лавинообразно. Люди просто отдавали ключи от домов банкам и уходили. Зачем платить 300 000 за дом, который теперь стоит 200 000? Банки оказывались владельцами миллионов домов, которые некому продать. Цены падали дальше, запуская новую волну дефолтов. Классическая дефляционная спираль в действии.
Март 2008 года принёс первую жертву среди крупных игроков. Bear Stearns, один из пяти крупнейших инвестиционных банков Уолл-стрит, восьмидесятипятилетний институт, рухнул за выходные. В пятницу акции торговались по тридцать долларов, в понедельник JP Morgan купил банк за два доллара за акцию при содействии Федрезерва. Это был шок. Bear Stearns казался непотопляемым, но когда клиенты и контрагенты потеряли доверие, банк исчез за дни. Уолл-стрит нервничала, но многие думали, что худшее позади.
Лето 2008 года было затишьем перед бурей. Цены на нефть достигли ста сорока семи долларов за баррель, добавляя инфляционного давления. Экономика скатывалась в рецессию, но финансовая система ещё держалась. Lehman Brothers отчитался о прибыли во втором квартале, хотя все знали, что в портфеле банка сидят миллиарды токсичных активов. Руководство Lehman искало покупателя или партнёра, но переговоры шли вяло. Никто не хотел брать на себя риски умирающего банка.
Пятнадцатое сентября 2008 года мир проснулся с новостью, которая изменила всё: Lehman Brothers объявил о банкротстве. 660 миллиардов долларов активов, 25 000 сотрудников, 158 лет истории – всё испарилось за ночь. Это было крупнейшее банкротство в истории США, но дело было не в размере, а в последствиях. Lehman не был изолированным игроком, он был узлом в глобальной финансовой сети, связанным тысячами контрактов с другими банками, фондами, компаниями по всему миру.
Крах Lehman запустил системный кризис, какого мир не видел со времён Великой депрессии. Рынок межбанковского кредитования замёр мгновенно. Банки перестали доверять друг другу, никто не знал, у кого в портфеле сидят ядовитые активы. Ставки по межбанковским кредитам взлетели до небес. Компании, зависевшие от краткосрочных кредитов для оплаты зарплат и поставок, оказались без финансирования. Реальная экономика начала останавливаться.
Шестнадцатого сентября правительство США было вынуждено национализировать AIG, влив восемьдесят пять миллиардов долларов, чтобы не допустить банкротства. На следующий день Reserve Primary Fund, крупнейший фонд денежного рынка, объявил, что стоимость его акций упала ниже доллара из-за вложений в коммерческие бумаги Lehman. Это вызвало панику: фонды денежного рынка считались абсолютно безопасными, эквивалентом наличных. Началось массовое изъятие средств, которое могло обрушить всю индустрию.
Федеральная резервная система и Казначейство США работали круглосуточно, пытаясь предотвратить полный коллапс финансовой системы. За несколько недель они влили сотни миллиардов в банки, гарантировали депозиты, выкупили токсичные активы. Конгресс принял пакет спасения TARP на семьсот миллиардов долларов. Но паника на рынках только усиливалась. К октябрю индекс S&P 500 упал на 40% от максимумов года. Триллионы долларов капитализации испарились.
Крах распространился по миру с пугающей скоростью. Европейские банки, активно инвестировавшие в американские MBS, понесли огромные убытки. Британский банк Northern Rock был национализирован после первой со времён викторианской эпохи банковской паники в Великобритании. Исландия фактически обанкротилась, её три крупнейших банка рухнули одновременно, а валюта потеряла половину стоимости. В России фондовый рынок упал на 70% за три месяца. Китай, казавшийся изолированным от западных проблем, увидел резкое замедление экспорта и роста.
К декабрю 2008 года мировая экономика находилась в свободном падении. Американский ВВП сжимался темпом 80% в год. Безработица росла на полмиллиона человек ежемесячно. Автопроизводители General Motors и Chrysler стояли на грани банкротства. Розничные продажи рухнули на 20%. Впервые со времён депрессии заговорили о возможности полного краха капиталистической системы.
Но в этом хаосе были те, кто не просто выжил, а заработал состояния. Самым известным стал Майкл Бьюрри, управляющий небольшого хедж-фонда Scion Capital. Бьюрри был необычным персонажем для Уолл-стрит: врач по образованию, потерявший глаз в детстве, с лёгкой формой синдрома Аспергера, который делал его одержимым анализом данных. С 2005 года он начал изучать субстандартную ипотеку, читая проспекты отдельных кредитов в составе MBS.
То, что обнаружил Бьюрри, ужаснуло его. Пулы ипотек содержали кредиты, по которым заёмщики заведомо не смогут платить. Люди без дохода покупали дома за полмиллиона. Ипотеки с плавающей ставкой должны были ресетнуться в 2007-2008 годах, многократно увеличив платежи. Дефолты были неизбежны. Но рынок оценивал эти MBS так, будто они безопасны как казначейские облигации. Бьюрри понял, что нашёл величайшую инвестиционную возможность своей жизни.
Проблема была в том, что невозможно зашортить ипотечный кредит напрямую. Бьюрри обратился в инвестиционные банки с предложением: создайте для меня инструмент, который позволит ставить против ипотеки. Банки сначала не поняли, но потом согласились. Они создали специальные CDS на корзины MBS. Бьюрри платил небольшую регулярную премию, как страховку, а если ипотеки дефолтнут, банк выплатит ему кратную сумму. Банки считали, что нашли идиота, готового платить им деньги за ненужную страховку.
С 2005 по 2007 год Бьюрри вкладывал всё больше денег фонда в эти ставки против ипотеки. Его инвесторы не понимали стратегии и требовали вернуть деньги. Но Бьюрри был уверен в своём анализе и заблокировал выходы из фонда. Когда ипотечный рынок начал рушиться в 2007 году, его ставки начали приносить прибыль. К концу 2008 года фонд заработал для инвесторов 700%. Личная доля Бьюрри составила сто миллионов долларов.
Но самым крупным победителем кризиса стал Джон Полсон, управляющий хедж-фондом Paulson & Co. Полсон пришёл к тем же выводам, что и Бьюрри, но масштаб его ставок был на порядок больше. Он создал специальный фонд, посвящённый исключительно шортингу ипотеки. В 2007 году этот фонд заработал пятнадцать миллиардов долларов, больше, чем любой хедж-фонд в истории за один год. Личный доход Полсона составил четыре миллиарда. Он стал легендой, человеком, который предсказал кризис и заработал на нём больше всех.
Были и другие контрариане. Стив Айсман, управляющий портфелем в FrontPoint Partners, тоже шортил субстандартную ипотеку с 2006 года. Его анализ был прост: он ездил по пригородам, разговаривал со стриптизёршами, которые покупали пять домов на ипотеку, с риелторами, откровенно врущими о доходах клиентов. Он понял, что система прогнила насквозь, и поставил против неё. Джефф Грин из Hayman Capital увидел, что те же проблемы разрастаются в коммерческой недвижимости, и заработал на её крахе.
Интересно, что большинство этих контрарианов не были инсайдерами Уолл-стрит. Бьюрри управлял небольшим фондом из Калифорнии. Полсон специализировался на слияниях и поглощениях, а не на кредитных рынках. Они увидели очевидное, потому что смотрели на данные без предвзятости. Инсайдеры же не могли или не хотели видеть проблемы, потому что вся их карьера и бонусы зависели от продолжения пузыря.
Контрарианское мышление требует не только аналитических способностей, но и железных нервов. Бьюрри держал свои позиции два года, пока они приносили убытки. Его инвесторы требовали голову, рынок смеялся над ним. Нужна была огромная уверенность в своём анализе, чтобы не закрыть позиции раньше времени. Многие трейдеры, которые тоже видели проблемы, вышли слишком рано или не выдержали давления и закрыли ставки до того, как рынок рухнул.
Важный урок истории Бьюрри и Полсона: правота недостаточна, нужен ещё и тайминг. Можно быть правым в анализе, но если рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы можете оставаться платёжеспособным, вы всё равно проиграете. Эти инвесторы не только правильно поняли ситуацию, но и нашли инструменты, которые позволили держать позиции достаточно долго. Обычные шорты акций потребовали бы огромных маржинальных депозитов, CDS на ипотеку позволяли держать ставку за небольшую премию.
После краха Lehman контрарианы не ушли с пляжа. Они начали покупать активы, которые рынок продавал в панике. Когда банковские акции упали на 90%, когда корпоративные облигации торговались по двадцать центов на доллар, когда даже качественная недвижимость продавалась за бесценок, умные деньги начали входить. Дэвид Теппер из Appaloosa Management купил миллиарды долларов привилегированных акций банков, которые рынок считал мусором. Он заработал семь миллиардов за год, превратив каждый вложенный доллар в три.
Уоррен Баффетт, который предупреждал о деривативах как оружии массового поражения, не упустил возможности. В разгар паники осени 2008 года он инвестировал пять миллиардов в Goldman Sachs и три миллиарда в General Electric, получив привилегированные акции с дивидендами 10% годовых и опционы на обычные акции. Эти инвестиции принесли Berkshire Hathaway прибыль в несколько миллиардов. Баффетт следовал своему правилу: будь жадным, когда другие боятся.
Розничные инвесторы, которые сохранили холодную голову, тоже получили шанс всей жизни. Те, кто купил индексный фонд на S&P 500 в марте 2009 года, когда индекс опустился до 666 пунктов, увеличили свои деньги в шесть раз к 2020 году. Акции Apple, упавшие до 12 долларов с учётом сплитов, выросли до 180. Amazon с 30 до 3 тысяч. Bank of America с 3 долларов до 40. Это были не обанкротившиеся компании, а лидеры своих отраслей, временно подешевевшие в панике.
Кризис 2008 года преподал множество уроков, но главный из них: системы, построенные на чрезмерных долгах и сложных финансовых инструментах, хрупки. Когда все звенья цепи зависят друг от друга, разрыв одного звена рушит всё. Lehman Brothers был этим звеном, и его банкротство показало, насколько взаимосвязана финансовая система. Банки держали активы друг друга, страховали друг друга, кредитовали друг друга. Когда одна домино упала, остальные последовали.
Второй урок: рейтинговые агентства не заслуживают слепого доверия. Moody's, S&P, Fitch присваивали высшие рейтинги токсичным CDO, получая за это плату от тех же банков, которые эти CDO создавали. Конфликт интересов был очевиден, но система работала так десятилетиями. Инвесторы, полагавшиеся на рейтинги, не проводили собственного анализа и потеряли миллиарды. Бьюрри и другие контрариане не доверяли рейтингам, они читали реальные данные.
Третий урок касается регулирования. Дерегуляция финансовой индустрии в девяностых и нулевых, отмена закона Гласса-Стигалла, который разделял коммерческие и инвестиционные банки, создали условия для безудержного роста рисков. Банки стали слишком большими, чтобы им позволили упасть, и это породило моральный риск. Руководство знало, что в случае проблем правительство придёт на помощь, поэтому не боялось брать чрезмерные риски.
Четвёртый урок: центральные банки готовы сделать всё для спасения системы. Федрезерв снизил ставки до нуля, влил триллионы ликвидности, купил токсичные активы. Европейский центральный банк, Банк Англии, центробанки по всему миру действовали синхронно. Они предотвратили повторение Великой депрессии, но ценой создания новых дисбалансов. Печатание денег в таких масштабах ранее казалось немыслимым, но после 2008 года стало нормой.
Последствия кризиса ощущаются до сих пор. Десять лет нулевых и отрицательных процентных ставок исказили рынки капитала. Огромный рост долга, как государственного, так и корпоративного. Инфляция активов при стагнации реальных зарплат. Рост неравенства, потому что владельцы активов выиграли от действий центробанков, а обычные работники нет. Поколение, вступившее во взрослую жизнь во время кризиса, до сих пор несёт психологические шрамы и недоверие к финансовой системе.
Но для инвесторов, которые учатся на истории, кризис 2008 года: бесценный учебник. Он показал, как формируются пузыри, как они лопаются, как распознать признаки надвигающегося краха. Он показал, что даже самые респектабельные институты могут рухнуть за дни. Что рейтинги и экспертные мнения могут быть катастрофически ошибочными. Что паника создаёт возможности для тех, кто сохраняет способность думать рационально.
История Lehman Brothers стала символом. Фотографии сотрудников, выносящих коробки с вещами из офиса, облетели мир. Стопятидесятилетний банк, переживший гражданскую войну, две мировые войны, Великую депрессию, исчез за выходные. Это напоминание о хрупкости даже самых мощных финансовых институтов. Напоминание о том, что в кризис не выживает ни имя, ни история, ни размер. Выживает только тот, кто управляет рисками правильно.
Для следующего поколения инвесторов пятнадцатое сентября 2008 года должно остаться предупреждением. Кризисы повторяются, меняются только детали. В следующий раз это будет не субстандартная ипотека, а какой-то другой перегретый сегмент рынка. Но механика будет той же: чрезмерные долги, сложные финансовые инструменты, которые никто до конца не понимает, самоуспокоенность регуляторов, жадность участников. Тот, кто изучил уроки 2008 года, получил карту для навигации в следующем кризисе.
Майкл Бьюрри после кризиса закрыл свой фонд и ушёл из публичного пространства, измученный конфликтами с инвесторами и вниманием медиа. Джон Полсон продолжил управлять деньгами, но его последующие ставки оказались менее удачными, доказывая, что даже гении могут ошибаться. Но их наследие осталось: доказательство того, что глубокий анализ, контрарианское мышление и смелость держать позиции вопреки толпе могут принести сверхприбыли в кризис. Их история вдохновляет, но также и предупреждает: путь контрариана одинок и труден, и далеко не каждый способен его пройти до конца.
2.2 Как зарабатывали в 2008 году: стратегии победителей
Осень 2008 года запомнилась большинству людей как время паники, потерь и отчаяния. Банки рушились один за другим, миллионы семей теряли дома, а пенсионные счета таяли на глазах. Но для небольшой группы инвесторов этот период стал звездным часом. Пока толпа в панике бежала с рынков, они действовали по четкому плану и зарабатывали состояния. Их истории не похожи на сказки о волшебной удаче. Это примеры хладнокровного расчета, глубокого понимания механизмов экономики и готовности идти против толпы, когда страх достигает максимума.
Что объединяло всех победителей того кризиса? Они видели проблемы задолго до того, как о них заговорили в новостях. Они понимали, что субстандартная ипотека создает пузырь, который неизбежно лопнет. Они знали, какие инструменты использовать для извлечения прибыли из надвигающейся катастрофы. И самое главное, у них хватило смелости действовать, когда все вокруг говорили, что рынки будут расти вечно.
Начать стоит с самого радикального способа заработка в кризис: ставки на падение. В обычное время большинство инвесторов зарабатывают простым способом, они покупают актив дешевле и продают дороже. Но что делать, когда рынок идет вниз? Оказывается, можно зарабатывать и на падении, используя механизм, который называется короткой продажей или шортом.
Принцип работы шорта довольно прост, хотя на первый взгляд может показаться странным. Инвестор берет в долг у брокера акции компании, которые, по его мнению, должны упасть в цене. Затем он сразу же продает эти акции по текущей рыночной цене. Когда акции действительно дешевеют, он покупает их обратно по новой, более низкой цене и возвращает брокеру. Разница между ценой продажи и ценой покупки становится его прибылью.
Представьте, что вы берете в долг акцию компании по цене сто долларов и сразу продаете ее за эту сумму. Через месяц акция падает до пятидесяти долларов. Вы покупаете ее по новой цене и возвращаете брокеру, а разницу в пятьдесят долларов оставляете себе. Конечно, если бы акция выросла до ста пятидесяти, вам пришлось бы купить ее дороже и понести убыток. Именно поэтому короткие продажи считаются рискованной стратегией, требующей точного расчета времени и глубокого понимания ситуации.
В 2008 году немногие решились шортить финансовый сектор, когда банки все еще казались незыблемыми. Большинство аналитиков с Уолл-стрит продолжали давать позитивные прогнозы, а рейтинговые агентства присваивали высшие оценки ипотечным ценным бумагам. Требовалось невероятное мужество и уверенность в своем анализе, чтобы идти против этого мощного хора оптимизма.
Среди тех, кто нашел в себе эту смелость, особенно выделяется имя Джона Полсона. До 2007 года он был относительно малоизвестным управляющим хедж-фонда, который специализировался на сделках слияний и поглощений. Но именно Полсон сумел разглядеть надвигающуюся катастрофу на рынке недвижимости раньше большинства коллег и превратить это знание в одну из самых прибыльных сделок в истории финансов.
История началась в 2005 году, когда Полсон начал изучать американский рынок жилья. То, что он увидел, вызвало у него тревогу. Цены на дома росли совершенно нереальными темпами, причем часто в регионах без какого-либо экономического обоснования. В пустынях Невады и Аризоны строились целые районы, хотя местная экономика не создавала новых рабочих мест. Ипотеку выдавали людям без доходов, без работы, без каких-либо сбережений. Банки предлагали кредиты с нулевым первоначальным взносом и символическими платежами в первые годы. Вся система держалась на предположении, что цены на жилье будут расти бесконечно.
Полсон понял, что это классический финансовый пузырь, который неизбежно лопнет. Но как заработать на этом знании? Обычный шорт акций строительных компаний или банков был слишком прямолинейным и рискованным решением. Рынок мог продолжать расти еще год или два, прежде чем рухнуть, а поддержание коротких позиций обходится дорого.
Решение пришло в виде относительно малоизвестного на тот момент инструмента под названием кредитный дефолтный своп. По сути, это была страховка на случай дефолта по облигациям или другим долговым бумагам. Полсон начал покупать свопы на ипотечные ценные бумаги, особенно на те, которые были обеспечены субстандартными кредитами. Он фактически делал ставку на то, что заемщики не смогут выплачивать долги, а сами бумаги обесценятся.
Красота этой стратегии заключалась в асимметрии риска и прибыли. Покупка кредитных дефолтных свопов стоила относительно недорого, потому что рынок считал риск дефолта минимальным. Рейтинговые агентства присваивали этим бумагам высшие рейтинги. Но если прогноз Полсона окажется верным и начнутся массовые дефолты, стоимость свопов взлетит в десятки раз.
В 2006 и начале 2007 года Полсон активно накапливал эти позиции, тратя на страховку сотни миллионов долларов денег своих инвесторов. Это был нервный период. Рынок недвижимости продолжал расти, хотя и замедлялся. Клиенты фонда начали задавать неудобные вопросы о том, почему они платят за страховку, которая кажется ненужной. Некоторые инвесторы забирали деньги, не веря в апокалиптический сценарий Полсона.
Но к лету 2007 года ситуация начала меняться. Первые трещины появились на рынке субстандартной ипотеки. Заемщики стали массово допускать просрочки, а банки начали изымать дома. Цены на недвижимость развернулись вниз. Стоимость кредитных дефолтных свопов, которые Полсон накопил, начала расти.
Когда осенью 2008 года кризис достиг апогея, позиции Полсона принесли астрономическую прибыль. Его главный фонд вырос на 590% за год. Личное состояние самого Полсона увеличилось на четыре миллиарда долларов только за один год. Общая прибыль его фондов от ставок против ипотечных бумаг составила около пятнадцати миллиардов долларов. Это была одна из самых прибыльных сделок в истории, осуществленная одним инвестором.
История Полсона показывает несколько важных принципов успешного инвестирования в кризис. Первое, нужно провести глубокий анализ и сформировать собственное мнение, даже если оно противоречит консенсусу рынка. Второе, важно найти правильный инструмент для реализации своей идеи, инструмент с благоприятным соотношением риска и потенциальной прибыли. Третье, требуется терпение и готовность переждать период, когда рынок еще не признает вашу правоту. И четвертое, нужна смелость действовать, когда все говорят, что вы ошибаетесь.
Но не все зарабатывали в 2008 году на ставках против рынка. Существовала и противоположная стратегия, которая в долгосрочной перспективе оказалась не менее прибыльной: покупка качественных активов на дне кризиса. И здесь главным героем становится человек, которого многие считают величайшим инвестором всех времен.
Уоррен Баффетт, руководитель Berkshire Hathaway и один из богатейших людей планеты, действовал по своему классическому принципу: быть жадным, когда другие боятся. Пока большинство инвесторов в панике распродавали активы, а банки балансировали на грани краха, Баффетт искал возможности для инвестиций.
В сентябре 2008 года, всего через несколько дней после банкротства Lehman Brothers, когда паника на рынках достигла пика, Баффетт совершил одну из своих самых известных сделок. Он вложил пять миллиардов долларов в Goldman Sachs, один из старейших и наиболее престижных инвестиционных банков. В тот момент это казалось безумием. Весь финансовый сектор рушился, банки падали как костяшки домино, а Goldman Sachs, несмотря на свою репутацию, тоже находился под огромным давлением.
Но Баффетт понимал несколько вещей, которые ускользали от внимания паникующей толпы. Во-первых, Goldman Sachs был фундаментально более здоровым банком, чем многие его конкуренты. У него был сильный менеджмент, диверсифицированный бизнес и относительно крепкий баланс. Во-вторых, правительство США не могло позволить краха всей финансовой системы и наверняка окажет поддержку оставшимся крупным банкам. В-третьих, даже если Goldman столкнется с серьезными проблемами, условия сделки, которые Баффетт согласовал, давали ему значительную защиту.
Структура инвестиции была типично баффеттовской, то есть крайне выгодной для инвестора. Berkshire Hathaway получил привилегированные акции с дивидендной доходностью 10% годовых. Это означало, что Баффетт будет получать пятьсот миллионов долларов каждый год, независимо от того, как идут дела у банка. Кроме того, он получил опционы на покупку обычных акций Goldman по фиксированной цене, что давало огромный потенциал прибыли, если банк оправится от кризиса.
Эта сделка имела и психологический эффект. Инвестиция от Баффетта, человека с легендарной репутацией и непоколебимым авторитетом, послала рынку сигнал: Goldman Sachs выживет. Это помогло стабилизировать акции банка и улучшить настроения инвесторов. Фактически Баффетт получил деньги не только за свой капитал, но и за свою репутацию.
Через несколько лет условия этой инвестиции оказались настолько выгодными для Berkshire, что Goldman выкупил привилегированные акции досрочно, заплатив дополнительную премию. А опционы на покупку обычных акций принесли Баффетту прибыль около трех миллиардов долларов. Общая доходность сделки составила примерно 80%, не считая дивидендов, которые он получал все эти годы.
Но Goldman Sachs был не единственной инвестицией Баффетта в разгар кризиса. В октябре 2008 года он опубликовал колонку в газете, в которой заявил, что покупает американские акции на свои личные деньги. На тот момент его публичная заявка была экстраординарной. Рынки падали каждый день, новости были исключительно негативными, а эксперты предрекали еще более глубокий обвал. Но Баффетт писал, что хотя краткосрочная ситуация остается неопределенной, в долгосрочной перспективе американская экономика всегда восстанавливалась после кризисов.
Berkshire Hathaway использовал момент для целой серии крупных инвестиций. Компания вложила деньги в General Electric, в швейцарского производителя часов Swatch Group, приобрела акции железнодорожной компании Burlington Northern Santa Fe. Баффетт покупал доли в компаниях, которые имели сильные бренды, устойчивые бизнес-модели и временно страдали от общей паники на рынке.
Стратегия Баффетта кардинально отличалась от подхода Полсона. Если Полсон делал ставку на краткосрочную катастрофу и планировал выйти из позиций, когда кризис достигнет пика, то Баффетт играл вдолгую. Он покупал качественные активы с намерением держать их годами или даже десятилетиями. Он не пытался поймать абсолютное дно рынка. Его философия заключалась в том, что когда качественные компании продаются с большой скидкой из-за временной паники, не так важно, купил ли ты на самом дне или немного выше.
Для обычных инвесторов стратегия Баффетта гораздо более доступна и реалистична, чем сложные производные инструменты вроде кредитных дефолтных свопов. Ключевые принципы просты, хотя и требуют дисциплины. Нужно заранее составить список качественных компаний, которые вы хотели бы купить по разумной цене. Нужно иметь достаточно наличных, чтобы действовать, когда наступит паника. Нужно быть готовым покупать, когда все вокруг продают, что психологически очень трудно. И самое главное, нужно иметь долгосрочную перспективу и готовность переждать период, когда купленные акции могут еще какое-то время падать.
Важно понимать, что Баффетт не призывал ловить падающие ножи или бездумно покупать все подряд. Он фокусировался на компаниях с сильными конкурентными преимуществами, которые он называл экономическими рвами. Это были бизнесы с узнаваемыми брендами, высокими барьерами для входа конкурентов, сильными рыночными позициями. Кризис создавал временную возможность купить долю в таких компаниях дешевле, чем обычно, но фундаментальное качество бизнеса оставалось неизменным.
Параллельно с действиями на фондовом рынке многие инвесторы обратили внимание на традиционное убежище в периоды экономической неопределенности. Золото имеет многовековую историю как средство сохранения стоимости, когда бумажные деньги теряют доверие, а финансовые системы трещат по швам.
В начале 2008 года унция золота торговалась около девятисот долларов. К концу года, несмотря на временное падение в разгар острой фазы кризиса осенью, металл закрепился выше этой отметки. А в последующие годы золото начало настоящее ралли, достигнув исторического максимума около девятнадцати ста долларов за унцию к середине 2011 года. Таким образом, инвесторы, которые купили золото в начале кризиса 2008 года, удвоили свои вложения за три года.
Причины роста золота в этот период были многогранными. Центральные банки по всему миру начали печатать огромные количества денег, пытаясь стимулировать экономику. Федеральная резервная система США снизила процентные ставки практически до нуля и запустила программы количественного смягчения, покупая триллионы долларов в облигациях. Это вызвало опасения по поводу будущей инфляции и обесценивания бумажных валют. Золото, количество которого ограничено природой и которое нельзя напечатать по желанию политиков, выглядело привлекательной защитой.
Кроме того, кризис 2008 года подорвал доверие к традиционной финансовой системе. Люди увидели, как рухнули банки, которые считались надежными столетиями. Они наблюдали, как правительства спасают финансовые институты за счет налогоплательщиков. Это заставило многих переосмыслить, где на самом деле находится настоящая ценность. Золото, как актив, который существует физически и не зависит от обещаний правительств или корпораций, получило новую привлекательность.
Инвестировать в золото можно разными способами. Самый прямой, покупка физического металла в виде слитков или монет. Это дает полный контроль над активом, но создает проблемы с хранением и безопасностью. Более удобный вариант для большинства инвесторов, биржевые фонды, которые держат физическое золото и выпускают акции, привязанные к его стоимости. Крупнейший из таких фондов, SPDR Gold Shares, торгуется на бирже под тикером GLD и позволяет купить или продать золото так же легко, как обычную акцию.
Есть и более спекулятивный способ: инвестиции в акции золотодобывающих компаний. Эти акции обычно растут сильнее, чем сам металл, когда цены на золото идут вверх, потому что растут прибыли компаний. Но они также более волатильны и несут дополнительные риски, связанные с операционной деятельностью конкретных компаний.
Важно понимать, что золото не приносит дивидендов или процентов. Его доходность зависит исключительно от роста цены. Это делает его не самым лучшим долгосрочным вложением в стабильные времена, когда акции и облигации дают регулярный доход. Но в периоды кризисов и неопределенности, когда другие активы падают, золото выполняет роль страховки для портфеля.
Многие успешные инвесторы держат небольшую долю портфеля в золоте постоянно, обычно от 5 до 10%. Это не ставка на рост металла, а защитная мера. Когда наступает кризис и акции падают, золото часто растет или по крайней мере держится стабильно, что помогает сгладить общие потери портфеля.
Параллельно с золотом в 2008 году еще одним безопасным убежищем стали государственные облигации, особенно долговые бумаги наиболее надежных правительств. Когда инвесторы в панике бегут от риска, они ищут активы, которые гарантированно вернут вложенные деньги, даже если доходность будет минимальной.
Американские казначейские облигации испытали мощное ралли в разгар кризиса осенью 2008 года. Доходность десятилетних облигаций упала с 4% в начале года до 2% в конце, что означало рост цен этих бумаг. Инвесторы, которые держали длинные облигации США, не только сохранили капитал, но и заработали на росте их стоимости.
Механика довольно проста. Облигации имеют фиксированную доходность, установленную при выпуске. Когда новые облигации выпускаются с более низкой доходностью из-за падения процентных ставок, старые облигации с более высокой доходностью становятся более ценными. Их рыночная цена растет, чтобы уравнять эффективную доходность с текущими рыночными условиями.
Похожая ситуация была с немецкими бундами и швейцарскими государственными облигациями. Эти бумаги считались самыми безопасными в Европе, и спрос на них взлетел во время кризиса. Даже когда их доходность падала до очень низких уровней, инвесторы продолжали покупать, потому что главным приоритетом было сохранение капитала, а не максимизация дохода.
Стратегия инвестирования в государственные облигации может показаться скучной и малоприбыльной по сравнению с драматическими историями многомиллиардных прибылей от шортов или удачных покупок акций. Но для многих консервативных инвесторов, особенно тех, кто близок к пенсии, это был правильный выбор. Они не только избежали потерь, которые понес фондовый рынок, но и получили скромную, но стабильную прибыль.
Важный урок, который дает облигационная стратегия, заключается в понимании роли различных активов в портфеле. Облигации не должны делать вас богатым. Их задача, обеспечить стабильность и предсказуемый доход, который балансирует риски акций. Когда акции падают на 30 или 40%, как в 2008 году, наличие значительной доли портфеля в качественных облигациях может быть разницей между катастрофой и контролируемым снижением.
Классическое правило диверсификации предполагает, что доля облигаций в портфеле должна примерно соответствовать возрасту инвестора. Если вам сорок лет, около 40% портфеля может быть в облигациях, остальное в акциях. Это правило не универсальное и может корректироваться в зависимости от личной толерантности к риску, но оно дает разумную отправную точку.
Во время кризиса 2008 года те инвесторы, которые имели хорошо диверсифицированные портфели с существенной долей в облигациях и золоте, потеряли значительно меньше, чем те, кто был полностью инвестирован в акции. А когда рынки начали восстанавливаться, они могли ребалансировать портфель, продавая подорожавшие облигации и покупая подешевевшие акции, что позволило быстрее вернуться к докризисным уровням.
Стоит также упомянуть о тех, кто зарабатывал на кризисе не через прямые инвестиции, а через операционный бизнес. Компании, которые имели сильные балансы и доступ к капиталу, могли покупать активы конкурентов за бесценок. Банки с устойчивыми позициями приобретали более слабых конкурентов за символические суммы при поддержке правительства. Bank of America купил Merrill Lynch, JPMorgan Chase приобрел Washington Mutual и часть активов Bear Stearns. Эти сделки, хотя и были рискованными и создавали краткосрочные проблемы, в долгосрочной перспективе укрепили позиции покупателей на рынке.
В секторе недвижимости инвесторы с наличными деньгами скупали за гроши дома, которые банки изымали у неплатежеспособных заемщиков. В некоторых регионах цены упали на пятьдесят, шестьдесят, даже 70% от пиковых значений. Покупка недвижимости в 2009-2010 годах оказалась исключительно прибыльной инвестицией, когда рынок начал восстанавливаться.
Фонды прямых инвестиций, которые держали большие суммы в наличных перед кризисом, получили уникальные возможности. Они могли предоставлять финансирование компаниям, которые отчаянно нуждались в капитале, на очень выгодных для себя условиях. Кредиты выдавались под высокие проценты, часто с долей в капитале компании в качестве дополнительного бонуса.
Все эти разнообразные стратегии объединяет несколько общих черт. Первое, подготовка. Успешные инвесторы не начинали действовать хаотично, когда грянул кризис. Они заранее изучили рынок, выявили проблемы, составили план действий. Полсон потратил годы на анализ ипотечного рынка, прежде чем сделать свою ставку. Баффетт десятилетиями изучал компании и ждал момента, когда они станут доступны по разумной цене.
Второе, наличие капитала. Невозможно воспользоваться возможностями кризиса, если все деньги уже инвестированы или, еще хуже, вложены в маржинальные позиции с заемными средствами. Многие инвесторы были вынуждены продавать активы на дне, потому что брокеры требовали внесения дополнительного обеспечения. Те же, кто держал значительную часть портфеля в наличных или ликвидных безопасных активах, могли действовать агрессивно.
Третье, психологическая устойчивость. Покупать, когда все продают, идти против толпы, делать ставки, которые кажутся безумными большинству, все это требует невероятной силы духа. Страх заразителен, особенно в моменты, когда новости ежедневно приносят сообщения о новых катастрофах. Но именно в эти моменты максимального страха возникают лучшие возможности.
Четвертое, понимание фундаментальной стоимости. Недостаточно просто купить что-то дешевое. Нужно понимать, почему этот актив стоит больше, чем текущая рыночная цена. Баффетт покупал Goldman Sachs не потому, что акции упали, а потому что понимал бизнес-модель банка и верил в его способность выжить и процветать после кризиса. Некоторые инвесторы покупали дешевые акции компаний, которые были обречены, и теряли все.
Пятое, терпение и долгосрочная перспектива. Большинство успешных инвестиций, сделанных во время кризиса 2008 года, не принесли мгновенной прибыли. Рынки продолжали падать еще несколько месяцев после многих покупок. Требовалось терпение, чтобы держать позиции, когда бумажные убытки росли. Но те, кто продержался, в итоге были щедро вознаграждены.
Кризис 2008 года также показал важность диверсификации не только между классами активов, но и между стратегиями. Портфель, который включал немного золота, государственных облигаций, качественных акций и, возможно, небольшую долю в альтернативных инвестициях, показывал себя гораздо лучше, чем концентрированные позиции. Даже если некоторые позиции теряли, другие могли компенсировать эти потери.
Стоит отметить, что не все, кто пытался заработать на кризисе, добились успеха. Многие инвесторы слишком рано начали покупать падающие акции и потеряли деньги, когда рынок продолжил снижение. Другие настолько увлеклись шортами, что не успели выйти из позиций, когда рынок начал разворачиваться, и понесли убытки на растущем рынке. Третьи покупали акции компаний, которые казались дешевыми, но оказались просто плохими бизнесами, обреченными на дальнейшее падение.
Есть также этический аспект заработка на кризисе, который нельзя игнорировать. Когда миллионы семей теряют дома и рабочие места, публичные истории о миллиардных прибылях инвесторов могут вызывать возмущение. Полсон, например, стал объектом критики: его обвиняли в том, что он наживается на чужом горе. Справедлива ли такая критика? С одной стороны, Полсон не создавал проблему. Он просто увидел ее раньше других и сделал соответствующую ставку. С другой стороны, финансовая система устроена так, что успех одних часто означает потери других.
Для обычного инвестора, который не управляет миллиардами и не имеет доступа к сложным производным инструментам, уроки 2008 года остаются актуальными и применимыми. Кризисы повторяются. Они принимают разные формы, но базовая динамика остается похожей: эйфория сменяется паникой, цены падают ниже разумных уровней, а затем начинается восстановление.
Ключ к успеху не в том, чтобы пытаться точно предсказать время начала и окончания кризиса. Это практически невозможно. Ключ в том, чтобы быть готовым. Иметь план действий. Знать, какие активы вы хотите купить, если представится возможность. Держать достаточно наличных, чтобы действовать. Контролировать эмоции и не паниковать, когда все вокруг теряют голову.
Простая стратегия регулярного инвестирования фиксированных сумм, которую иногда называют методом усреднения, позволяет автоматически покупать больше, когда цены низкие, и меньше, когда цены высокие. Если вы продолжали вкладывать деньги ежемесячно в индексный фонд акций в течение 2008-2009 годов, вы покупали акции по низким ценам и получили огромную прибыль, когда рынок восстановился.
История победителей кризиса 2008 года учит нас, что возможности существуют всегда, даже в самые темные времена. Но чтобы воспользоваться этими возможностями, нужно сочетание знаний, подготовки, дисциплины и смелости. Джон Полсон показал силу глубокого анализа и готовности идти против толпы. Уоррен Баффетт продемонстрировал ценность терпеливого инвестирования в качественные активы по разумным ценам. Рынок золота и облигаций напомнил о важности защитных активов в портфеле.
Следующий кризис обязательно наступит. Никто не знает, когда именно и какую форму он примет. Но можно с уверенностью сказать, что те, кто учится на опыте прошлого, кто готовится заранее и сохраняет холодную голову в момент паники, снова получат шанс превратить кризис в возможность. Вопрос не в том, будет ли следующий кризис. Вопрос в том, будете ли вы готовы, когда он придет.
2.3 Количественное смягчение: новая реальность денег
Когда Lehman Brothers рухнул, а мировая финансовая система оказалась на грани коллапса, центральные банки столкнулись с проблемой, которую не могли решить привычными методами. Они снизили процентные ставки до нуля, но этого оказалось недостаточно. Кредитование замерло, банки перестали доверять друг другу, а компании не могли получить финансирование даже для текущих операций. Именно тогда Федеральная резервная система США запустила программу, которая полностью изменила представление о том, как работают деньги в современной экономике.
Осенью 2008 года председатель ФРС Бен Бернанке, который до кризиса был известен как эксперт по Великой депрессии, принял решение применить инструмент, который прежде казался теоретическим упражнением из учебников. Федрезерв начал массово скупать долгосрочные облигации напрямую с рынка, создавая для этого новые деньги буквально из воздуха. Программа получила название количественного смягчения, хотя многие экономисты и журналисты предпочитали более понятный термин: печатание денег.
Механика процесса выглядела следующим образом: центральный банк создавал в своём балансе новые резервы, которыми расплачивался за облигации казначейства США и ипотечные ценные бумаги. Продавцы этих облигаций – коммерческие банки, инвестиционные фонды, страховые компании – получали наличные деньги, которые прежде просто не существовали. ФРС не включала печатный станок в буквальном смысле, она просто вводила цифры в компьютерную систему, увеличивая свои обязательства.
Первая программа количественного смягчения стартовала в ноябре 2008 года, когда ФРС объявила о покупке ипотечных ценных бумаг на сумму шестьсот миллиардов долларов. Это было беспрецедентно, но стало лишь началом. К марту 2009 года объём программы расширили до 1,75 триллиона долларов. Когда эффект стал ослабевать, в ноябре 2010 года запустили вторую программу на шестьсот миллиардов долларов. Третья программа, начавшаяся в сентябре 2012 года, вообще не имела конечного срока: ФРС объявила, что будет покупать по сорок миллиардов долларов ипотечных бумаг и сорок пять миллиардов долларов казначейских облигаций каждый месяц, пока экономика не восстановится.
Баланс Федеральной резервной системы, который в 2007 году составлял около восьмисот миллиардов долларов, к концу 2014 года раздулся до 4,5 триллионов долларов. Центральный банк превратился в крупнейшего держателя американского государственного долга и ипотечных ценных бумаг. Похожие программы запустили Европейский центральный банк, Банк Англии и Банк Японии. Совокупный объём денег, созданных ведущими центробанками мира, превысил десять триллионов долларов.
Критики немедленно заговорили о надвигающейся гиперинфляции. Если напечатать такое количество денег, разве они не обесценятся? Разве это не повторение сценария Веймарской Германии 1920-х годов или Зимбабве 2000-х, когда печатный станок превращал национальную валюту в груду бумаги? Экономисты австрийской школы предрекали крах доллара и призывали скупать золото, пока не поздно. Конгрессмены требовали остановить безумие. Однако ожидаемой инфляции не случилось.
Причина заключалась в том, что созданные деньги не попали в реальную экономику напрямую. Они осели в банковской системе в виде избыточных резервов. Коммерческие банки, получившие наличность от продажи облигаций центробанку, не спешили выдавать кредиты. После пережитого шока они предпочитали держать деньги на счетах в ФРС, где те приносили небольшой, но гарантированный процент. Скорость обращения денег – показатель того, как быстро доллар переходит из рук в руки – упала до исторических минимумов.
Традиционная потребительская инфляция, измеряемая ростом цен на продукты, одежду и бензин, действительно оставалась низкой. С 2009 по 2015 год она колебалась в районе 1,5-2% в год, что было даже ниже целевого показателя ФРС в 2%. Обычные американцы не замечали резкого роста стоимости жизни. Однако деньги, созданные количественным смягчением, всё же нашли себе применение, просто в другом месте.
Инфляция пришла не в продуктовые магазины, а на финансовые рынки. Когда облигации приносят околонулевую доходность, а центральный банк скупает их с рынка, толкая цены ещё выше и доходность ещё ниже, инвесторы начинают искать альтернативы. Институциональные управляющие, которые обязаны обеспечивать доходность пенсионных фондов и страховых компаний, не могут держать деньги под матрасом. Им нужна прибыль, и они находят её в более рискованных активах.
Началась массовая миграция капитала из облигаций в акции. Индекс S&P 500, который в марте 2009 года опустился до 666 пунктов, к концу 2013 года вырос до 1848 пунктов. Это означало почти трёхкратный рост за четыре с половиной года. Компании, чьи акции в разгар кризиса казались безнадёжными, превратились в золотые жилы. Apple, торговавшаяся в начале 2009 года по двенадцать долларов за акцию с учётом сплитов, к 2014 году стоила уже семьдесят долларов. Amazon выросла с сорока до четырёхсот долларов. Даже банковские акции, которые многие считали токсичными, показали фантастическую доходность: Bank of America поднялся с трёх долларов в 2009 году до семнадцати в 2014-м.
Инвесторы, понявшие логику количественного смягчения на ранних этапах, заработали состояния. Логика была простой: если центральный банк создаёт триллионы долларов, эти деньги рано или поздно начнут искать применение. Поскольку экономика восстанавливалась медленно, а инфляция оставалась низкой, ФРС не планировала повышать ставки в ближайшие годы. Это означало, что среда дешёвых денег сохранится надолго. А в среде дешёвых денег финансовые активы растут почти гарантированно.
Хедж-фонды начали использовать стратегию, которую называли "carry trade на стероидах". Они занимали под околонулевые ставки в долларах, иенах или евро, а затем инвестировали эти заёмные средства в более доходные активы: акции развивающихся рынков, высокодоходные облигации, недвижимость. Разница между стоимостью заимствования и доходностью инвестиций превращалась в чистую прибыль. Некоторые фонды использовали кредитное плечо десять к одному, превращая скромную доходность в 10% годовых в головокружительные 100%.
Частные инвесторы тоже почувствовали эффект количественного смягчения, хотя многие не понимали, откуда взялся бычий рынок. Те, кто держал диверсифицированный портфель акций через индексные фонды, увидели, как их счета восстанавливаются и начинают расти. Пенсионные накопления, потерявшие до 40% стоимости в 2008-2009 годах, не только вернулись к прежним уровням, но и превысили их. К 2013 году средний американец с пенсионным планом 401(k), который не запаниковал и не продал акции на дне, оказался богаче, чем до кризиса.
Недвижимость стала вторым крупным бенефициаром политики дешёвых денег. Ипотечные ставки, которые исторически колебались в районе 6-7%, упали до 3,5%, а затем и ниже. Это радикально меняло математику покупки жилья. Дом стоимостью 300 000 долларов при ставке 7% требовал ежемесячного платежа около 2 тысяч долларов. При ставке 3,5% платёж снижался до 1350 долларов. Внезапно недвижимость стала доступна гораздо более широкому кругу покупателей.
Рынок недвижимости начал восстанавливаться с 2012 года. В некоторых городах цены росли по 20% в год. Инвесторы, купившие foreclosed properties – дома, отобранные банками у неплательщиков – в 2010-2011 годах, к середине десятилетия сидели на прибыли в 100-200%. Компании вроде Blackstone создали целые подразделения по скупке жилой недвижимости, превращая её в арендные портфели. Они понимали: пока ФРС держит ставки низкими, стоимость заимствований для покупки домов остаётся минимальной, а цены на недвижимость будут расти.
Корпорации тоже воспользовались эрой дешёвых денег, но немного по-другому. Вместо того чтобы занимать для инвестиций в новые заводы или исследования, многие крупные компании выпускали облигации под 3-4% годовых и использовали вырученные средства для выкупа собственных акций с рынка. Логика была безупречной: зачем инвестировать в рискованные проекты, когда можно гарантированно повысить прибыль на акцию, просто сократив количество акций в обращении? Apple выпустила облигаций на десятки миллиардов долларов, несмотря на то что у компании были огромные наличные резервы. Эти деньги лежали за границей, и репатриировать их означало платить высокие налоги. Проще было занять дома под смешные ставки.
Программы выкупа акций достигли рекордных масштабов. В период с 2009 по 2017 год компании из индекса S&P 500 потратили на байбэки более четырёх триллионов долларов. Критики говорили, что это искусственно раздувает фондовый рынок, что компании жертвуют долгосрочным развитием ради краткосрочного роста котировок, от которого выигрывают в первую очередь топ-менеджеры с опционами на акции. Но в среде количественного смягчения эта стратегия работала безотказно.
Побочным эффектом дешёвых денег стал бум стартапов и венчурного капитала. Когда традиционные инвестиции приносят 2-3% годовых, инвесторы готовы рисковать ради обещания десятикратной или стократной доходности. Венчурные фонды получили рекордные объёмы капитала для инвестиций в технологические компании. Стартапы, которые в обычное время с трудом находили финансирование, теперь привлекали десятки и сотни миллионов долларов, даже не имея прибыли или чёткой бизнес-модели.
Uber, Airbnb, WeWork и множество других компаний выросли именно в этой среде. Они теряли деньги год за годом, но инвесторы не возражали: главное было захватить рынок, а прибыльность могла подождать. Это работало, пока деньги оставались дешёвыми. Когда позже, в конце 2010-х, ФРС начала повышать ставки, многие из этих бизнес-моделей оказались под вопросом. Но в период количественного смягчения критиковать убыточные стартапы считалось признаком непонимания новой экономики.
Количественное смягчение создало целый класс инвесторов, которые никогда не видели медвежьего рынка длительностью больше нескольких месяцев. Молодые трейдеры, начавшие карьеру после 2009 года, усвоили простую истину: просадки нужно покупать, потому что ФРС всегда придёт на помощь. Когда рынок падал на 5-10%, это воспринималось не как угроза, а как возможность купить подешевевшие активы. И каждый раз рынок действительно отскакивал вверх, подтверждая правоту оптимистов.
Эта уверенность породила явление, которое экономисты назвали "моральным риском". Инвесторы знали: центральные банки не позволят рынкам упасть слишком сильно, потому что финансовая стабильность стала приоритетом номер один после кризиса 2008 года. Любая серьёзная коррекция встречала немедленную реакцию: намёки на новые программы стимулирования, отсрочку повышения ставок, успокаивающие речи председателей центробанков. Рынок получил негласную гарантию, известную как "put от Федрезерва" – уверенность, что падение будет остановлено.
Инвесторы, использовавшие эту логику, получали огромную прибыль. Простая стратегия: покупать на коррекциях, держать акции долгосрочно и не пытаться угадать вершину рынка – приносила среднегодовую доходность в районе 15-20% с учётом дивидендов. Тот, кто вложил 100 тысяч долларов в индексный фонд S&P 500 в марте 2009 года, к концу 2017 года имел около 400 тысяч долларов. Учитывая, что инфляция была минимальной, это означало реальное учетверение капитала за восемь с половиной лет.
Золото, которое многие считали страховкой от печатания денег, показало противоречивые результаты. С 2009 по 2011 год цена унции выросла с семисот пятидесяти до 1900 долларов, что казалось подтверждением теории о неминуемой инфляции. Золотые жучки праздновали победу, предрекая дальнейший рост до 3 или даже 5 тысяч долларов за унцию. Однако затем началась коррекция. К концу 2015 года золото торговалось около 1050 долларов, потеряв почти половину стоимости от пика. Инвесторы, вложившиеся в золото на максимумах, понесли значительные убытки.
Причина разочарования золота была проста: ожидаемая инфляция не материализовалась, а реальные процентные ставки, хоть и были низкими, оставались положительными. Золото не приносит процентов и дивидендов, его привлекательность растёт только в условиях либо высокой инфляции, либо финансового хаоса. Когда стало ясно, что количественное смягчение не приведёт к краху доллара, а лишь поддержит экономику и раздует цены активов, инвесторы предпочли акции и недвижимость.
Облигации – традиционная защита в кризисные времена – оказались в парадоксальной ситуации. Казначейские облигации США, которые в разгар паники 2008-2009 годов приносили доходность 3-4% годовых, к 2012 году давали меньше 2%, а десятилетние бонды опускались до 1,5%. Покупать облигации при таких ставках казалось безумием: инфляция съедала всю доходность. Однако благодаря программам количественного смягчения даже эти низкие ставки продолжали падать, что означало рост цен самих облигаций.
Инвесторы, купившие тридцатилетние казначейские облигации в 2011 году с доходностью 3%, к 2016 году получили около 30% прибыли от роста цены облигации, когда ставки упали до 2,5%. Облигационный рынок, который традиционно считается скучным и предсказуемым, превратился в источник спекулятивной прибыли. Управляющие фондами зарабатывали, угадывая действия центральных банков и покупая облигации перед очередными раундами количественного смягчения.
Развивающиеся рынки получили мощный импульс от американского и европейского количественного смягчения. Триллионы долларов, созданных западными центробанками, искали более высокую доходность и устремились в страны Азии, Латинской Америки и Восточной Европы. Бразильские, турецкие, индонезийские активы росли в цене, их валюты укреплялись, экономики бурно развивались. С 2009 по 2013 год фонды развивающихся рынков давали среднегодовую доходность выше 20%.
Однако эта медаль имела обратную сторону. Когда в 2013 году председатель ФРС Бен Бернанке намекнул, что программа количественного смягчения может быть свёрнута раньше, чем ожидалось, начался "taper tantrum" – приступ истерики на рынках. Капитал начал стремительно уходить из развивающихся стран обратно в США. Валюты развивающихся рынков обвались на 10-20% за несколько недель. Те, кто вовремя не зафиксировал прибыль, потеряли значительную часть заработанного.
Количественное смягчение изменило саму природу инвестирования. Традиционный анализ компаний – изучение балансов, прогнозирование прибылей, оценка конкурентных преимуществ – отошёл на второй план. Главным стало понимание действий центральных банков. Трейдеры разбирали каждое слово в выступлениях председателей ФРС и ЕЦБ, пытаясь предугадать следующий шаг в монетарной политике. Возникла новая профессия – интерпретатор центробанковской риторики.
Стратегия "следуй за ФРС" стала мантрой успешных инвесторов. Когда центральный банк смягчает политику – расширяет баланс, снижает ставки, запускает новые программы стимулирования – нужно покупать рискованные активы. Когда ФРС сворачивает стимулы и намекает на ужесточение, пора фиксировать прибыль и переходить в защитные позиции. Эта простая логика работала год за годом, обогащая тех, кто ей следовал, и разоряя упрямцев, пытавшихся инвестировать вопреки политике денежных властей.
Критики количественного смягчения указывали на растущее неравенство. Владельцы акций и недвижимости становились богаче, потому что именно эти активы росли в цене. Но большинство населения не имело значительных инвестиций в фондовый рынок. Их зарплаты росли медленно, сбережения на банковских счетах приносили околонулевой процент, а цены на жильё в крупных городах взлетали, делая покупку дома недостижимой мечтой. Количественное смягчение спасло финансовую систему и обогатило инвесторов, но обычные люди почувствовали эффект лишь косвенно.
К середине десятилетия стало ясно: мир вступил в новую эпоху. Эпоху, где центральные банки играют роль не просто регуляторов процентных ставок, но активных участников рынка, крупнейших покупателей облигаций, последней инстанции поддержки экономики. Старые правила перестали работать. Инвесторы, жившие по принципам докризисного мира, терпели убытки или упускали прибыль. Выигрывали те, кто адаптировался к новой реальности дешёвых денег и понял: пока центральные банки готовы создавать триллионы из воздуха для поддержки экономики, финансовые активы будут расти.
Количественное смягчение не просто спасло мировую экономику от повторения Великой депрессии. Оно создало новую парадигму, в которой деньги перестали быть ограниченным ресурсом, а стали инструментом управления экономикой. Инвесторы, осознавшие это первыми и скорректировавшие свои стратегии, заработали состояния. Те же, кто продолжал ждать краха и инфляции, теряли возможности год за годом, наблюдая, как рынки растут вопреки всем прогнозам апокалипсиса.
История количественного смягчения показывает: в современном мире понимание монетарной политики важнее умения читать финансовую отчётность. Центральные банки стали крупнейшими игроками на рынке, и игнорировать их действия равносильно самоубийству для портфеля. Следующий кризис неизбежно принесёт новые раунды печатания денег, возможно, ещё более масштабные. Те, кто усвоил уроки 2008-2015 годов, будут готовы использовать эту ситуацию. Остальные снова будут удивляться, почему богатые становятся ещё богаче, пока они стоят в стороне.
2.4 Долговой кризис в Европе 2010-2012
Когда в октябре 2009 года новое правительство Греции признало, что предыдущая администрация годами манипулировала статистикой дефицита бюджета, мало кто мог предположить, что это откровение едва не разрушит всю еврозону. Реальный дефицит оказался не 3,7%, как заявлялось ранее, а целых 12,7% ВВП. Государственный долг достиг 115% ВВП вместо официальных 99%. Этот момент стал спусковым крючком для одного из самых драматичных кризисов в истории единой европейской валюты.
Проблема заключалась не только в греческом обмане. За красивым фасадом европейской интеграции скрывались фундаментальные изъяны всей конструкции евро. Представьте себе дом, где разные семьи живут под одной крышей, пользуются общей валютой для расчётов между собой, но при этом каждая семья ведёт собственный бюджет и тратит столько, сколько хочет. Одни семьи экономны и дисциплинированы, другие привыкли жить не по средствам. Когда наступают трудные времена, экономные семьи должны спасать расточительных, иначе рухнет весь дом. Именно такой была ситуация в еврозоне в 2010 году.
Греция стала первой костяшкой домино. Весной 2010 года страна уже не могла привлекать займы на рынке по приемлемым ставкам. Доходность десятилетних греческих облигаций взлетела до 12%, затем до 15%, потом перевалила за 30%. Для сравнения: немецкие облигации той же срочности торговались с доходностью около 2-3%. Инвесторы массово избавлялись от греческих бумаг, опасаясь дефолта. Евро падал, рынки по всему миру нервничали. Воспоминания о крахе Lehman Brothers в 2008 году были ещё слишком свежи, чтобы позволить себе очередную катастрофу.
В мае 2010 года Европейский союз и Международный валютный фонд собрали первый пакет помощи Греции на 110 миллиардов евро. Условия были жёсткими: радикальное сокращение бюджетных расходов, повышение налогов, приватизация госимущества, реформа пенсионной системы. Греческое правительство согласилось на всё. На улицах Афин начались протесты и беспорядки. Люди не понимали, почему они должны расплачиваться за ошибки политиков и банкиров. Средний класс беднел на глазах, безработица росла месяц за месяцем.
Но Греция была только началом. Вскоре стало ясно, что проблемы есть и у других стран южной периферии еврозоны. Ирландия столкнулась с кризисом банковской системы после лопнувшего пузыря на рынке недвижимости. Чтобы спасти банки, правительство национализировало их долги, и государственный долг взлетел со скромных 25% ВВП в 2007 году до более чем 100% к 2010-му. Ирландии также пришлось просить о помощи, получив 85 миллиардов евро.
Португалия оказалась третьей в очереди за спасательным кругом. Страна десятилетиями жила не по средствам, имея хронический дефицит счёта текущих операций и низкие темпы экономического роста. Португальские облигации тоже начали распродаваться, доходность росла, и весной 2011 года страна получила помощь в размере 78 миллиардов евро.
Испания представляла собой значительно более серьёзную проблему из-за размера своей экономики. Четвёртая экономика еврозоны, Испания переживала последствия гигантского пузыря на рынке недвижимости, который лопнул в 2008 году. Испанские банки были забиты токсичными активами, связанными с недвижимостью. Безработица в стране выросла до катастрофических 25%, среди молодёжи она превышала 50%. Целое поколение испанцев столкнулось с тем, что не может найти работу. Многие уезжали из страны в поисках лучшей доли. Испанские облигации также начали дешеветь, и доходность десятилетних бумаг приближалась к опасной отметке в 7%, которая считалась порогом устойчивости.