Ненависть с первого взгляда бесплатное чтение
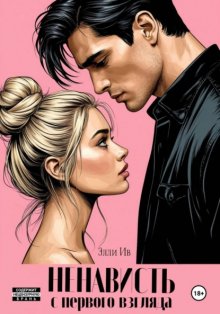
Глава 1. Алиса
Сегодня я проснулась в холодном поту. Чем ближе приближается этот день, тем я становлюсь тревожнее. День, когда я отправлюсь в элитную частную школу-пансион "Олимпия".
Со стороны может показаться, что судьба подарила мне шанс, который выпадает раз в жизни. Ведь меня выбрали на должность нового учителя в престижную частную школу из трехсот других претендентов! Место, о котором опытные педагоги с сединой на висках могут лишь мечтать, досталось мне – вчерашней выпускнице художественного училища без опыта работы. Но я-то знаю настоящую цену этому «счастью». Ведь именно я выиграла международный конкурс по живописи. Чем сразу привлекла внимание директора пансиона. Ему нужна была не просто учительница, а живая диковинка, победительница, чье имя можно бросить на стол переговоров с акционерами, как козырь. В их мире, мире денег и призрачной власти, репутация – валюта дороже золота.
Откуда мне это известно? О, я уже однажды заглядывала в эту роскошную бездну. В семнадцать мой хрустальный мир столкнулся с их миром, и мои розовые очки побились стеклами внутрь. Тогда я на своей шкуре, до самой сути, прочувствовала, что значит «не из тех кругов». И вот теперь я еду в их логово. Учить современному искусству отпрысков олигархов и наследников империй, этих мажоров, которые с молоком матери впитали убеждение, что все вокруг – обслуживающий персонал. Но я не позволю втоптать себя в грязь. Я – учитель. Они – мои ученики. В этой простой формуле мое спасение.
––
– Я учитель, а они мои ученики, – прошептала я, вглядываясь в свое отражение в зеркале, запотевшее от нервного дыхания.Эти слова, словно заклинание, должны были придать мне сил. Но даже они дрожали, сталкиваясь с непокорной дрожью в руках. Я вновь взяла подводку для глаз – этот черный, почти враждебный стержень, который сегодня будто сговорился со всем миром против меня. Стрелки выходили кривыми, насмешливо изогнутыми. Еще одна попытка – и вот уже не стрелка, а размазанное черное пятно гнева и бессилия. В конце концов, я одержала победу. Линии легли не так, как задумывалось, но сойти за попытку выглядеть профессионально – сгодится.
Я отступила на шаг, давая себе окончательную оценку. Из зеркала на меня смотрела незнакомка. Бледная, с глазами, в которых погас весь огонь, что обычно горел, когда я брала в руки кисть. Усталая девушка с пустым взглядом. Ну, блеск я себе не верну за пять минут с помощью косметики, а вот эти синеватые тени под глазами, словно оставленные ночными кошмарами, – с ними я могла справиться. Плотный слой тонального крема стал моим спасением.
С макияжем было покончено. Теперь – прическа. Я решила собрать высокий пучок. На моих светлых волосах он смотрится элегантно. Это одна из моих выигрышных причесок. Пучок должен был создать образ собранной, неуязвимой женщины. Но и тут мои волосы подчинились не с первого раза, выбиваясь мягкими непослушными прядями. Но в итоге и они сдались, образовав на затылке идеальную, холодную раковину.
Собрав себя по частям, как конструктор, я принялась за последний ритуал – проверку сумки. В ней было до обидного мало: пара строгих костюмов-футляров, несколько тюбиков косметики, сменное белье. Вся моя жизнь пока умещалась в одну дорожную сумку. На самом дне, заветным талисманом, лежал роман. Старый, потрепанный, с загнутыми уголками страниц. Мир в нем был простым и справедливым, где любовь и добро всегда побеждали.
Рука уже лежала на дверной ручке, холодный металл прижался к ладони. Но что-то заставило меня обернуться. Комната замерла в ожидании. Утренний свет прорывался через тюль и подсвечивал каждую пылинку, танцующую в воздухе над старым комодом. Он освещал не вещи, а призраков. Вот этот потертый паркет у кровати, на котором я, пятнадцатилетняя, с карандашом в дрожащей руке, выводила свои первые серьезные наброски, боясь пропустить шум шагов отца в прихожей. А вот и тот самый угол, где на стене осталась легкая вмятина – след от мольберта, который я в ярости отшвырнула, когда узнала, что родители не купят мне новые краски. Стены, испещренные следами от кнопок, что держали мои рисунки, – окна в другой, прекрасный мир.
Здесь, за этой тонкой стеной, я слышала, как рушится мир моей матери – приглушенные всхлипы, сдавленные голоса, звон битой посуды. А здесь, под этим абажуром с потертой бахромой, я пряталась, уткнувшись в книгу по искусству, чтобы не слышать этих скандалов. Эта комната была и крепостью, и клеткой. Здесь я училась быть невидимой, и здесь же рождались мои самые смелые, яркие полотна, в которых не было ни капли серости нашего быта.
Воспоминания нахлынули вихрем, горячим и горьким. Они обжигали изнутри. И в этом вихре сложилось стойкое, почти физическое ощущение: я захлопываю не просто дверь, а целую главу жизни. Я вернусь сюда не скоро. Возможно, никогда по-настоящему. И комок подкатил к горлу – не то от щемящей грусти по этому уютному хаосу, не то от облегчения, что наконец-то вырываюсь.
Из тяжелого омута мыслей меня выдернул резкий, настойчивый звук оповещения на телефоне. Такси ждет. Реальность вновь заявила о своих правах.
Я накинула легкую джинсовую курточку. И выпорхнула в темный, пахнущий пылью и остывшей едой подъезд, не позволив себе оглянуться еще раз.
И что-то переключилось. С каждым шагом вниз по лестнице, с каждым щелчком каблуков по бетонным ступеням груз прошлого словно становился легче. Я оставляла его позади, в той комнате с танцующей пылью. А в душе, сквозь тревогу, пробился тонкий, но упрямый росток. Росток надежды, что все будет хорошо. Что впереди – не просто чужая и враждебная «Олимпия», а новая, моя собственная картина, и на этом полотне я напишу все так, как захочу сама.
Глава 2. Казимир
Воздух. Воздух. Воздух. В этом стерильном, отполированном до блеска доме его не хватает с самого детства. Я не дышу, а лишь ловлю редкие глотки, словно рыба, выброшенная на мраморный берег. Парадокс в том, что я знаю здесь каждый стык каменной плитки, каждый отблеск на хромированных ручках, но сегодня всё это стало чужим, как декорации к плохой пьесе, в которой мне отвели роль неудачного дублера.
Со стороны мы, должно быть, выглядим идеально, как рекламный букет дорогого риэлторского агентства. Отец, Роман Георгиевич, – человек-скала, сколотивший состояние на том, что подчинил город своим прямым, бездушным линиям. Мать, Элеонора Андреевна, – его изящное дополнение, вечная хранительница этого очага, в котором так редко разводят настоящий огонь. А я – сбой в их безупречной программе. В детстве я изучал их лица в поисках хоть капли своего отражения и не находил. Даже генетический тест, холодно подтвердивший родство, не избавил от ощущения, что я – подкидыш, случайно попавший в этот мир глянца и расчетов. Я – сломанная игрушка, которую с завидным упорством пытаются починить, вставить в правильную коробку. Но все их усилия тщетны. Им так и не удалось вылепить из меня копию моего брата Михаила. Вот он – их триумф, их идеальный проект, оправдавший каждую вложенную копейку. Прилежный, предсказуемый, он движется по проложенным рельсам, и даже его брак – всего лишь удачное поглощение активов, дочь партнера, принесшая новые контракты.
– Казимир, где ты опять летаешь?
Словно сквозь толщу воды, сквозь вату собственных мыслей до меня докатывается его голос, низкий и властный, способный заставить съежиться даже воздух вокруг.
– Нигде, Роман Георгиевич, – отвечаю я, глядя куда-то поверх его головы.
– Опять паясничаешь. Ты когда-нибудь станешь серьезным?
– Затрудняюсь ответить, Роман Георгиевич.
Я чувствую, как по нервам отца пробегает ток, как он начинает закипать, подобно дорогой эспрессо-машине на нашей кухне. И от этого внутри меня распускается ядовитый, но такой живительный цветок злорадства. Решаю полить его. Одариваю отца обворожительной, вымученной улыбкой, которую он так ненавидит. Вижу, как напрягаются желваки на его скулах, как белеют костяшки его пальцев, сжимающих край стола. Он сдерживается, и эта его сдержанность – моя маленькая победа.
– Казимир, ты подготовился к отъезду в «Олимпию»?
– Конечно, дорогой папа, ваш неугодный сын скоро покинет ваш дом и перестанет нарушать безупречную гармонию вашего бытия.
– Каз…
Но я не даю ему договорить. Резко вскакиваю, и мои движения нарочито стремительны, почти дерзки. Вылетаю из столовой и скрываюсь за поворотом в своей комнате. Захлопываю дверь с таким грохотом, что, кажется, слышен хруст хрустальной люстры в гостиной. Только здесь, в этом хаосе из чертежей, книг по архитектуре и разбросанной одежды, я могу выдохнуть.
Собрался ли я в «Олимпию»? Да, я уже готов отправиться в свою позолоченную клетку. Мне восемнадцать, и при желании я мог бы сбежать в какой-нибудь богемный берлинский вуз, но… пока я следую папиному плану. Пока я играю по его правилам, он позволяет мне приближаться к его бизнесу, к тому единственному, что меня по-настоящему зажигает. Да и в «Олимпии» я не узник. Я – князь. Учителя ходят передо мной на цыпочках, боясь спровоцировать гнев моего отца-акционера, а ученики смотрят на меня с восхищением и завистью. И мне это… нравится. Эта власть – единственный язык, на котором этот мир говорит со мной без презрения.
Я опускаюсь в кресло перед своим чертежным столом, и пальцы сами тянутся к карандашу. Здесь я не неспокойный отпрыск. Здесь я – творец.
Проект, над которым я работаю, – это не просто здание. Это манифест. Я представляю себе культурный центр, дерзко врезающийся в наскучивший городской пейзаж, как клинок. В его основе – парадокс: фасад из холодного, почти зеркального стекла, которое будет отражать скучные прямые линии соседних небоскребов, обнажая их уродство. Но главная идея – внутри. Атриум, сердце здания, должен быть выполнен в духе органической архитектуры, с плавными, текучими линиями, напоминающими то ли раскрытый бутон, то ли птичье крыло. Лестницы, словно живые лианы, будут оплетать пространство, соединяя уровни не прямыми маршами, а изогнутыми пандусами, заставляя людей замедлить шаг, сбить с привычного ритма. Это вызов. Вызов моему отцу, его миру прямых углов и бездушной эффективности. Мои проекты, такие же строптивые, уже принесли его фирме пару выгодных контрактов, но для них я все равно остаюсь непослушным ребенком, которого нужно «приструнить».
Время за работой летит неумолимо, растворяя меня в линиях и формах. Меня вырывает из творческого транса сигнал телефона. Сообщение от Фила, моего одноклассника по «Олимпии»: «Каз, ты готов оторваться в последний день перед школой?»
Мы живем неподалеку, и все лето тусили вместе, но другом я бы его не назвал. Пожалуй, у меня нет друзей. Есть свита, есть компания для развлечений, тусовок и кутежа. Для них я – Казимир-душа-компании, обезбашенный богач, которому на всё плевать. Они знают мою улыбку, но не видят теней под ней. Никто из них не подозревает, какие демоны живут в моей душе.
Но мысль неплоха. Мне нужно сбросить это напряжение, эту маску примерного сына и гениального затворника. Местные девчонки, готовые на всё ради внимания и щедрости Казимира Романовича, станут отличным лекарством.
Отвечаю быстро: «Конечно, а ты сомневался?»
Накидываю свою любимую кожаную куртку от Valentino, потертости на которой – не следствие бедности, а тщательно продуманный дизайн, символ мнимой бунтарской свободы. Не хочу новых стычек с родителями. Поэтому старое, проверенное решение: открываю окно и ловко спускаюсь по знакомому карнизу. Проделывал этот трюк десятки раз. Еще один побег.
––
Возвращаюсь за полночь. Я сбросил внешнее напряжение, но внутри у меня по-прежнему тугой узел из тревожных мыслей. Ведомый внезапным импульсом, я решаю не прятаться. Пусть видят. Захожу через парадный вход, громко щелкая замком, наступая на идеально натертый пол.
В прихожей меня уже ждёт мать. В руке у нее бокал красного вина. Внешне она всегда очень спокойная, и никто не знает, какие шестеренки крутятся в её голове. Пожалуй, это единственная наша общая черта, которую я обнаружил.
– Не поверишь, я так и думала, что ты что-нибудь выкинешь в последний день, – ее голос тихий, ровный, без упрека.
– Ну, это констатация факта, а по делу что-то есть? – отвечаю с вызовом, сбрасывая куртку на ближайшее кресло, нарушая безупречный порядок.
– Есть. Тебя отец зовет к себе в кабинет. Иди к нему немедленно. – Она делает небольшой глоток, и ее взгляд скользит по мне, будто оценивая неудачную покупку. – Он и так был очень зол, когда узнал о твоем побеге. Не раздражай его еще больше.
– Слушаюсь и повинуюсь, – бросаю через плечо, уже направляясь к его кабинету.
Интересно, что ему понадобилось в такой час? Вроде бы исчерпали запас взаимных претензий за ланчем.
Вхожу без стука, готовясь к очередной порции нравоучений. Но кабинет погружен в полумрак, освещен лишь одной настольной лампой, отбрасывающей длинные тени. Отец не поднимает на меня взгляда, уставившись в документы на столе. Он выглядит усталым, и это незнакомое состояние на мгновение обезоруживает. Вместо ожидаемого гнева он говорит спокойным, ровным тоном, лишенным всяких эмоций:
– В этом году у вас появится новый предмет. Что-то про современное искусство. Отнесись со всей серьезностью к этому.
Я фыркнул, не скрывая презрения. Не может быть, чтобы это было единственной причиной ночного вызова.
– Серьезно? Вязание макраме и брызги краской на холсте? У нас что, и так мало лишних предметов? Это кому-то нужно? – выпаливаю я, чувствуя, как закипает привычное раздражение.
Отец наконец поднимает на меня взгляд. Холодный, оценивающий.
– Это нужно совету акционеров и имиджу школы. И вести его будет не абы кто. Победительница международного конкурса. Какая-то… Алиса, как же её… забыл.
Я уже было открыл рот, чтобы излить новую порцию сарказма, но отец, пошевелив пальцем по планшету, продолжил:
– Вспомнил. Алиса Бельская. Я так понял, она только после универа, но подает большие надежды. А конкурс, который она выиграла, очень престижный. Ты же знаешь вашего директора Арсения Викторовича, он не проглядел столь ценный кадр, он же ведь и сам искусствовед.
Но я его уже не слышал.
Имя прозвучало, как выстрел в тишине соборной залы. Сначала – просто набор звуков. Потом – удар под дых, от которого перехватывает дыхание.
Алиса Бельская.
Та самая? Не может быть. Но мир сузился до одной точки, до щемящего воспоминания, которое я пытался похоронить. В голове, словно осколки, закружились обрывки прошлого: ее смех, который никогда не был обращен ко мне, светлые волосы, заплетенные в небрежную косу, и ее глаза, смотревшие на меня с легкой, снисходительной жалостью. Она была девушкой Михаила, на три года старше. Для всех – милая, талантливая девочка. Для меня, четырнадцатилетнего, – первая, мучительная и безнадежная любовь. Я был для нее всего лишь «маленьким братиком», несносным ребенком, который вечно вертелся под ногами и пытался привлечь внимание дурацкими выходками. Она видела мою настырность, но не разглядела за ней отчаянную попытку быть замеченным. А потом они с Мишей расстались – родители сочли ее «неподходящей партией». И я видел, как она плакала. И ненавидел себя, и ее, и весь этот мир, который все расставляет по своим, чужим полочкам.
– Ну ты что застыл-то? – Голос отца, жесткий и нетерпеливый, вернул меня в настоящее, в этот холодный кабинет.
Я заставил себя выпрямиться, сжав кулаки так, что ногти впились в ладони.
– …Так вот, – продолжил отец, – Арсений Викторович хочет поучаствовать в каком-то там конкурсе, пропиарить наш пансион. И он поручит этой Алисе сделать проект совместно с учениками. Я хочу, чтобы ты был в числе первых, кто будет в этом участвовать. Это очень важно и для нашей компании. Понял?
Внутри все закипело. Гнев? Да, старый, как ржавчина. Но не только. Что-то острое и колкое, похожее на стыд, который я никогда не признавал. И дикое, непреодолимое желание доказать. Доказать ей, что я больше не тот нелепый мальчишка. Доказать отцу, что я чего-то стою. Доказать всем, что я тот, кто стоит выше. Что она, при всей своей талантливости, – все та же пыль под ногами у людей вроде нас.
Уголки моих губ поползли вверх в холодной, безжизненной улыбке, которую я так долго репетировал перед зеркалом.
– Хорошо, – сказал я, и мой голос прозвучал на удивление ровно. – С большим удовольствием познакомлюсь с… мисс Бельской поближе. Уверен, у нас найдется, что обсудить. Насчет искусства. И не только.
Современное искусство? – пронеслось в голове, пока я выходил из кабинета. – Что ж, Алиса. Давно не виделись. Посмотрим, как долго ты продержишься в мире, который тебя однажды уже вышвырнул. И на этот раз я не буду маленьким невидимым мальчиком. На этот раз я сделаю так, что это ты почувствуешь себя пылью. И это будет мой главный проект в этом учебном году.
Глава 3. Алиса
Такси резко свернуло с проселочной дороги на идеально прямой, заасфальтированный подъезд, обсаженный стрижеными елями. Я прижалась лбом к холодному стеклу, и у меня перехватило дыхание.
«Олимпия» возникла не постепенно, а явилась вся сразу, высеченная из гордого камня и высокомерия. Это не было просто зданием. Это был замок, неприступный и величественный. Строгие готические шпили вонзались в серое, нахмуренное небо, будто бросая вызов самому горизонту. Стены из темного, старого камня, испещренные узкими арочными окнами, казалось, впитали в себя молчание веков и холодное равнодушие ко всему миру за своими воротами. Он подавлял. Давил. Заставлял почувствовать себя букашкой у подножия исполина. Мое сердце, и без того трепетавшее от тревоги, забилось в паническом ритме. «Что я делаю здесь?» – пронеслось в голове. – «Я, Алиса Бельская, девочка из старой душной хрущевки, в этом… этом цитадели власти и денег».
Машина остановилась перед массивными дубовыми дверями. Я вышла, сжимая в потных ладонях ручку своей скромной сумки. Воздух здесь был другим – чистым, стерильным, лишенным деревенских запахов земли и травы. Он пах деньгами. И тоской.
Встречали меня, как по расписанию. Не как дорогого гостя, а как необходимый, но сомнительный груз.
Первой появилась Тамара Олеговна Орлова, завуч по учебной части. Женщина в строгом костюме цвета хаки, с лицом, которое, казалось, никогда не знало улыбки. Ее взгляд, быстрый и оценивающий, скользнул по мне с ног до головы, задерживаясь на моих не самых дорогих туфлях.
– Бельская, я полагаю, – произнесла она сухим, безжизненным голосом. – Расписание уже на вашем рабочем месте в учительской. Не опаздывайте. В «Олимпии» пунктуальность – не просто добродетель, а правило выживания.
Она протянула мне папку с бумагами, и ее пальцы даже не коснулись моих. Чистый, безличный протокол.
Но тут же, словно тень, возникла другая фигура. Маргарита Анатольевна Кораблева, завуч по воспитательной работе. Она парила, а не шла, в струящемся платке, и ее улыбка была ослепительной и абсолютно фальшивой.
– Алиса Витальевна, дорогая! Наконец-то! – ее голос звенел, как хрустальный колокольчик. – Так рада видеть нашу новую звездочку! Не слушайте вы нашу Тамару Олеговну с ее правилами, – она многозначительно подмигнула, но в ее глазах не было и искорки тепла. – Искусство – это ведь полет! А вы наш главный пилот в мире современности. Мы с вами еще поболтаем по душам.
От ее слов стало еще тошнее. Я чувствовала себя мухой, попавшей в паутину, где одна паучиха – сухая и прямолинейная, а вторая – сладкая и смертельно опасная.
Меня провели в главный холл, где под высоким сводчатым потолком уже толпились остальные преподаватели, ожидая выхода директора. Воздух здесь был густым от скрытого напряжения и вежливого снобизма.
Мое появление вызвало волну сдержанного интереса. Я чувствовала себя новым экспонатом в музее, которого все рассматривают, но боятся потрогать.
Дмитрий Сергеевич Волков, живой классик с лицом, высеченным из гранита, бросил на меня короткий, уничтожающий взгляд и громко, обращаясь к своему соседу, изрек:
– Ну вот, дождались. Теперь и абстрактные каракули на наших стенах висеть будут. Деградация, я вам говорю.
Его сосед, молчаливый Марк Александрович Игнатов, лишь тяжело вздохнул, сжимая в своих грубых, покрытых глиной пальцах небольшую скульптурку. Его взгляд был отрешенным, будто он видел сквозь стены и меня в придачу.
Молодая и энергичная Анна Петровна Сомова кивнула мне с легким, профессиональным любопытством.
– Видела вашу конкурсную работу. Интересное сочетание красок, – сказала она, и в ее словах не было ни лести, ни осуждения, лишь холодный анализ коллеги.
Игорь Вадимович Коваль, щегольски одетый, изучал меня через стекла своих идеальных очков с циничной усмешкой.
– Ну что, новобранец, готовьтесь к бою. Наша благодатная почва для перформансов и инсталляций. Главное – не разбейте свои розовые очки о нашу суровую реальность.
Эксцентричная Виктория Львовна Преображенская, вся в боа и старинных кольцах, вдруг приблизилась ко мне так близко, что я почувствовала запах ладана и нафталина.
– Милая девочка, – прошептала она хрипло, – я вижу, вы из тех, кто любит играть с огнем. Будьте осторожны. Стены здесь не только говорят, они еще и помнят. Очень многое.
Ее слова повисли в воздухе, словно зловещее предсказание.
Преподаватели наблюдали за этой сценой с разных позиций. Светлана Юрьевна Воронцова смотрела на меня с тихой, безрадостной жалостью. Глеб Павлович Никольский брезгливо морщился. А Людмила Аркадьевна Дюваль, поправляя жемчужное ожерелье, оценивала мою скромную блузку так, будто это была ветошь.
И в этот момент все замерли. На лестнице, ведущей на второй этаж, появился он. Арсений Викторович Захаржевский. Директор. Аристократ до кончиков пальцев. Его взгляд, холодный и пронзительный, как ледник, нашел меня в толпе.
– Алиса Витальевна, – его голос был тихим, но он разрезал тишину, как скальпель. – Добро пожаловать в «Олимпию». Мы возлагаем на вас большие надежды. Надеюсь, ваш талант окажется… рентабельным.
Он не улыбнулся. Он просто констатировал факт. И в этой фразе заключалась вся суть этого места. Здесь искусство было не порывом души, а активом. А я – рискованной, но потенциально выгодной инвестицией.
Я стояла в центре этого величественного зала, в окружении этих людей, каждый из которых смотрел на меня сквозь призму своих амбиций, страхов и презрения. И чувствовала, как по спине бегут мурашки.
После того как директор скрылся за массивной дверью своего кабинета, невидимый магнит, удерживавший внимание собравшихся на мне, разом ослаб. Интерес испарился, словно его и не было. Преподаватели, не глядя друг на друга, стали расходиться – кто с деловым видом, кто с показной небрежностью. Я осталась стоять одна посреди огромного холла, чувствуя себя заблудившимся ребенком, и в горле снова зашевелился комок неуверенности.
И вдруг – улыбка. Направленная прямо на меня. Широкая, открытая, без единой ноты той фальши или высокомерия, что я только что наблюдала. Ее обладатель, высокий парень в простой спортивной кофте, резко выделявшийся на фоне строгих костюмов, приблизился ко мне легкой, пружинящей походкой.
– Привет. Меня зовут Вадим. Я учитель физкультуры. Арсений Викторович попросил меня всё тут тебе показать.
Или приказал, – мелькнуло у меня в голове.
– Привет, я Алиса. Но ты это и так уже знаешь, – я попыталась ответить с той же легкостью, но голос прозвучал слабее, чем хотелось. – Не хочу тратить твое время. Можешь просто рассказать, где что. А я сама разберусь походу дела.
– Ты что?! – он рассмеялся, и его смех был на удивление громким и искренним, эхом раскатившимся под сводами. – Тут сейчас такая скука смертная. Для меня новый человек в коллективе, как глоток свежего воздуха после этого… – он обвел рукой богатое убранство зала, – этого музея восковых фигур. Буду рад всё тебе тут показать. Сама понимаешь, помощи тут особо ни от кого не дождешься. Я уже проходил через это.
И он, не дожидаясь возражений, двинулся по коридору направо, и мне волей-неволей пришлось последовать за ним. Со стороны Вадим выглядел как обычный парнишка с открытым лицом – полная противоположность утонченным и язвительным коллегам, с которыми меня только что познакомили.
– А как ты сюда попал? – спросила я, и голос мой прозвучал неуверенно. Я не знала, насколько здесь принято задавать такие прямые вопросы.
Но Вадим лишь снова рассмеялся, и от этого смеха что-то внутри меня дрогнуло и расслабилось.
– Что, так заметно, что я не из этого богемного мира? – он сказал и игриво поднял брови. Такой простой жест в этом месте казался почти вызовом.
– Ну, честно говоря, да.
– Я был спортсменом. Успешным спортсменом, – сказал он, и в его глазах на мгновение мелькнула тень. – Плавание. Собирал медали, как другие – марки. Но в один момент всё закончилось. Травма плеча. После операции я уже не мог вернуться в профессиональный спорт на прежнем уровне. Мне оставалось только стать тренером. И тут объявился Арсений Викторович и предложил мне место физкультурника в элитном пансионе. Деньги хорошие, условия… как видишь. И вот я тут уже второй год.
– Мне очень жаль, – искренне вырвалось у меня.
– Да ладно, что было, то было. Не оглядывайся назад, а то шею себе свернешь, – отмахнулся он, и тень исчезла, сменившись прежней легкостью.
Мы шли дальше по бесконечному коридору, и я украдкой, боковым зрением, разглядывала его. Он был блондином, с выгоревшими на солнце прядями волос, которые никак не вязались с местным, вылизанным до блеска стилем. Его светлые, почти прозрачные глаза смотрели на мир прямо и просто. А под просторной кофтой угадывалось мускулистое, тренированное тело, выдавшее в нем спортсмена – мощные плечи, собранная, уверенная пластика движенийВдруг он резко остановился у двери из темного полированного дерева с латунной табличкой «Учительская».
– Вот это учительская. Давай зайдем, ты заберешь списки классов, у которых будешь вести.
– А их можно забирать на руки? – удивилась я, помня суровый взгляд Тамары Олеговны.
– На первый раз Арсений Викторович разрешил. Дальше я покажу тебе класс, в котором ты будешь обитать ближайший год, а также столовую, библиотеку и спортзал. Еще у нас есть оранжерея, но по-моему, кроме садовника, ее больше никто не посещает, – и он снова улыбнулся своей солнечной улыбкой. – Последняя наша остановка будет возле твоей комнаты, но она в другом корпусе. Все учителя живут отдельно от учебного процесса. А вот комнаты учеников находятся в этом же корпусе, но в другом крыле. Всё по принципу «с глаз долой, но на случай ЧП – поближе».
Он толкнул тяжелую дверь, и мы вошли.
Учительская оказалась таким же воплощением роскоши, как и всё здесь. Просторное помещение было залито мягким светом, падающим из высоких окон. Вдоль стен стояли глубокие кожаные кресла и диваны цвета венге, выглядевшие настолько дорого и неудобно, что, казалось, на них не сидели, а позировали для портрета. В углу мерцала хромированной поверхностью кофемашина, рядом с которой на серебряном подносе стояли хрустальные стаканы. Но больше всего меня поразили развлечения, предусмотренные для досуга педагогов: идеальный, с безупречным сукном бильярдный стол и мишень для дартса в дорогой раме. Это было похоже на лаунж-зону дорогого отеля, где всё продумано для комфорта, но где нет ни одной личной вещи, ни одной фотографии, ни одной пылинки. Здесь не жили – здесь проводили перерывы между боями. Воздух был густым и неподвижным, пахло кожей, дорогим кофе и тишиной.
Вадим, наблюдая за моей реакцией, тихо хмыкнул:– Ну что, впечатляет? Золотая клетка, только для учителей. Чувствуешь себя как дома?
В его голосе не было злости, лишь легкая, привычная ирония. И в тот момент я поняла, что он, возможно, единственный человек в этих стенах, кто понимал меня без слов.
После оранжереи, напоенной ароматами земли и экзотических цветов, мы двинулись по засыпанной гравием аллее к другому корпусу. Воздух снова стал стерильным и прохладным. Внутри здание было выдержано в том же подавляющем стиле – темное дерево, полированный камень, бездушная роскошь.
– На первом этаже у нас в основном комнаты отдыха, конференц-залы, даже есть кинотеатр, – Вадим указал на массивную дверь с бронзовой табличкой. – Периодически директор объявляет киновечера, и все желающие могут прийти посмотреть фильм. Твоя комната на втором этаже. Повезло, что не надо долго подниматься. Моя на четвертом, но учителю физкультуры грех жаловаться.
Я была немного в шоке от всей этой роскоши. Кинотеатр… Это место было похоже на автономную вселенную, город в городе, где у тебя есть всё, чтобы никогда не захотеть его покидать. И от этой мысли стало одновременно комфортно и тревожно. Уютная ловушка.
В этой странной эйфории, смешанной с легкой паникой, мы оказались возле одной из одинаковых дверей с номером «217».
– Ну вот мы и пришли, – Вадим обернулся ко мне, и его светлые глаза по-доброму сощурились. – Желаю тебе хорошенько выспаться перед первым учебным днем. Если что, я живу последняя дверь налево на четвертом этаже. Не стесняйся.
Он протянул мне ключ – холодный, тяжелый, настоящий.
– Спасибо, Вадим, – я взяла его, и наши пальцы на миг соприкоснулись. В его прикосновении была простая, человеческая теплота, которой здесь так отчаянно не хватало. – Серьезно. Ты не представляешь, как… как важно было встретить сегодня хоть одного живого человека. Я, наверное, заблудилась бы в этих коридорах, как в лабиринте Минотавра.
Он коротко кивнул, словно поняв всё без лишних слов.– Держись, новичок. Первый месяц – самый сложный. Потом привыкаешь. К стенам. И к людям за ними.
На этом он развернулся и зашагал широким, спортивным шагом по пустынному коридору, его силуэт быстро растворился в полумраке. Знакомство с ним оставило приятное, теплое послевкусие, маленький огонек в ледяном царстве «Олимпии». «Не все так безнадежно», – подумала я с робкой надеждой.
Дверь открылась с тихим щелчком. Комната оказалась… обычной. После всей показной роскоши общественных помещений это было почти аскетичное убежище. Небольшое помещение с паркетным полом, односпальная кровать с простым бежевым покрывалом, письменный стол у окна, платяной шкаф и дверь, ведущая, как я предположила, в санузел. Никаких кожаных кресел, бильярда или хрустальных люстр. Чисто, функционально и безлико. Как номер в хорошем, но бездушном отеле. Моя сумка стояла у стены, одинокая и немного потерянная.
С облегчением я плюхнулась на кровать, и пружины тихо вздохнули. В руке по-прежнему были зажаты те самые списки классов. Вдруг во мне взыграло любопытство, смешанное с профессиональным интересом. Мне стало любопытно взглянуть на имена будущих учеников – этих юных представителей нынешней богемы и элиты, чьи портреты, возможно, когда-нибудь будут висеть в этих самых коридорах.
Так, классы с седьмого по девятый… и одиннадцатый. Что?! Я буду учить почти своих ровесников? Чувство легкой паники вернулось. Взрослые, состоявшиеся подростки из самых влиятельных семей – смогу ли я найти с ними общий язык? Смогу ли заслужить хотя бы тень уважения?
Я взяла лист с одиннадцатиклассниками и поднесла его ближе к свету лампы на прикроватной тумбочке. Имена и фамилии сливались в один однородный поток… пока мой взгляд не зацепился за одну строчку. Сердце на секунду замерло, потом забилось с бешеной скоростью, как будто пытаясь вырваться из груди.
Соколовский Казимир.
Не может быть. Совпадение? Но такое редкое имя… в сочетании с этой, въевшейся в память фамилией… Нет. Таких совпадений не бывает. Это он. Тот самый Казимир. Младший брат Михаила.
Призрак из прошлого, возникший из ниоткуда, здесь, в моем настоящем. В моем будущем. В моем классе.
Мое недолгое приподнятое настроение, тепло от общения с Вадимом – все это разом испарилось, словно его и не было. Внутри воцарилась ледяная пустота, а потом ее заполнили обрывки воспоминаний, острые, как осколки стекла.
Я видела его перед собой – не того юношу, чье имя было в списке, а угрюмого, вечно насупленного мальчишку лет четырнадцати. Он всегда где-то крутился рядом, когда я приходила к Мише. Молчаливый, колючий, с взглядом исподлобья, в котором читались одновременно и обида, и вызов, и какая-то непроглядная тьма, которую мне в семнадцать лет так и не удалось разгадать. Он смотрел на меня так, будто я была не человеком, а проблемой, помехой, и в его молчаливой неприязни была странная, почти животная напряженность. И теперь этот мальчик… нет, уже мужчина… будет сидеть передо мной в классе. Смотреть на меня этим своим пронзительным, темным взглядом.
Что он теперь собой представляет? Изменился ли он? Или та тьма внутри него только окрепла?
От этих мыслей в висках застучало, по телу разлилась тяжелая, свинцовая усталость. Я даже не заметила, как голова утонула в подушке, а веки сомкнулись. Списки классов выскользнули из ослабевших пальцев и бесшумно упали на пол. Сознание поплыло, унося меня в беспокойный сон, где причудливо переплетались готические шпили «Олимпии», солнечная улыбка Вадима и полный ненависти взгляд Казимира.
Глава 4. Алиса. Воспоминания
4 года назад
Как я устала от этих вечных ссор. Этот дом похож на бомбу с часовым механизмом, который каждый месяц, в день зарплаты, снова заводится. Отец снова уходит в запой. Когда он трезвый, он – жалкое подобие человека, несбывшаяся карьера, разбитые мечты. В прошлом – талантливый инженер, чьи чертежи, должно быть, были гениальны. Но он не боролся, не искал, а лишь купался в собственном бессилии, пока оно не разъело его изнутри, не превратило в того, кого я почти не узнаю. В пьяном угаре он становится чужим – агрессивным, непредсказуемым, страшным. Я никогда не приводила сюда друзей, всегда жила в страхе, что они застанут его в одном из таких состояний. А потом, когда он приходит в себя, начинается мамин театр одного актера. Сначала – унизительные уговоры, мольбы «одуматься», потом – истерики, крики, угрозы уйти. Но они оба прекрасно знают: уходить ей некуда. Этот порочный круг затянулся так туго, что, кажется, уже врезался в кожу, оставив шрамы на всех нас.
Мама… она сломана не меньше. Она работает на двух работах – медсестрой и уборщицей, возвращается домой, когда я уже сплю, и уходит, когда я еще не проснулась. Ее любовь ко мне – это усталые, потухшие глаза и бесконечные нравоучения: «Учись, Алиса, не повтори мою судьбу». Иногда мне кажется, что я сирота при живых родителях. И моим спасением стало рисование. Только когда я беру в руки кисть, я могу сбежать. Погружаюсь в свой собственный, нарисованный мир, где нет запаха перегара и слез, где цвета яркие, а линии четкие и правильные. Там все иначе. Там – лучше.
Вот и сегодня все по сценарию. Отец снова нетрезв. В такие дни я стараюсь быть невидимкой, исчезать из поле зрения подольше. Эта атмосфера, пропитанная горечью и безысходностью, просто душит меня. Я считаю дни до окончания школы, до университета, до общежития. Любая комната на двоих будет раем по сравнению с этой клеткой.
Хотя… когда-то все было иначе. Были и светлые моменты, редкие, как солнечные дни в ноябре, когда отец был трезв. Но с каждым годом чашу весов все сильнее перевешивает все плохое. Я помню, как он водил меня в парк аттракционов. Кажется, это мое самое яркое, самое теплое воспоминание о нем. В те дни я была по-настоящему счастливым ребенком.
И почему-то сегодня мне нестерпимо захотелось туда. Наверное, это ностальгия по тому, что навсегда ушло. Решаю пойти в парк и порисовать. Может, краски помогут вытеснить из души эту тяжесть. Беру свой походный складной мольберт и ящик с красками, крадусь по коридору. Обуваюсь и уже берусь за ручку, когда из кухни доносится его хриплый, пьяный голос:
– Алиска, опять без дела мотаешься? Чтоб не попадалась мне на глаза.
Я не отвечаю. Просто выхожу за дверь и закрываю ее с другой стороны, стараясь делать все бесшумно, как мышь. Сбегаю по лестнице, и с каждым шагом груз с плеч понемногу спадает.
На улице – июльский зной. Воздух дрожит над асфальтом. До парка пешком полчаса, и я ускоряю шаг, почти бегу, подставляя лицо горячему ветру. И вот, наконец, за поворотом открывается вид на знакомые с детства очертания.
Парк встретил меня оглушительной какофонией звуков и красок. Крики радости, несущиеся с колеса обозрения, доносящиеся откуда-то сверху. Навязчиво-веселая музыка каруселей, смешивающаяся с запахом сладкой ваты и сахарной пудры с пончиков. Яркие, почти кричащие краски аттракционов – кислотно-желтые, ядовито-розовые, небесно-голубые – резали глаз после полумрака нашей квартиры. Все здесь было пронзительно-искусственным, бутафорским, но в этой бутафории была своя, простая и понятная правда. Здесь не было места тихим семейным драмам – только громкому, беззаботному веселью.
Я нашла тихий уголок в тени раскидистых лип, в стороне от главной аллеи, и установила мольберт. Открыла ящик с красками – и мир сузился до размера холста. Сначала я просто наблюдала: за парой голубей, деловито клевавших крошки, за облаком, плывущим в вышине. Потом стала наносить первые мазки. Я писала не сам парк, а его душу – ту самую, что когда-то подарила мне несколько мгновений чистого детского счастья. И на какое-то время оглушительные крики, музыка и голоса отступили, превратились в далекий, не имеющий ко мне отношения гул. Я была в своей крепости. Я была в безопасности.
Но вдруг в мой хрупкий, нарисованный мир грубо просочились посторонние звуки. Сначала – громкий, развязный смех, потом – обрывки фраз. Компания из трех парней остановилась рядом. По ним сразу было видно – мажоры. Дорогая, небрежно натянутая одежда, уверенные позы, манера громко говорить, не обращая внимания на окружающих, – всё кричало о том, что им дозволено всё.
Двое из них бурно обсуждали мою работу, не стесняясь в выражениях.– Смотри, опять какая-то богема нищенствует на публике, – фыркнул один.– Нормально так малюет, для уличной художки, – добавил второй, и в его голосе слышалась снисходительность.
Я сжала кисть так, что пальцы побелели, но решила промолчать. Не подкармливать их интерес. И сработало – вскоре их голоса стали удаляться, смешавшись с шумом парка. Тишина снова начала заполнять пространство, и я уже было выдохнула, как вдруг осознала – третий остался.
Я не видела его, но чувствовала его присутствие за своей спиной – тихое, но плотное. И тут он проронил, почти про себя, но так, что я расслышала:
– Это… невероятно…
В его голосе не было и тени издевки. Только искреннее, неподдельное изумление. Это заставило меня посмотреть на него.
Я открыла рот, чтобы что-то сказать, но слова застряли в горле. Передо мной стоял не просто красивый парень. Он был… идеален. Словно его не родила женщина, а высекли из мрамора для украшения собора. Он был высоким, с крепким, спортивным телосложением, которое угадывалось даже под свободной футболкой из мягкого хлопка. Его волосы были цветом спелой пшеницы, они лежали чуть небрежными прядями, отчего он казался еще более естественным и живым. А глаза… Глубокие, ясные, цвета летнего неба, они смотрели на меня с таким неподдельным интересом, что у меня перехватило дыхание.
– Привет, меня зовут Миша, – он улыбнулся, и его улыбка была ослепительной, как вспышка солнца. Она озарила все его лицо, и в уголках глаз собрались лучики морщинок.
Он не был похож на тех двоих. От него не исходило того флюида высокомерия, который, казалось, был вплетен в саму ткань их одежды. Но защитная броня уже была поднята.
– Что, тоже хочешь оценить мой талант? – съязвила я, стараясь, чтобы голос не дрогнул.
Миша рассмеялся, и смех его был таким же легким и заразительным, как и улыбка.
– Оценить? Я, пожалуй, воздержусь. Не мне, любителю, судить работу профессионала. Я могу только восхищаться. Ты ловишь свет… и тишину. На этом шумном фоне – это дорогого стоит.
Я не смогла сдержать улыбки. Мне дико польстило, что кто-то вроде него – явно из другого мира, мира глянца и денег – по достоинству оценил не меня саму, а мое умение.
– А ты так и не сказала мне свое имя. Надо же мне будет похвастаться, что я лично знаком с такой известной художницей.
– Алиса.
– Алиса из страны чудес? – он подмигнул.
«К сожалению, нет. "С окраины Москвы"», – горько подумала я про себя, но вслух лишь покачала головой.
– Ну что, Алиса, давай по мороженому? Пока ты не растворилась, как твои краски на солнце.
––
Так мы прогуляли до самого вечера, а потом и еще несколько дней подряд. Он нравился мне не как человек, а скорее как олицетворение целого мира – того, что был лишен ссор, запаха перегара и вечного ощущения безысходности. Миша излучал спокойствие и уверенность, которые, казалось, были даны ему от рождения, как цвет глаз. Он был невероятно красив, но я ловила себя на мысли, что рядом с ним у меня не дрожали колени и не кружилась голова. Мне было… комфортно. Сначала он казался мне скорее хорошим товарищем, другом. Но он каждый день приносил мне маленькие, но изящные подарки – не броские и дорогие, а подобранные с удивительным вкусом: книгу о художниках, набор диковинных засушенных цветов для гербария, старинную кисть в бархатном чехле. Он кормил меня изысканной едой в кафе, о которых я только слышала, катался со мной на аттракционах, смеясь так искренне, словно был простым парнем, а не наследником состояния. И постепенно, под аккомпанемент этого сладкого марша подарков и внимания, мне начало казаться, что я влюбляюсь. Я убедила себя, что это оно – настоящее чувство.
В один из таких дней, когда солнце клонилось к закату, окрашивая небо в персиковые тона, Миша взял меня за руку и сказал:
– Алиса, помнишь, ты рассказывала мне про свою любимую картину? «Рождение Венеры» Боттичелли. У нас дома есть ее копия. Очень качественная, мой отец других не покупает. Хочешь посмотреть?
Сердце екнуло. Его дом. То самое сердце того мира, который так манил меня. Я согласилась, пытаясь скрыть дрожь в голосе.
Машина, тихая и плавная, как корабль, вынесла нас за город. Мы подъехали к кованым воротам, которые бесшумно распахнулись, пропуская нас на территорию, больше похожую на парк. И тогда я его увидела. Не дом – особняк. Белоснежный, в классическом стиле, с колоннами и высокими окнами, он парил над идеально стрижеными газонами. Он казался не жилищем, а личной Резиденцией.
Внутри меня встретила торжественная, звенящая тишина, нарушаемая лишь тихими шагами прислуги, появлявшейся и исчезавшей, как тени. Полы из полированного мрамора отражали свет огромной хрустальной люстры. Стены были увешаны картинами в тяжелых рамах, как в галереи. Воздух был густым и прохладным, пахнущим дорогой мебелью, воском и свежими цветами, стоявшими в напольных вазах из голубого фарфора.
Миша вел меня по бесконечным залам, и с каждым шагом мое сердце сжималось то от восторга, то от щемящей боли. Я видела ту самую копию «Рождения Венеры» – она висела в библиотеке, и это действительно была великолепная работа, но теперь она казалась мне лишь одной из многих деталей в этом грандиозном интерьере.
И в тот момент, глядя на это немое великолепие, на эту безупречную, отлаженную жизнь, я поняла, что хочу этого. Не просто Мишу. Я хотела этот мир. Этот покой. Эта уверенность, которую дают такие стены и такой банковский счет. Здесь, в этом дворце, не было места ничему уродливому и бедному. Здесь была только красота, порядок и тишина. И я, с жадностью глядя на все это, захотела стать частью этого.
Меня переполняло странное, двойственное чувство. С одной стороны – головокружительная близость с Мишей, тепло его тела, доносящееся сквозь тонкую ткань его рубашки, его запах – дорогой парфюм с нотками сандала и чего-то свежего, морского. Мы сидели на невероятно мягком велюровом диване цвета сливок, и он был так огромен, что казалось, мы можем в нем потеряться. Весь этот мир – роскошный, благоухающий, идеальный – медленно, но верно опутывал меня, как шелковые нити. Миша наклонился ко мне, его губы были уже так близко, что я чувствовала его прерывистое, теплое дыхание на своей коже. Я видела в его глазах нерешительность, томную и сладкую, и сама замерла в ожидании, позволив моменту тянуться, как карамельная нить.
Но вдруг – ледяной укол в самое сердце. По спине побежали мурашки, волосы на затылке зашевелились. Я ощутила на себе чей-то пристальный, неотрывный взгляд. Это было физически – будто тонкое, холодное лезвие провело по моей коже.
Инстинктивно я оторвалась от Миши и стала оглядываться, сердце колотясь где-то в горле. И тогда я увидела его. В арочном проеме, ведущем в полумрак следующей комнаты, стоял мальчишка. Лет четырнадцати, не больше.
Но это был не просто подросток. Это было видение. По мне будто пробежал разряд тока, сковывающий и тревожный. Его взгляд, черный и бездонный, как провал в ночное небо, был настолько пронзительным, что у меня перехватило дыхание. Мне стало не по себе, холодный пот выступил на ладонях, но я не могла отвести глаз. Все во мне сопротивлялось этому контакту, но что-то более глубокое, почти первобытное, было приковано к нему.
Он был похож на черную розу, выросшую в этом безупречном саду – прекрасную, но мрачную, отравленную собственной, неестественной красотой. Его волосы были цвета воронова крыла, иссиня-черные, они падали на лоб тяжелыми, непослушными прядями. Глубокие, почти черные глаза, казалось, не отражали свет, а поглощали его. Левую бровь рассекал тонкий, белый шрам, который резкой чертой уходил к виску, придавая его юному лицу жестокий, почти бандитский шарм. И была в его чертах легкая, почти неуловимая асимметрия – один уголок губ будто был приподнят чуть выше, создавая впечатление зловещей, насмешливой улыбки, которой на самом деле не было. Он не улыбался. Он изучал. И в этом изучающем, холодном взгляде читалось что-то древнее, мудрое и бесконечно опасное.
Вдруг Миша заметил мое оцепенение. Он обернулся, следуя за моим взглядом, и его лицо на мгновение омрачилось легкой досадой.
– А, это мой брат, Казимир, – произнес он, и его голос, обычно такой бархатный, прозвучал суховато. Он махнул рукой, словно отгоняя назойливую муху. – Не обращай на него внимания. Он… скажем так, нелюдим. Вечно где-то шныряет, как тень.
Но я уже не могла «не обращать внимания». Объятие распалось, момент был безвозвратно разрушен. Словно кто-то выплеснул ледяную воду на только что разгоревшееся пламя. Я сидела, все еще чувствуя на себе тяжелый, неотрывный взгляд Казимира, этого странного, прекрасного и пугающего мальчика, который одним лишь своим присутствием сумел поставить жирную черную точку в этой идиллии.
И каждый мой визит в этот особняк превращался в странную игру в кошки-мышки. Где бы мы с Мишей ни уединились – в бильярдной, зимнем саду, у бассейна – Казимир возникал будто из-под земли. Стоило нам сесть ближе, перейти на шепот, наклониться друг к другу, как дверь с грохотом распахивалась, или из колонок на полную мощность обрушивался тяжелый рок, или раздавался его нарочито громкий, бесцеремонный голос: «Миш, а где мой…» – и дальше следовала какая-нибудь нелепая отговорка. Он врезался в нашу атмосферу, как бульдозер в хрустальную витрину, оставляя после себя лишь осколки интимности и раздражение.
Мое терпение таяло с каждым разом. Романтическая атмосфера рушились с одним его появлением. В один из таких дней, когда Казимир с притворной невинностью снова влез в разговор, я не выдержала и, едва он вышел, прошипела Мише: «Как мне надоел этот мальчишка! У этого джокера что, совсем нет друзей? Что он вечно к нам лезет, как банный лист?»
Как оказалось, дверь закрылась не до конца. И Казимир все услышал. С этого дня его пакости перешли на новый уровень. Из безобидного вредительства они превратились в целенаправленные, меткие удары.
Теперь при каждой встрече он одаривал меня язвительными комментариями, произнося их с ледяной вежливостью, от которой кровь стыла в жилах.«Ой, Алиса, какое платье! Очень… яркое. Прямо как на карнавале», – говорил он, прекрасно зная, что я наряжалась для их мира из последних сил.«А сумка у тебя… интересная. Это не из прошлогодней коллекции? Или… вообще не из коллекции?» – его черные глаза сверкали насмешкой, пока я, краснея, пыталась спрятать свою скромную кожаную сумку, которая вдруг стала казаться мне убогой.
Потом он перешел к действиям. Однажды он «случайно» опрокинул стакан с вишневым соком на мой этюдник, над которым я трудилась несколько дней. Другой раз куда-то «задевалась» моя сумка, и я полчаса в панике ее искала, пока она не нашлась в собачьей будке их породистого пса. Я не знала, как далеко он мог зайти, ненавидя меня за те слова и за само мое присутствие.
Но нашим отношениям с Мишей пришел конец, и сделали это не пакости Казимира.
Все мои воздушные замки рухнули в один день. Родители Миши, до поры до времени снисходительно взиравшие на нашу «милую дружбу», наконец-то заметили, что их сын стал слишком серьезен. Они провели свое тихое, молниеносное расследование. И узнали всё. Про отца-алкоголика, про мать на двух работах, про нашу тесную квартиру на окраине. Для них я была не перспективной художницей, а социальным браком, угрозой репутации и «неподходящей партией».
Мне даже не устроили унизительного разговора. Всё было решено за закрытыми дверями. Мише «объяснили, что к чему». Мне он сообщил новость в том самом холле, где я впервые ощутила головокружительный запах их мира. Он был бледен, избегал моего взгляда.
«Алиса… Меня отправляют на стажировку. В Швейцарию. Надолго. И… родители считают, что нам стоит сделать паузу».
«Паузу?» – переспросила я, и голос мой прозвучал хрипло. Я смотрела на него и видела не того уверенного юношу, а запуганного мальчика, который не смел перечить воле семьи.
«Они уже… познакомили меня с дочерью их партнера. Это… всё очень серьезно».
В этот момент я увидела его. Казимир. Он стоял на лестнице, опершись на перила, и наблюдал. Его черные, бездонные глаза были прикованы ко мне. Но в них не было торжества. Был холодный, почти научный интерес. Он смотрел, как живое существо, попавшее в капкан, бьется в предсмертной агонии. И в тот миг я поняла, что он, этот мрачный, нелюдимый мальчишка, всегда знал, чем это кончится. Он был единственным, кто не обманывался насчет правил игры в их мире.
Я не помню, как вышла из того дома. Помню только его взгляд, прожигающий меня насквозь, ставший пронзительным эпилогом к моей наивной сказке. Сказке, в которой я так и осталась Золушкой, не дождавшейся не то что принца, а даже и туфельки.
Глава 5. Казимир
Выхожу из душа, одеваюсь, делаю все на автомате. Кожа до сих пор горит от горячей воды, но внутри – вечная мерзлота. Все мои мысли заняты одним: сегодня я ее увижу. Изменилась ли? Выросла ли из того испуганного воробышка, который смотрел на наш мир широко раскрытыми глазами? Или так и осталась той же? Интересно, со сколькими парнями она встречалась после Миши? Вряд ли нашелся кто-то, кто мог бы хотя бы на йоту сравниться с моим братом. Идеальным, безупречным Михаилом.
От этой мысли в животе ворочается что-то тяжелое и кислое. Конечно, наш Михаил. Красивый, умный, удобный. Золотой мальчик, с которого жизнь, как с гуся вода. Второго такого нет и не будет. Я чувствую, как знакомый червяк ярости начинает точить изнутри, подгрызая основы моего и так шаткого самообладания. Нет, я не дам ему взять верх. Резко вставляю наушники, оглушаю себя сокрушительным битом, хватаю сумку и выхожу в холл.
И, как по заказу, натыкаюсь на них. На отца, с утра уже уткнувшегося в планшет, и мать, с идеальной чашкой эспрессо в руке.
– Казимир, – отец не отрывает взгляда от экрана. – Постарайся в этом семестре не устраивать скандалов. Михаил в твои годы уже возглавлял студенческий совет, а не бегал по ночным клубам.
Мать вздыхает, ставя чашку с тихим стуком.
– И, ради бога, следи за речью. В прошлый раз Арсений Викторович жаловался на твой… не аристократичный лексикон. Михаил никогда не позволял себе такого.
– Михаил, Михаил, – срывается с моих губ прежде, чем я успеваю заткнуть себя. – У вас, кажется, всего один сын. А я так, погрешность в расчетах.
Не дожидаясь ответа, я разворачиваюсь и выхожу за дверь, за спиной остается гробовое молчание. Идеально. Просто прекрасное начало дня.