Мама мыла раму. Психолингвистический анализ речи бесплатное чтение
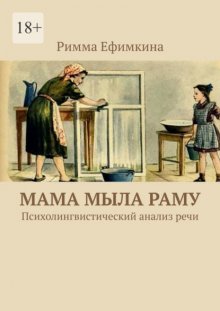
© Римма Ефимкина, 2025
ISBN 978-5-0068-3335-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Сборник состоит из двух разделов. В первом психолого-лингвистические заметки, в которых я получаю удовольствие от метамоделирования – психологического разбора структуры речи. Тексты для разбора – это письма потенциальных клиентов, рекламные посты и рассылки, комментарии читателей в соцсетях, объявления и даже голосовые сообщения. При анализе чужой речи я исхожу из того, что в ней можно выделить содержание и процесс. Содержание явное, все мы его видим и слышим, и человеку кажется, что он имел в виду только его («я сказал то, что сказал»). Процесс скрыт, под словом «процесс» понимают мета-коммуникацию – то есть то, что своим высказыванием делает один человек с другим.
Во втором разделе собраны мои интервью разных лет на темы психологии отношений. Они служат своеобразной летописью начала XXI столетия в России, так как отражают развитие практической психологии в нашей стране и отвечают на вопросы, актуальные людям той поры.
Тексты будут интересны и полезны студентам и начинающим психологам – той аудитории, которой, будучи преподавателем, я и адресую подавляющее большинство моих книг.
15.10.2025
Раздел 1. Психолого-лингвистические заметки
Мама мыла раму
Наша речь, благодаря перестановке одних и тех же слов, меняет смысл. Психологи используют знание основных речевых структур для нейролингвистического анализа речи клиента. Я опишу самые основные из них на примере фразы из букваря «Мама мыла раму».
1. Мама мыла раму
Это базовая структура, или исходная конструкция, в ней субъект действует с объектом.
S – > O
В идеале вся речь человека структурирована таким образом. Но как только клиент отклоняемся от «базы», психолог слышит это и делает выводы. Какие? Об этом ниже.
2. Рама мылась мамой
Здесь нарушены порядки: объект действует в субъектом:
О – > S
Вы скажете: так не говорят. Да, про раму не говорят, а вот про другие объекты очень даже говорят – и регулярно. Вот типичные примеры:
Меня злит смех жены.
Бокал вина меня свалил с ног.
Вопрос меня заинтересовал.
Надо мной нависла угроза.
Будильник меня разбудил.
Эту структуру речи называют диссоциацией – стратегия отстранения, когда человек «отключается» от непосредственного опыта, представляя себя в качестве наблюдателя, а не активного участника события: «не я поступаю», а «со мной поступают». И кто же? Не кто, а что: будильник!
При коррекции предлагают восстановить базовую структуру фразы (S – > O), таким образом человек возвращает себе ответственность и снова становится у руля своей жизни.
3. Мама моет
S – >…
Подобная конструкция речи называется исключение, или потеря объекта: импульс пошел, но до объекта не дошел. (Кстати, в языке есть идиома с двойным искажением базовой структуры – и с исключением, и с диссоциацией одновременно: руки не доходят). Примеры:
Я испугался (чего?).
Я не понимаю (чего?).
Я хочу (чего?).
Я одержим (чем?).
Подобные фразы мы используем в нашей речи, когда не осознаем, чего хотим, например, при профориентации. Или испытываем тревогу, которая от страха отличается тем, что человек не осознает объект. Как видим, при коррекции базовая структура восстанавливается вопросом «что именно?»
4. Моется
В этой структуре речи нет субъекта, действие совершается как бы само собой. Подобное искажение называется «Потеря исполнителя», а я называю «великое САМО». Примеры:
Мне взгрустнулось.
Успеется.
Мне кажется.
Делается.
При потере исполнителя исполнять некому, поэтому нужно восстановить субъект в речи. Не успеется, а я успею, не взгустнулось, а я взгрустнул (и здесь же, чтоб два раза не вставать: о чем?)
5. Мама. Мытье. Рама.
Номинализация, или опредмеченное действие (мыть) превращено в объект «мытьё» (отглагольное существительное). Это представление непрерывных процессов в виде законченных, из-за чего действие подается так, как будто бы оно статично. Ну и что из этого? А то, что человек не разрешает ситуацию, а стагнирует. Как говорится, под лежачий камень вода не течет. Примеры номинализаций:
Решение (вместо решать).
Завершение (вместо завершать).
Реализация (вместо реализовывать).
Сомнение (вместо сомневаться).
Выбор (вместо выбирать).
Прекрасным примером подобной стратегии служит стихотворение Александра Блока:
- Ночь, улица, фонарь, аптека,
- Бессмысленный и тусклый свет.
- Живи еще хоть четверть века —
- Все будет так. Исхода нет.
- Умрешь – начнешь опять сначала,
- И повторится все, как встарь:
- Ночь, ледяная рябь канала,
- Аптека, улица, фонарь.
Еще бы, ведь когда весь мир опредмечен, он тем самым превращен в статику, «исхода нет». Чтобы жизнь опять задвигалась, нужны глаголы.
6. Мама должна мыть раму
Этот тип искажения называется долженствование. Что не так? А то, что человек априори свободен, а потому ничего никому не должен, и мыть или не мыть раму – его свободный выбор. Если человек употребляет слово «должен» (или «обязан», «мне следует, «мне надо», «мне нельзя»), это означает, что он находится под влиянием блокирующих установок, а не принимает решения сам. Примеры:
Мне надо доделать конспект.
Я должна хорошо выглядеть.
Мне не следовало этого делать.
Коррекцию осуществляют вопросом, задающим альтернативу долженствованию: «А чего ты хочешь?»
7. Каждая мама всегда и везде моет все рамы
Слова «все», «никто», «каждый», «всегда», «никогда» и т. п. – это генерализация, или сверхобобщение. Так говорят люди, которые свои установки стремятся распространить на все человечество. Это, во-первых, нарушает свободу выбора других людей, а во-вторых, лишает самого говорящего индивидуальности. Примеры:
Я всегда все делаю правильно.
Меня все обижают.
Он никогда не бывает трезвым.
Все они одинаковые.
Для коррекции установок при генерализации психолог использует уточняющие вопросы: кто именно? Все-все?
8. Удивительно, как мама прекрасно помыла раму
В подобных фразах используются оценочные слова, которые могут быть как положительными, так и отрицательными. В контексте (НЛП) оценочные слова используются для манипулирования сознанием другого человека (лесть): его внимание смещается на оценку ситуации говорящим, а сама ситуация становится как бы истинной. Примеры:
Хотел бы я принимать решения так же быстро, как ты.
Замечательно, что вы обратили на это внимание.
Он меня раздражает своим нытьём!
Я чувствую себя нормально.
Оценочные слова чаще всего используют в рекламе. Поскольку они отражают субъективную оценку заинтересованных людей, то эти сведения недостоверны. При коррекции предлагается найти нечто более объективное; например, во время собеседования просят предъявить вместо утверждения «я отличная кандидатура» что-то, что может быть проверено другими людьми (сертификаты, дипломы, отзывы).
9. Мама не помыла раму
Когда в речи появляются частицы или приставки НЕ и НИ, то мы имеем дело с отрицаниями. Примеры:
Я не сержусь на него.
У меня нет никаких чувств.
Я совсем не хочу этого.
Это не я.
Я не нуждаюсь в сочувствии.
За отрицаниями в речи стоит психический защитный механизм отрицания, который человек использует для того, чтобы не допускать в сознание не приемлемые для него качества. В психотерапии же, наоборот, приветствуется интеграция не интегрированных частей личности, потому что исЦЕЛение достигается стремлением к ЦЕЛостности, а не отрицанием частей.
10. Мама мыла раму?
Вопросительные предложения зачастую являются псевдовопросами – фразами, которые, несмотря на вопросительную форму, являются оценочными утверждениями. Примеры:
«Ну, не дурак ли ты?»
«Сколько можно вести себя как ребёнок?»
«Тебе чего, заняться больше нечем?»
А иногда вопросительные предложения заданы из детской позиции, которую клиент не осознает, и, по сути, являются запросом на поддержку терапевта. Примеры:
Сколько мне потребуется сессий для исцеления?
Есть ли у меня хоть какие-то сдвиги?
Сколько у вас еще клиентов кроме меня?
Во всех случаях коррекцией будет предложение клиенту превратить его вопрос в утверждение: «Я считаю, ты дурак»; «Я нахожу, что у меня есть сдвиги» и т. п. Высказывая утверждение, человек берет ответственность за свое суждение, а не прячется за вопросом, предлагая сделать суждение психотерапевту.
11. Мама помыла бы раму
Эта фраза использует сослагательное, или условное, наклонение с помощью частицы бы. Основные значения сослагательного наклонения – это смягчение высказывания, снижение категоричности суждения, но главное – создание альтернативной реальности, уход из действия в гипотетические желания, которые, пока есть частица БЫ, никогда не осуществятся. Примеры:
Хотелось бы обсудить этот вопрос.
Если бы у меня были деньги…
Я бы хотел сказать Ирине, что я ей сочувствую.
Знал бы прикуп – жил бы в Сочи.
12. Мама впустила свет в дом
Это метафора. Метафоры преобразуют абстрактные идеи в конкретные образы, тем самым помогая людям глубже осознать собственные мысли, чувства и поведение. Но иногда метафора в речи призвана не прояснять, а замутнять стоящую за ней реальность. Примеры:
У меня комок в горле.
Он выбивает почву у меня из-под ног.
Сон меня буквально вышиб.
Мечусь между сыном и мужем.
Я как загнанная лошадь.
В таких случаях вернуть человека к базовой структуре (S – > O) помогает вопрос: кто что сделал и с кем/чем? Например, «Я как загнанная лошадь» означает «Я устала от работы, когда провела на ней вместо 8 часов 10, и для меня это означает, что я как загнанная лошадь». Это позволяет психотерапевту понять, что стоит за иносказанием.
Я описала 12 речевых структур – одну базовую и 11 искажений, а также приемы работы с ними в психотерапии. На самом деле их втрое больше, подробнее см. мою книгу «В переводе с марсианского»1. Владение нейролингвистическим анализом речи позволяет определить поведенческие паттерны клиента и скорректировать их с помощью восстановления порядка в структуре речи.
Курочка ряба, хейтеры и инсайт
Сегодня хейтеры обстебали мои новые серьги, которыми я особенно горжусь. И своим дремучим невежеством натолкнули меня на инсайт относительно детской сказки «Курочка Ряба», символический смысл которой я все никак не могла уловить.
Дело было так: снесла курочка яичко, да не простое, а золотое. Вместо восторга от того, что открылись новые возможности: полюбоваться красотой и разбогатеть – дед и баба начинают уничтожать сокровище: дед бил-бил – не разбил, баба била-била – не разбила.
«Ну и слава Богу! – выдыхаем мы. – Ведь золотое яйцо дорогое, красивое, ценное, редкое, разве можно с ним так обращаться?!» Но дед и баба не поднялись выше первого уровня пирамиды Маслоу – удовлетворения физиологических потребностей.
А дальше мышка бежала, хвостиком махнула – яичко упало и разбилось. Символически мышка – звериная часть бабы с дедом (условно людей). Они плачут не потому, что испортилось сокровище, а что оказалось несъедобным.
И заканчивается сказка тем, что курочка (символически тоже животная часть) кудахчет, успокаивая: «Не плачь, дед, не плачь, баба, снесу вам другое яичко: не золотое, а простое!» То есть все мы вместе – животные и условно люди (не пользующиеся сознанием) – снова вернемся туда, где и были до «злополучного» происшествия с золотым несъедобным яйцом – на первом уровне пирамиды.
Мораль такова: выбирай, пользоваться сознанием или оставаться в животном неведении. Что же до хейтеров, то они свой выбор уже сделали. Про таких еще Христос говорил: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас».
Одеяло убежало
Москва. Жара, +33. Психодраматическая конференция проходит в здании школы. Объявление на дверях лифта:
«К сожалению, лифт и кондиционеры не работают. Изменить это не в наших силах. Сами грустим про это».
И я потопала на четвертый этаж на презентацию, чтобы потом спуститься на второй в душную аудиторию для мастер-класса, где три часа перекрикивала гул машин, врывающийся из распахнутого на солнечную сторону окна.
Это объявление – подходящая иллюстрация к тому, как работает сознание людей. Когда я читаю студентам курс по консультированию, то даю примеры подобных речевых конструкций. В норме фраза должна выглядеть так: мама мыла раму. Мама – субъект (подлежащее), мыла – действие (сказуемое), раму – объект (дополнение). Субъект воздействует на объект (S – > O), это условие здорового функционирования человека в мире вещей.
А теперь вернемся к объявлению. Проанализируем с точки зрения базовой модели (S – > O) каждое из трех предложений.
1. К сожалению, лифт и кондиционеры не работают.
В качестве субъектов выступают лифт и кондиционеры – то есть неживые предметы, которые в норме должны быть на месте объектов. Человек остается за кадром в виде вводного слова («к сожалению»). Это означает, что предметы, как говорится, «что хотят, то и воротят». История человечества знает такие примеры. Они зафиксированы в литературных памятниках, например:
- Одеяло убежало,
- Улетела простыня,
- И подушка, как лягушка,
- Ускакала от меня.
2. Изменить это не в наших силах.
Не ищите здесь подлежащего (субъект), его нет. Это так называемое безличное предложение. А как известно, нет субъекта – нет и действия. В НЛП (нейро-лингвистическом программировании) безличные речевые конструкции квалифицируют как «потерю исполнителя». Что это означает? Что на восстановление работы лифта и кондиционеров нет шансов. Не потому, что это трудно или невозможно в принципе, а просто некому – до тех пор, пока исполнитель не будет обнаружен. И опять же: кем?! Нет, точно без шансов!
3. Сами грустим про это.
А здесь хоть и нет подлежащего, но оно подразумевается благодаря форме глагола. Грустим все, всей конференцией: организаторы, ведущие, участники, педагогический состав школы… Все те люди, каждый из которых способен стать субъектом и произвести действие: позвонить в офис по ремонту бытовой техники и лифтов.
Что же делать?! Друзья, восстановить порядок в сознании. А для этого восстановить порядок в речи, ибо сознание функционирует через язык. Выше я написала здоровую формулу: S – > O. Но кто же этот субъект, который починит сломанные объекты или хотя бы вызовет другого субъекта, который это сделает?!
Несколько лет назад я оказалась в идентичной ситуации в Томске. Вместе с коллегами мы приехали из разных городов для участия в конференции и утром, выйдя из частных апартаментов, оказались перед дверью сломанного лифта. Все ухмыльнулись (как же, Рассея-матушка!) и стали спускаться пешком, А Михаил Кряхтунов достал сотовый и набрал номер, указанный на лифте.
– Миша, тебе оно надо? Мы в Томске, это их дела, все равно отработаем, а вечером разъезжаться!
– А какая разница? – ответил Михаил, дозвонился до ремонтников и сделал заказ.
Это пример порядка в сознании. Кто субъект? Ты! Когда? Всегда. Это означает, что в твоей жизни хозяин ты, а не лифт, кондиционер, одеяло, рама и простыня.
Кто возьмет котенка?
Когда захотите попрактиковаться в метамоделировании, ступайте в группу «Барахолка Академгородка» в Соцсетях. Именно там я беру нетленки для книги по нейро-лингвистическому программированию. Материал самый подходящий: люди разговаривают так, как обычно в жизни, поэтому все паттерны видны как на ладони.
Сегодня начну с загадки. Объявление: «Пристраиваю котят, найдены на даче». И умилительное фото со слепыми еще малышами.
А ниже десять комментариев.
Задание: определите по структуре речи, заберет ли котенка кто-то из откликнувшихся на объявление?
1) Стерилизовать не вариант? Всяко лучше, чем плодить беспородышей.
2) Месяца в полтора-два хотя бы отдавать, они же еще мелкие совсем и ничего не умеют. Кошка их социализировать должна – научить в лоточек ходить, когтедралку драть. Они же молочко ее пьют еще, как их отдавать-то? С молоком матери иммунитет получат, а так еще неизвестно, смогут их люди выкормить или нет.
3) Я так понимаю, кошка дачная? Тогда какой лоточек и какая когтеточка? Ничему она их не научит, разве что еду себе добывать.
4) Какие ж они хорошенькие!
5) Лапочки!
6) Красивые котята, у меня 4 подобрашки, и не жалею, с ними так уютно!
7) Я бы взяла, жаль, что я в другом городе!
8) Мне нельзя, у меня собака!
9) А у меня уже своих двое!
10) Котятки, найдете себе семью!!!
Если все комментарии получают ответ «нет», то вам зачёт. Ответ «да» звучал бы так: «Я беру, написал в ЛС». Однако большинство людей использует речь совсем для того, для чего она предназначена (обменяться информацией), а для психологических игр. В данном случае все комментарии вписываются в концепцию треугольника власти Карпмана. Суть его в том, чтобы в диалоге брать на себя поочередно одну из трех ролей: тиран (обвинитель), жертва, спасатель (примиритель). Разрушительная подоплека игры в том, что, беря на себя одну роль, человек неизбежно оказывается во всех трех. Давайте проанализируем десять приведенных выше комментариев, чтобы в этом убедиться.
1) «Стерилизовать не вариант? Всяко лучше, чем плодить беспородышей».
Роль, которую берет на себя комментатор, – спасатель человечества от нашествия беспородных кошек. В скобках две другие: тиран (обвинитель) по отношению к хозяйке объявления («Дура, сама не можешь догадаться, что делать?») да и кошкам бы не понравилось ее грубое обращение «беспородыши» и намерение лишить фертильности). И жертва (в роли жертвы женщина оказалась в тот же момент, едва разместила свой комментарий). Вот что ей ответила автор объявления:
– Ну, вариант, конечно! Вы типа самая умная здесь! Без вас все идиоты ничего не знают. Прошлая судьба кошки неизвестна. Люди по факту получили сюрприз. Пытаются помочь. Кстати, кошка уже нашла себе нового хозяина. Я думаю, она ее стерилизует…
Как видим, хозяйкой объявления тоже движут благие намерения («пытаются помочь»), что абсолютно не помешало ей другой «помощнице» навешать в хвост и в гриву. В этом парадокс треугольника Карпмана три роли всегда идут одним пакетом.
Теперь давайте проанализируем структуру речи в комментарии №1: «Стерилизовать не вариант?» Пытаясь наехать из экспертной позиции, но предчувствуя, что прилетит в ответ за непрошеный совет, женщина предпочла замаскировать совет под вопрос. Не помогло, люди мгновенно распознают как агрессию, так и нарушение иерархии (кто она такая, чтобы давать советы без запроса?) Ее вопрос (как и любой другой) содержит скрытое утверждение («Вам следует стерилизовать кошку»). Но при всем желании невозможно воспользоваться ее советом как минимум по трем причинам: 1) кошка чужая; 2) она убежала; 3) стерилизовать поздно – кошка уже родила. Подобные советы относятся к манипуляциям из серии «надо было» – помните в детстве мамино, когда ты споткнулся, упал и плачешь: «Надо было смотреть под ноги!» Ничто так не бесит, как публичное провозглашение вашей глупости и осознание невозможности ее исправить, поэтому вы возвращаете ее с лихвой: «Вы типа самая умная здесь! Без вас все идиоты ничего не знают».
2) «Месяца в полтора-два хотя бы отдавать, они же еще мелкие совсем и ничего не умеют. Кошка их социализировать должна – научить в лоточек ходить, когтедралку драть. Они же молочко ее пьют еще, как их отдавать-то? С молоком матери иммунитет получат, а так еще неизвестно, смогут их люди выкормить или нет».
Это еще одна советчица, менее агрессивная, чем предыдущая. Если у первой в треугольнике Карпмана доминирует роль обвинителя, то вторая изначально выступает в роли примирителя. Однако ее совет тоже трудно воплотить в жизнь: кошки нет, котята сироты. Казалось бы, если ты такая добрая, то бери котенка да приручай. Но это решение женщине явно не близко. Вот почему она, во-первых, использует сослагательное наклонение (частицу «бы»): «месяца в полтора-два хотя бы отдавать», а во-вторых, долженствование: «кошка их социализировать должна». Сослагательное наклонение переносит человека в желаемый, но не существующий мир («знал бы прикуп – жил бы в Сочи»), а долженствование, обращенное, к тому же, к кошке, убедительно доказывает, что не надо этой женщине отвечать на ее комментарий, в ее субъективной действительности чужие потерявшиеся кошки должны лично ей быть хорошими матерями. Люди же освобождаются от ответственности («неизвестно, смогут их люди выкормить или нет»). О, утопический мир розовых снов!
3) «Я так понимаю, кошка дачная? Тогда какой лоточек и какая когтеточка? Ничему она их не научит, разве что еду себе добывать».
Третья участница животрепещущего диалога разговаривает уже не с автором объявления, а со второй участницей. Её ответ – ответ реалиста, возвращающего предыдущего оратора на грешную землю. Это важное психотерапевтическое вмешательство, но без запроса и не по адресу, так как объявление про другое.
Увы, и автор реплики №3 не возьмет котенка, у него другая миссия. Три роли все те же – обвинитель участницы №3 в неадекватности, спасатель человечества от утопистов и жертва недалеких людей.
4) и 5) «Какие ж они хорошенькие!» и «Лапочки!»
Два похожих комментария, написанных из роли примирителя – такие не любят конфликтов и проблем, поэтому предпочитают перейти в эстетическую позицию и оттуда чувствовать себя хорошими людьми. Используют оценочную лексику, хотя и положительную. За оценками скрывается пассивная агрессия: ничто так не выводит людей из себя, как нравственная красота любителей животных, особенно когда их просят забрать котят, а не хвалить. Котят добрые люди №4 и №5 однозначно не возьмут.
6) «Красивые котята, у меня 4 подобрашки, и не жалею, с ними так уютно!»
Еще одна примирительница, одновременно рикошетом проходящаяся по комментатору №1 (для него она косвенный обвинитель). К сожалению, хотя она и говорит, что с подобрашками уютно, – ясно, что пятому подобрашке не светит попасть в её гостеприимный дом.
7) «Я бы взяла, жаль, что я в другом городе!»
Замечали, что все добрые люди живут там, где не надо брать котят? Лично я много раз убеждалась в библейской истине, что нет пророка в своем отечестве, Зачем же тогда они пишут комментарии?! Из тайного чувства злорадства, которое сами они не осознают и сильно сейчас ругались бы на меня за «клевету». Как видим, снова появляется сослагательное наклонение – частица «бы». Как только видите эту частицу – останавливайте диалог, поберегите свою энергию. Ибо если бы у бабушки был член, она была бы дедушкой.
8) «Мне нельзя, у меня собака!»
Лично для меня это вообще не аргумент, однако многие люди искренне верят, что кошка с собакой живут «как кошка с собакой», видимо, проецируя на невинных животных свои собственные стратегии взаимодействия. Увы, опять не срослось!
9) «А у меня уже своих двое!»
Ну и затаилась бы, а то где двое, там и трое! Не может, потому что очень хочет безнаказанно сплясать на чужих костях. А поскольку причина уважительная, то ее будут уважать вместо того, чтобы послать в эротическое путешествие. См. пункт 7: тайное злорадство.
10) «Котятки, найдете себе семью!!!»
Это разновидность спасателей, которым нравится разговаривать с отсутствующими животными или предметами – то есть теми, кто гарантированно не услышит и не сможет ответить. Поэтому брать котенка им точно не придется. Зато можно почувствовать себя хорошим человеком.
Реплики кончились, но не мой правдивый рассказ. Всех победила в финале сама подавшая объявление:
«Все пристроены! Как выяснилось, кошка уже беременная выскочила из машины случайно и скрылась в дачах. Хозяева кошки ее специально скрещивали с каким-то породистым сибирским котом и по УЗИ ждали 3-х котят. Но родилось 4. На котят еще до рождения была запись. У этой кошки все вышло хорошо!»
Делая столь подробный отчет (могла бы ведь просто написать «Спасибо, котят пристроили»), женщина тоже получает свои бонусы. Их несколько: во-первых, незадачливые комментаторы должны кусать локти, прочитав, что упустили свой шанс бесплатно получить сверхпородистого котенка, на которого была запись до рождения. Во-вторых, все они должны теперь сгореть со стыда, проявив себя с черствой бездушной стороны, а вот у кошки «все вышло хорошо!»
Третий бонус – выигрыш в игре «Да, но…", описанной в книге Эрика Берна «Игры, в которые играют люди». Суть игры: человек ставит проблему (я маленький и нуждающийся в помощи) – и все бросаются ее решать (мы большие и мудрые). Но в последний момент выясняется, что первый игрок достает джокер из кармана и вместо благодарности за помощь приводит остальных игроков в замешательство. В данном случае облажались все (даже ветеринар, разглядевший на УЗИ трех котят вместо четырех). Психологический бонус заключается в обретении уверенности («Все хотят мной командовать»).
Откровенно говоря, женщина, давшая объявление, показала зубы уже после первого же комментария («Вы типа самая умная здесь!») В итоге все убедились, кто здесь самая умная изначально и по умолчанию.
7.09.21
Он же памятник!
– Чей памятник?
– Ну, а я знаю? Мужик какой-то.
– С бородой?
– Нет.
– С бакенбардами?
– Да не помню я… О, в пиджаке!
– Сидячий?
– Чё?
– Сидит?
– Кто?
– Ну, мужик этот твой.
– Э-хе-хе! О деревня, а?! Ну ты даешь! Кто ж его посадит?! Он же памятник!
К/ф «Джентльмены удачи»
Сегодня меня вдохновили на текст фразы из рекламы Онлайн-школы писательского мастерства: «Что даст твоя книга? И как изменит вашу жизнь».
Разумеется, правильнее было бы написать, что не фразы вдохновили меня, а я, прочитав фразы, вдохновилась написать этот текст. Все-таки я субъект, выполняющий действие с объектом (фразами), а не они со мной. Но я написала именно так, чтобы привлечь ваше внимание к так называемым диссоциациям.
Диссоциация (или растождествление) – психический процесс, относимый к механизмам психологической защиты. Если действующее лицо не человек, а предмет, то такая диссоциированная позиция защищает от избыточных, непереносимых эмоций.
А в структуре речи диссоциация проявляется в следующем: вместо «Мама мыла раму» – «Рама мылась мамой».
Так, если я пишу: «Фраза вдохновила меня», – то я как бы не при чем, жертва обстоятельств, ни за что не отвечаю; она вдохновила – я и написала. Но если «я вдохновилась фразой», то совсем другое дело: я активный субъект, и мое действие – поступок; я комментирую чужую рекламу, за что рискую огрести от автора рекламного текста. Поэтому я, пожалуй, поберегу себя и не буду указывать на источник: все совпадения прошу считать случайными.
Итак, диссоциативные предложения – это когда предмет поступает с человеком. В нашей культуре, как это ни парадоксально, диссоциации, в отличие от «Я-высказываний», являются социально одобряемыми. Сравните две фразы: «У меня появилось желание» и «Я хочу» – вторая расценивается как проявление нескромности и даже наглости (хочешь – перехочешь). Однако именно Я-высказывания позволяют человеку ощутить себя субъектом действия, а не объектом, и именно они являются проявлением зрелости личности.
А теперь вернемся к фразам из рекламы: «Что даст твоя книга? И как изменит вашу жизнь».
Строя предложения диссоциативно, рекламодатель намекает, что вам ничего не придется делать самому: книга сама все даст и изменит вашу жизнь. Предположительно, к лучшему (хотя в вопросительных фразах это не утверждается).
С моей точки зрения, если вы напишете книгу, то лучшее, что с вами может случиться, – это освобождение от бремени познания, которое вы носите в своей душе. Здесь я исхожу из слов Евангелия от Фомы:
«Если рождаете то, что внутри вас,
То, что вы рождаете, спасет вас.
Если не рождаете то, что внутри вас,
То, что не рождаете, убьет вас».
Все другие мотивы толкают вас на ложный путь. Но в рекламе Школы вам не предлагают писать книгу, чтобы спасти душу. А предлагают следующее:
«– У вас появляется постоянно растущий поток клиентов, независимо оттого, чем вы занимаетесь, вы не прикладываете к этому никаких сил.
– Стоимость ваших услуг в среднем повышается на 30%.
– У вас появляется безоговорочное конкурентное преимущество.
– Вы раздаете автографы и получаете тысячи слов благодарности от своих читателей.
– Получаете удовольствие оттого, что вы создаете, обретаете свободу, занимаетесь любимым делом и можете двигаться быстрее».
Я не собираюсь критиковать чужие способы зарабатывать хлеб насущный. Я показываю, как устроена речь рекламного объявления. Подчеркнув подлежащее и сказуемое (основу предложения), получаем: «поток появится»; «стоимость повышается», преимущество появится» – то есть неодушевленные объекты действуют сами.
А в это время ВЫ: «раздаете автографы», «получаете тысячи слов благодарности», «получаете удовольствие», «обретаете свободу», «занимаетесь любимым делом», «не прикладываете никаких сил». Не правда ли, писали профессионалы? Все трудное и неприятное сделается само – и тут выходите вы, весь такой в белом фраке…
Вы взрослый человек и где-то в глубине души подозреваете подвох: сколько книг пылится на всевозможных полках и в Сети, вы и сами-то их не станете читать под угрозой расстрела!
Правда в том, что недостаточно написать книгу за 90 дней (это обещают в той же самой рекламе сотрудники Школы), потому что написанная книга не сделает вас ни богатым, ни счастливым, ни известным и сама себя не продаст. Это ВЫ будете продвигать свою книгу, продавать ее, тем самым меняя свою жизнь. И да, гарантированно заработает на вашей книге Онлайн-школа писательского мастерства ($1000 за стандартный он-лайн курс, если что), вы же гарантированно потратите ваши деньги ($1000 за стандартный он-лайн курс, если что). А вот заработаете вы на своей книге или нет – в этом никаких гарантий никто не даст. Станете вы известным или нет – тоже открытый вопрос.
Я написала больше десяти книг. Когда я не делаю объявления о них в Сети – их не покупают. Мой коллега, тоже автор книг, причем по продажам, дал мне жесткий, но действенный совет: ни дня без рекламного поста. Просто пишешь о своей книге, варьируя текст, подбирая визуальный контекст. Это ежедневный труд, и делать его будете вы сами (либо тратить деньги, если не сами).
А теперь составим объявление «по правде»:
«Вы напишете книгу и тем самым измените свою жизнь. Или не измените. Зависит от вас».
Избавитесь в момент
Все страдашки в этом мире от неправильной расстановочки приоритетиков и, как следствие, неправильного распределения ресурсиков.
Сократик
В Сети нередко обсуждается тема, как выбрать психолога. Лично я диагностирую профессионализм психолога не по диплому, сертификатам и стажу, а по речи, так как первое я проверить не могу, а речь – вот она, выложена в посте в соцсетях. Вот фрагмент рекламы тренинга не психолога, но целителя-тантриста, претендующего на работу с эмоциональной сферой человека (текст взят из общедоступных источников, пунктуация исправлена мной):
«На тренинге ты научишься тому, как:
– избавляться от страхов раз и навсегда;
– убирать внутренний голос, постоянно рассказывающий о том, что тебе нельзя;
– в момент избавляться от навязчивых мыслей;
– избавляться от состояния жертвы и «страдашек»».
Вот мой анализ с точки зрения практической психологии – сначала содержания заявленного фронта работ:
– Нельзя, невозможно и было бы вредно «избавляться от страхов раз и навсегда». Страх – базовая (врожденная) эмоция высших живых существ, необходимая для выживания. От страха нужно не избавляться, а осознавать его и принимать в связи с этим адекватные решения.
– «Убирать внутренний голос, рассказывающий, что тебе нельзя» – значит, прямым путем отправляться в анархисты. Свобода – осознанная необходимость, а не анархия, и моя свобода заканчивается на границе свободы других людей. Важно не убирать внутренний голос, а слышать его и осознавать свои ограничения, различать, что я действительно могу, но боюсь, а чего не могу в силу объективных причин. Так, например, сейчас у меня много клиенток, вышедших по возрасту из детородного возраста, но стремящихся любой ценой родить ребенка.
– Избавиться от навязчивых мыслей «в момент» невозможно, а если бы и было возможно, то это невыгодно, т. к. они не просто так навязываются, а стремятся донести до сознания важную информацию, которую человек боится принять к сведению. Выгоднее было бы осмыслить это сообщение и учитывать в принятии решения.
– «Страдашки» – слово, благодаря уменьшительно-ласкательному суффиксу обесценивающее страдание. Однако само страдание «отменить» невозможно, оно есть органичная часть эмоциональной жизни человека.
Теперь анализ речи. Самый частотный глагол в тексте рекламы – «избавляться». Однако исцеление ни в коем случае не предполагает избавление. Ис-цел-ять – слово, однокоренное с «целый». Целостность предполагает, что вы примете все части вашего бытия и для каждой найдете место. Только тогда сложится «пазл» вашей личности, только тогда вы исцелитесь (станете целым).
А теперь давайте перепишем рекламный текст целителя:
«На тренинге ты научишься тому, как:
– осознавать свои страхи и принимать на основе чувств адекватные решения;
– слушать внутренний голос, постоянно рассказывающий о том, что тебе нельзя, и на основе им сказанного корректировать границы возможного;
– слышать навязчивые мысли и осознавать их скрытую причину;
– в состоянии жертвы учиться делать рефрейминг, чтобы воспринимать картину более широко и целостно».
Как выбирать клиента
Регулярно читаю в ленте посты коллег о том, как клиенту выбирать психолога, но ни разу не встречала информацию о том, как психологу выбирать клиента. Между тем вопрос не праздный, лично я беру в терапию далеко не всех обратившихся. По умолчанию считается, что клиент всегда прав, но для меня это далеко не так.
Начну с не самого главного, чтобы показать мой процесс сбора информации о будущем клиенте.
1. Лично я не люблю, если он звонит (голосовые тем более не слушаю никогда). Сейчас звонят в основном мошенники, представляясь сотрудниками банка. С «сотрудниками банка» все ясно, они берут человека «на гоп-стоп», чтобы тот, не успев опомниться, перевел им деньги. Я предпочитаю переписку в соцсетях. Если звонок заставляет меня оторваться от моих дел, чтобы включиться в дела другого человека, то на письменное сообщение я могу ответить, когда удобно мне. Звонящим потенциальным клиентам я, разумеется, не отказываю только из-за того, что они не знают моих привычек, но для меня это, извините за каламбур, «первый звоночек»: я беру трубку в ответ на звонок с незнакомого номера только для того, чтобы попросить написать.
2. Теперь о переписке. Идеальное сообщение от клиента для меня выглядит так: «Я Вася Иванов, звоню по рекомендации известного вам Коли Петрова, прошу консультацию, сколько стоит, где и когда?» Все остальное мы обсуждаем во время оплаченного часа. К сожалению, 6 пунктов этого сообщения – 1) кто, 2) от кого, 3) цель обращения, 4) сколько, 5) где, 6) когда – редко кто из потенциальных клиентов может с первого раза донести до психолога. Поэтому переговоры на стадии заключения первичного контракта занимают некоторое время. И в результате я либо беру клиента, либо нет (зависит от количества потраченного времени).
Приведу типичные примеры отклонения от «идеала».
Угадай сам
– Здравствуйте, мне нужна консультация!
Не хватает пунктов 1, 2, 4, 5, 6. Это означает, что я должна проявить телепатию, угадать, чего хочет клиент, и понянчиться с ним, задавая наводящие вопросы: А кто вы? От кого? Где взяли информацию? Почему именно ко мне? И т. п. Скорее всего, если дойдет до встречи, то работать будем про сепарацию от родителей, взросление, приобретение самостоятельности.
Запланировать психотерапию
– Сколько стоит ваша консультация? Хочу спланировать расходы.
Похвальное желание, только я лично не отношусь к тем психологам, которые заранее способны определить число встреч и просят оплатить их оптом. С моей точки зрения, такое поведение психолога не профессионально и вызывает подозрение в материальной заинтересованности. Психолог же ни в чем не должен зависеть от клиента и работать строго по запросу, а количество сессий зависит от того, с какой скоростью клиент научится осознаванию. У меня на одном полюсе клиенты, которым достаточно одного часа (их большинство), а на другом – долгосрочные клиенты (обычно три года раз в неделю), и это зависит не от меня.
Работать будем про переоценку ценностей. Лично для меня каждый человек – потенциальный клиент психолога, а инвестиция в психотерапию – самая выгодная инвестиция, так как человек наведет порядок и в деньгах, и в делах, и во взаимоотношениях, а главное – проникнется самой высокой ценностью в жизни – спасением собственной души (простите за пафос).
Что я делаю в таких случаях? Не вдаваясь в подробности, говорю так, как написала выше: одна сессия стоит столько-то, будем решать проблемы по мере их поступления, статистика такая-то.
Может быть когда-нибудь
– У меня есть несколько запросов, прошу записать меня через три месяца.
Это не мой клиент. Как нельзя планово лечить перитонит, так нельзя планировать встречу с психологом через три месяца. То есть можно, конечно. Но у меня в опыте почти во всех случаях, когда срок ожидания превышал две недели, клиент не приходил. Это не потому, что люди не обязательные и обманывают психолога. А потому, что человек не способен так долго находиться в состоянии фрустрации и как-нибудь сам разрешает проблему.
Что я делаю? Вежливо отвечаю: ок, напишите, когда будете готовы.
Гарсон, чек!
– Цена?
Не отвечаю на такие письма, ибо. Ибо психотерапевт не обслуживает клиента, а вступает с ним в процесс человеческого взаимодействия, «работая самим собой». Лично я всего лишь слабый человек, который, совершая психотерапевтическую работу, ждет уважения к себе. Ну, ладно, не уважения, с клиентами всякое бывает. Хотя бы вежливости.
Инкогнито
Вместо имени ник, а на аватарке цветок (кошечка, человек на мотоцикле в шлеме и черных очках, человек спиной, мультяшный герой и т. п. Либо профиль закрыт, вместо фотографии серый силуэт.
Опять-таки: все бывает, возможно, у человека есть причины прятаться от социума. Прошу написать имя и обязательно источник информации обо мне (от кого пришел). Это от опасения. Чего опасаюсь лично я? Психиатрии, криминала, тяжелых зависимостей (наркомания, алкоголизм, глубокая созависимость). Это не моя компетенция, а следовательно, не мой клиент. В психотерапии все тайное становится явным, и если уже до терапии человек скрывает свое имя и лицо, то мне с ним не безопасно.
Что делаю? Не отвечаю или прошу представиться, в зависимости от того, что подсказывает чутье.
Успеть подготовиться
Клиент вместе с просьбой о консультации присылает письмо на семи страницах с описанием своей проблемы, а кроме того просит разрешения позвонить и предварительно рассказать о своем запросе, чтобы психолог «успел подготовиться» (иногда спрашивает, как готовиться к консультации ему). Это лишнее. Психолог работает в оплаченный час сессии, и его цель не узнать подробности жизни клиента, а наоборот отсечь лишнюю информацию, чтобы найти блокирующую установку сознания.
Что делаю? Пишу, что расскажет подробности при встрече.
Со своим уставом в чужой монастырь
– Прошу провести бесплатную ознакомительную сессию, чтобы я решил, подходит ли мне ваш метод.
Не мой клиент. Для меня в подобной просьбе видится нарушение порядка: кто просит, тот не ставит условия, а соглашается на мои. Соблюдением порядка в этом случае будет оплаченная сессия, во время которой клиент поймет, подхожу ли я ему. Я, а не мой метод, в котором клиент не смыслит.
Отвечаю: не согласна.
Записать мужа
– Хочу записать к вам моего мужа, расскажите про условия.
Категорически нет, я записываю только того, кто обращается сам (касается взрослых, а не детей). Отвечаю: «Если ваш муж захочет, то обратится сам». Обычно на этом не заканчивается, человек будет убеждать меня, что муж согласен, но его нет в соцсетях, (занят, стесняется и т. п.). Отвечаю: «См. выше» – и больше не поддерживаю переписку. В редких случаях «жена» записывается на терапию сама, что, в общем-то, логично, ведь стремление записать к психологу мужа есть не что иное, как проявление созависимости. С ней и будем работать, если женщина придет на встречу.
Это не полный список «отклонений от идеала», я взяла самые типичные, с которыми имею дело ежедневно. Такое сито позволяет мне отсеивать людей, которым, во-первых, не могу помочь я. Во-вторых, благодаря подобному отсеву, я сохраняю себя, что немаловажно в моей профессии. Ведь, как я уже сказала выше, психолог работает «собой».
Он спокойный у меня
– Я готова. Единственное, мне ребёнка оставить не с кем. Но он спокойный у меня.
– Если этот вопрос нельзя решить, то давайте перенесём встречу на другое время, я могу в четверг или в пятницу.
– Лучше сегодня. Так как мне вообще не с кем его оставить и в четверг, и в пятницу, и в другие дни.
– Я не согласна работать при ребёнке. Отменим сессию, пришлите номер карты, я верну деньги.
Это диалог с клиенткой за четверть часа до начала психотерапевтической сессии. Я уже стреляный воробей и знаю, что соглашаться на такое категорически нельзя. Это как с владельцами собак, выгуливающих питомцев без поводка. «Она у меня не кусается!» Да мне не надо знать эту информацию, просто пристегни поводок и надень намордник. Это ТЕБЯ она не кусает. Собака неосознанное существо, не отвечает за свои поступки, а отвечаешь ты.
То же и с ребенком. Это в ОБЫЧНОЙ ситуации на руках у мамы младенец спокойный. Но на сессии мама начнет плакать, и ребенок с ней вместе, и вот я уже нянька, а не психотерапевт. Ребенок неосознанное существо, не отвечает за свои поступки, а отвечает мама. Но если и мама неосознанное существо, то пусть хотя бы психотерапевт соображает, что делает.
«Входить в положение»
Я не всегда была такая умная (клиенты считают «жесткая»). Я «входила в положение». Вот приходит на условленную встречу клиентка, а на руках кокон с завернутым младенцем. И куда ее? Понятно, что кругом и шагом марш, а деньги не возвращать, потому что она нарушила условия встречи. Но она же мааама, у нее бедный ребеночек, им нужны и помощь, и деньги. И я добрая. Что происходит дальше? Ребенок на пять минут замирает, потом у него включается ориентировочный инстинкт – и консультации конец. Попить, пописать, а кроме того, разрушить обстановку моего кабинета, не будет же он играть своей надоевшей погремушкой, когда столько нового и интересного.
Было много разных случаев. Приходили на психотерапевтическую группу кормящие участницы с ребенком и папой («Пусть посидит в сторонке, он же не мешает»). Приходили с ребенком и мамой («А что, разве нельзя в соседней комнате их поместить?»). Нет, нельзя.
Как-то родившая постоянная участница моих групп пишет перед очередным тренингом:
– Собираюсь на группу, но никак не могу решить вопрос с 7-месячной дочерью. Вопрос: если я возьму ее с собой на группу, это может на ней как-то негативно отразиться с точки зрения психического развития?
– Категорически нет.
– Смущаюсь от слова «категорически». Правильно ли я поняла, что на ребенке его пребывание на группе НЕ ОТРАЗИТСЯ ПЛОХО?
– Еще раз: группа для взрослых.
В этом диалоге я была недостаточно внятна, поэтому мою фразу «категорически нет» клиентка интерпретировала по-своему. Как видите, очевидные ДЛЯ ВАС вещи вовсе не очевидны для клиента. Поэтому предпочтительнее называть вещи своими именами, например «с ребенком приходить нельзя». Обиделась, и больше я ее не видела. Дети – это святое. Если манипуляция детьми не удалась, то психолог – бездушный зверь, который не любит детей.
Билет в детство
Психотерапевт не сдает в субаренду комнат, не продает услуги няни. Но все это сдается и продается в других местах, точно не на вашей группе. Почему же мамочки на время своего отсутствия не наймут няню на своей или на ее территории?
А вот почему. Это был бы поступок взрослого ответственного человека, а мамочке так охота самой впасть в детство, чтобы позаботились о ней! Навалившиеся обязанности по уходу за ребенком для молодой неопытной женщины колоссальны, их невозможно было предвидеть заранее. И тогда ребенок функционально становится для мамы входным билетом в детство, где большие позаботятся о маленькой, и психолог входит в их число.
Ллойд Демоз, автор книги «Психоистория», называет такой тип отношений родителей с ребенком возвратной реакцией: «Он может использовать ребенка как заместителя фигуры взрослого, значимого для него в его собственном детстве (возвратная реакция)». Это означает, что ребенок существует для того, чтобы быть родителем своему родителю. В данном контексте клиентка, пришедшая на собственную психологическую консультацию с ребенком, рассчитывает на лояльность психолога к себе и одновременно на заботу о ее ребенке.
Что делать?
Во-первых, отказаться работать на таких условиях, и если клиентка согласна, то передоговориться о новой встрече без ребенка.
Во-вторых, независимо от запроса клиентки обсудить инцидент на сессии. Он отражает ее паттерн – перекладывать ответственность за свои взрослые выборы на другого и таким образом тормозить свое развитие. Взрослость включает в себя умение решать собственные проблемы и проблемы своего ребенка. Решив проблему того, как позаботиться о ребенке на время собственной консультации, женщина УЖЕ становится более зрелой и сильной. Если она справится с этой маленькой задачкой, то сможет справиться и с другими вопросами ее бытия.
17.01.21
Почему я не слушаю голосовые?
Почему письменные сообщения для меня предпочтительнее голосовых? Устная и письменная речь отличаются друг от друга. Когда вы пишете, вы отсеиваете спам. А когда говорите, это должна делать принимающая сторона (я).
Чтобы не быть голословной, я расшифровала два голосовых. Почувствуйте разницу.
Первое устное голосовое сообщение (708 знаков)
«– Римма, привет. Гм-гм-гм. Э-э… Я… вот хочу о чем тебя спросить… Эээ… Я сейчас работаю с одной компанией… Которая живет… ну, которая находится… ну, в общем, не важно. Ииии… внутри этой компании мы там работаем с-с-с… сотрудниками, и один из сотрудников подошел и спросил, а нет ли у меня знакомой… психолога, психотерапевта, и я, конечно, с огромным удовольствием про тебя вспомнила… Ээээ… Скажи, пожалуйста, я могу дать твой телефон… эээээ… этому мужчине, чтоб они там уж, что ли, позвонили тебе и тогда договорились и про цену там, и про то, как вы будете работать… ну, либо… либо телефон какого-то другого психолога… Напиши, пожалуйста, если такая история возможна. Спасибо!»
Если отсеять бе-ме, то получим аналогичное письменное сообщение (27 знаков):
– Можно дать твой телефон клиенту?
Второе устное голосовое сообщение (386 знаков)
«– Римма, добрый день. А-а-а-а… хотела сказать, что я в субботу или в пятницу поеду в Академгородок. И… скорее всего, в пятницу, по крайней мере, очень хочется в пятницу… во второй половине дня, где-то после двух… Я поеду в Академгородок… И-и-и… могла бы завезти посылку и встретиться. Либо просто где-нибудь передать, оставить посылку там, может быть, в РЦР или как-то так…»
Письменное сообщение (0 знаков) можно было совсем не посылать, потому что информация противоречивая: то ли да, то ли нет, то ли может быть; человек рассуждает вслух сам с собой, но мне ему сообщить нечего.
PS. Кстати, клиент не позвонил, а знакомая не приехала (и не сообщила, что не приедет).
12.12.20
Игра в секретики
Усвоить на практике
– Мама, а что такое тайна?
– Это то, о чем никому нельзя говорить.
– А я никому не скажу, покажи мне тайну.
– Ее глазками не увидишь и ручками не потрогаешь, тайна – это не вещь…
– А я не буду ручками трогать, посмотрю – и на место положим!
Этот разговор с дочерью состоялся, когда ей было 2 года 11 месяцев. История сохранила его, потому что я записала его в родительский дневник, который, к сожалению, вела не регулярно. Я умилилась жадности и настойчивости детского познания, а еще разочаровалась в своем бессилии объяснить такое простое понятие, как тайна.
Я в те времена еще не была психологом и не знала о концепции Пиаже, описавшем этапы развития мышления. Согласно его подходу, до 12 лет большинству людей и думать нечего о понятийном мышлении, которое распахнет перед ними мир абстрактного. А в три года способность ребенка постигать мир ограничивается наглядно-действенным мышлением, когда, чтобы узнать суть предмета, надо потрогать его и поиграть с ним. А если это не предмет?
Понять, что такое тайна, помогают девчачьи секретики. Это вам не какое-то абстрактное понятие, а конкретное дело. Находишь стекло подходящего размера, оттираешь его до блеска лопухом, роешь ямку в земле, кладешь на дно какую-нибудь красоту – цветок или фантик, золотинку, горсть набитых стеклышек, накрываешь сверху стеклом и засыпаешь землей. Теперь аккуратно пальцем проделываешь в черной земле окошечко и – о, красота! – любуешься на свое творенье. Таким практическим способом, в игре, дети постигают суть тайны: это то, о чем никому нельзя говорить. Проболталась – потеряла секретик, сама виновата.
Психоаналитическая подоплека
Зарывать секрет в землю – это только часть игры, девчачья. Если поблизости есть мальчики, то сюжет развивается уже по иному сценарию. Мальчики не делают секретиков, они их разоряют. Их задача – подглядеть, запомнить место, выждать момент и, внезапно налетев с победоносным криком, пустить прахом с любовью спрятанную красоту. На такие случаи у девочек есть противоядие: они зарывают основной секретик поглубже, а поверх него делают обманный – маленький и из неценных предметов. Некоторые мальчики ведутся на это – и тогда девочки торжествуют. Но есть и вторая сторона тонкого социального взаимодействия: секретик никто не нашел, да только радости нет – у других нашли, а твой секрет остался невостребованным…
Наверняка грамотный читатель уже догадался о психоаналитической подоплеке этой детской игры. Она не только про способность детей осваивать абстрактные понятия, вступая в игровые взаимоотношения с людьми по поводу конкретных предметов. В этой игре на бессознательном уровне детьми также осваиваются женские и мужские ролевые модели.
Когда-то Эрик Эриксон проводил с дошкольниками и младшими школьниками исследование как раз на тему женского и мужского поведения. Детям предлагалось придумать кульминационный момент в сценарии фильма и построить для него декорации из предложенных игрушек и конструктора. Его наблюдения заставляют увидеть то, на что родители изо всех сил стараются закрывать глаза: наши дети, сами того не зная, репетируют секс.
Девочки строили комнату, расставляя игрушки, имитирующие мебель, по кругу. Самым значимым элементом декораций был вход – на него не жалелось ни времени, ни украшений. Кульминаций сценария для девочек было внезапное появление нежданного агрессора (игрушка-животное, конь или волк), который вторгался в мирное пространство их комнаты.
У большинства мальчиков местом действия был город с высоким зданием в центре (маяком или колокольней) или улица города с движением транспорта по дорогам и регулировщиком с полосатым жезлом. Кульминационный момент – падение башни в результате катастрофы либо остановка движения транспорта регулировщиком посредством опускания жезла.
Как видим, эти фантазии детей символически отвечают тому, что общество ждет от мужчин и женщин в будущем: женщина должна будет впустить в свое внутреннее пространство тела энергию мужчины для продолжения жизни; мужчина должен будет научиться активному поведению для тех же целей.
А игра в «секретики» не просто игра, если мы способны за профанным видеть сакральное.
Вторая половинка, или почему мы их любим
(Выступление на Шоу личных историй)
Я практикующий психолог, и на моем столе в кабинете стоит пачка салфеток и лежит книга «Женщины, которые любят слишком сильно». Я не убираю ее со стола, потому что подавляющее большинство моих клиентов – женщины. И большинство из этих женщин любит мужчин слишком сильно. Сильнее, чем себя. Я прошу их сфотографировать книгу и прочитать после сеанса. Потому что любить слишком сильно – это болезнь. И ее нужно лечить.
Собственно, весь поток клиентских запросов можно свести к двум вариантам. Оба они укладываются в известную пословицу: бабы каются – девки замуж собираются.
1. Первый вариант («бабы каются»). Она приходит, садится передо мной и молчит.
Я подвигаю коробку с салфетками.
– Нет-нет, я не собиралась плакать!
– Не собирались плакать… про что?
И вот сквозь поток слез я слышу очередной рассказ про него. Он ушел, а вместе с ним ушли смысл жизни, радость, уверенность в себе, а зачастую социальный статус, деньги и крыша над головой. Он был самый лучший на свете, другого такого не будет.
– Хочешь вернуть?
– Нет, помогите забыть.
Плавали, знаем. Пока она рассказывает, какой он был классный и одновременно ужасный, у меня в голове начинает наигрывать знакомая мелодия:
- Он чужой, он чужой, он плохой,
- Ничего не говори, ведь он унес мое сердце с собой.
- Он чужой, он чужой, он плохой,
- Ничего не говори, он – это лучшее, что было со мной!
Но она здесь не для того, чтобы песни петь. Эта женщина пришла за помощью, заплатила деньги и верит, что я ей помогу. И я помогу, но ей не понравится моя помощь.
А вот второй вариант («девки замуж собираются»): женщина ищет, но никак не может найти мужчину своей мечты. Я внимательно слушаю, каким он должен быть. Но это лишнее, я примерно знаю, ведь я сама женщина и сама выросла под влиянием стереотипов массовой культуры. Она говорит, а в моей голове опять звучит песня:
- Чтоб не пил, не курил
- И цветы всегда дарил,
- Чтоб зарплату отдавал,
- Тещу мамой называл,
- Был к футболу равнодушен,
- А в компании нескучен.
- И к тому же чтобы он
- И красив был, и умен…
Она не найдет такого парня. Потому что это портрет не мужчины, а женщины. Но она пришла, заплатила деньги, она верит, что я ей помогу. Я ей помогу, конечно, но моя помощь ей не понравится.
Что же я могу сделать для женщин, которые любят слишком сильно и зашли в тупик в своих отношениях с мужчиной? Я не могу помочь забыть его, это невозможно. Я не могу помочь найти парня по списку ожиданий – это невозможно. Но у меня есть для женщин кое-что получше. Я могу показать их блокирующие установки сознания. Те ложные верования, те заблуждения, которые мешают им строить гармоничные отношения с партнером.
Что не так с сознанием моих клиенток? Это верование в то, что на свете для каждого человека существует вторая половинка – идеальная пара. Если мы ее находим, то достигаем идеального союза. Моим клиенткам это нравится. Потому что освобождает их от ответственности за собственную реализацию. Ведь если я не нашла вторую половинку, то я не виновата. Как я могу стать целостной? Как я могу стать собой? Мне просто не повезло. Не мы такие, жизнь такая…
Это заблуждение, друзья, блокирующая установка. И я предлагаю поменять ее на активирующую, открывающую для нас двери в новый мир. Несравненная Фаина Раневская сказала: «Вторая половинка есть у мозга, … опы и таблетки. А я изначально целая!» Это шутка, но очень грамотная шутка.
Вторая половинка есть, но она внутри нас, в нашей психике. Мы андрогинны, то есть в психическом смысле мы целостны: в каждом из нас есть и мужское, и женское. В юнгианской психологии считается, что в психике женщины есть свой собственный «мужчина» – анимус. Если по-простому, то анимус – это мужественность, решительность, смелость, напор и т. п. У мужчин тоже есть внутренняя «женщина» – анима. Это эмоции, настроения, эмпатия, сострадание и т. п.
Так-то нужные качества для женщины, правда? Всем нам не помешает в некоторых ситуациях мужественность, решительность, смелость, напор. И это в нас ЕСТЬ. Но как женщине увидеть свой анимус, своего внутреннего мужчину? Здесь и загвоздка. Мы не можем увидеть его а себе, для этого нам нужен реальный человек, реальный мужчина. Мы можем спроецировать свои собственные качества на мужчину, то есть приписать их ему. Так, психологи знают, что излюбленными жертвами, всеобщими кумирами женщин являются теноры, художники, кинозвезды, чемпионы в соревнованиях по атлетике и т. п. Почему? Почему все женщины любят Стаса Михайлова?! Над этой загадкой ломают головы продюсеры. А психологи знают ответ: потому что женщины проецируют на него свои собственные качества.
Чем же я могу помочь женщинам, которые приходят ко мне за помощью? Я предлагаю им осознать проекцию, снять ее с мужчины и присвоить себе. То есть увидеть это качество в себе, интегрировать его, взять за него ответственность и применять в реальной жизни для решения своих задач.
Как это сделать? С помощью техники, которая называется «Скажи это от первого лица». Вот как это делаю я:
– Расскажи о своем мужчине мечты, за что ты его полюбила?
– О, он такой смелый и решительный! Он пинком открывает любые двери, он достигает всего, чего хочет! Он идет к своей цели и не обращает внимания на критику!
– Скажи это от первого лица.
– О себе, что ли? Нееет, я не такая!
– Просто скажи это от первого лица, это всего лишь упражнение.
– «Я смелая и решительная. Я пинком открываю любые двери, я достигаю всего, чего хочу. Я иду к своей цели и не обращаю внимания на критику».
– Это и есть твои задачи по самореализации. Это должна сделать ты, а не твой мужчина. У него другие задачи, свои собственные.
Вот другой текст:
– Расскажи, за что ты его полюбила.
– О, он такой успешный, высокостатусный! У него всегда есть деньги, они для него не проблема. Он объездил весь мир. Если он ответит мне взаимностью, у меня тоже будет такая жизнь…
– А если не ответит? Скажи все это от первого лица.
– Я такая успешная, у меня высокий статус. У меня всегда есть деньги, они для меня не проблема. Я объездила весь мир. Если я отвечу ему взаимностью, у него тоже будет такая жизнь…
Ухватили суть? Мы проговориваем свою проекцию, снимаем ее с мужчины и присваиваем ее себе. Это НАШИ качества, они в нас есть. Наша задача не искать мужчину, который, подобно доброму волшебнику, придет, возьмет нас за ручку и поведет к нашему светлому будущему, а осознать, что мы взрослые люди, обладающие ТОЧНО ТАКИМИ ЖЕ возможностями, что и мужчина. У нас есть голова, руки, разум, права, мы можем научиться чему угодно. У нас есть анимус – наш внутренний мужчина.
Если мы это понимаем, то мы перестаем ожидать от нашего партнера, что он придет и сделает за нас нашу работу. Это та самая здоровая активирующая установка, позволяющая женщине не циклиться на мужчине, перекладывая на него свою ответственность за свое развитие, рост, зрелость.
Вы спросите: для чего тогда мужчины, если мы станем самодостаточными? Как сказал психолог Джеймс Холлис, самодостаточность хороша, но ею не согреешь ног в постели долгими зимними вечерами. Сняв проекции и ожидания с мужчины, вы можете увидеть его реальным человеком и позволить себе любить его бескорыстно. Идти рука об руку каждому к своей цели, но рядом. Давать жизнь другим людям, чтобы они тоже получили возможность самореализации, как и мы.
Нет никакой второй половинки. Мы изначально целостны. Жить нужно с тем, с кем можешь, а любить – Бога.
28.02.17
Гормон роста
Светлана лучший детский эндокринолог в ее городе. Но хочет менять профессию – тесно в рамках медицинской парадигмы. Это ее запрос на моем психотерапевтическом тренинге. За пятнадцать лет практики она поняла, что болезнь не нападает на ребенка внезапно, исподволь, а является следствием стрессовой ситуации.
– Можешь привести пример из своей практики?
– Да много их, практически все случаи – психосоматика. Вот мальчик перестал расти – уменьшился гормон роста. Запускающее событие – мама развелась и вышла замуж за «другого папу»…
– Напиши книгу об этом! Это же нужно человечеству! Собери свои кейсы, придумай название…
Светлана закашливается. Да так сильно, что я открываю окно, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха.
– Что с тобой?
– Будто что-то мешает дышать!
– Можешь поисследовать прямо сейчас. Затруднен вдох или выдох? Если вдох – человек не разрешает себе присвоить что-то важное («кислород»), если выдох – не может отпустить что-то отработанное («углекислый газ»).
– Вдох!
– Давай узнаем, с чем ты не согласна в своей жизни.
Светлана выбирает на роль себя и кашля двух участниц, показывает, что кашель делает с ее организмом: сдавливает грудь со словами: «Сиди и не высовывайся! Чтоб тебя было не слышно и не видно!»
Я предлагаю посмотреть на сцену со стороны, чтобы понять, кто так с ней поступал в ее жизни. И она заливается слезами, вспомнив свой первый класс.
– Учительница заставляла меня сидеть за партой, не шевелясь. А мне так скучно было, я уже умела хорошо читать, считать и писать, заняться было нечем. Я даже однажды упала под парту во время урока… В этой же школе учителем начальной школы работала моя бабушка. Она дружила с моей учительницей, и после уроков они меня оставляли, садили за парту перед собой и заставляли сидеть час, не шевелясь, тренировать усидчивость. За что они так? – и снова заливается слезами и закашливается.
Я тоже не понимаю, что за бессознательный садизм скрывается за якобы педагогическими целями. Это нужно выяснить прямо сейчас, тогда, возможно, вскроются мотивы бабушки, и запрет на самовыражение удастся снять. Мы сооружаем сцену из подручных средств: стулья – парты; две учительницы начальных классов, одна из которых родная бабушка участницы, сидят рядом, а напротив них стул, на котором, сложив симметрично руки и замерев, сидит участница, играющая семилетнюю Свету.
– Побудь в роли бабушки, ответь на этот вопрос: за что она так с тобой?
Светлана садится на стул бабушки, рассказывает о себе из ее роли:
– Я не люблю тебя. Я живу с сыном, мой муж умер от рака легких (!), а сын со второй семьей переехал со мной. Меня бесит, что мне нет покоя: дети шумят, носятся по всему дому! Мне не нравится, что они такие ЖИВЫЕ!
На этих словах я спрашиваю:
– А какие они должны быть – мертвые? Похоже, в бабушкиной семье нельзя быть живым, дедушка умер от рака легких…
Светлана улавливает эту параллель и продолжает из роли бабушки:
– Я любила первую невестку и ее дочь, мою первую внучку, а тебя не люблю, потому что это вообще было неправильно – жениться второй раз! Брак должен быть один-единственный! Я говорю об этом своему сыну, но он не хочет это со мной обсуждать. Тема первой семьи в доме под запретом, ее как бы нет! А вам буду мстить за то, что разрушаете мой идеал семьи.
– Пересядь на свой стул, ответь что-нибудь из роли семилетней Светы.
Пересев на стул маленькой девочки, Светлана восклицает:
– Бабушка, а я-то здесь причем?! Вы большие, я маленькая! Это ваши отношения!
– Ничего не знаю и знать не хочу.
Вот такой разговор с бабушкой. Потом отец получил квартиру, съехали от бабушки, поменяв район, а заодно и школу. Общались редко, по необходимости. С тех пор прошли годы; умер и отец, и бабушка, и теперь не у кого даже узнать имя и фамилию старшей сестры Светланы от первого отцовского брака… От детской истории, случившейся с талантливой, не по годам развитой первоклассницей, остались кашель и блокирующая установка: «Не высовывайся!» Вот она и не высовывается…
– Ты поняла, почему ты выбрала свою профессию детского эндокринолога?
– Боже мой, точно! Надо же, никогда не усматривала параллели со своим детством! Ведь и я, как тот мальчик, остановилась в своем росте и нахожусь на том же уровне развития до сих пор!
– Да, детские психические травмы оставляют след в нашей душе. После них какая-то наша субличность остается в том же самом возрасте и не растет. Конечно, если не поменять установку сознания.
– А как это сделать?
– Сейчас ты взрослая, можешь поговорить с бабушкой о своих чувствах в безопасной обстановке психотерапевтической сессии. Я буду помогать.
Светлана готова. Ей нужно восстановить семейный порядок, нарушенный много лет назад. Во-первых, не согласиться с тем, чтобы вычеркнуть из семейной системы первый брак отца. Жизнь шире и богаче идеала, придуманного бабушкой. Этот брак был, и где-то живут старшая сестра клиентки и ее мать. Во-вторых, не согласиться с тем, чтобы ребенок сидел за партой неподвижно. Это абсурдно, ребенку свойственно быть живым, любопытным, радостным. Задача учителя – не подавить это стремление, а всячески поддерживать, насыщая ум ребенка новыми впечатлениями. И в третьих, самое главное: разрешить себе, взрослой женщине, написать книгу о детях, которые попали в такую же ситуацию, как она сама.
Светлана проделывает всю необходимую работу, обмениваясь ролями. В конце, отплакав детскую боль, выговорившись и сняв роли, возвращается к началу сессии – к своей будущей книге.
– Как ее назвать? У меня нет идей.
– А давай проведем мозговой штурм в группе!
«Психосоматика и эндокринология», «Детские травмы», «Играй, гормон»… – несется со всех сторон из круга участников. Все не то. И вдруг:
– «Гормон роста»!
Аплодисменты, всем нравится это название. Светлана с горячей благодарностью обещает первый экземпляр книги подарить той, что придумала это название. Гормон роста… Он нужен всем нам, если какая-то часть нашей творческой личности замерла и не развивается.
29.11.16
Выход за пределы
Друзья, с благодарностью делюсь впечатлениями о том, как я поучаствовала в мастер-классе Аркадия Цукера «Выход за пределы своего коридора мышления». Это происходило вчера утром в рамках 5-дневного выездного тренинга-марафона «Подъем».
Сначала Аркадий развенчал клише, с которыми люди подходят к бизнесу, типа того, что реклама не работает и т. п. Было радостно смотреть слайд-шоу с перечнем расхожих мифов и слышать это, потому что именно эту недостоверную информацию в основном предлагают на бизнес-тренингах, на которых я неизменно засыпаю.
Далее ведущий сказал, чем будем заниматься: менять шаблонное мышление на творческое. Для этого предложил создать 4 группы одним из способов. Первый: рассчитаться на 1-2-3-4. Второй: как-нибудь. Ему все равно как, через 30 секунд он повернется – а мы уже в подгруппах. Аудитория выбрала второе. Мне это понравилось, и я тоже примкнула к ближайшей ко мне подгруппе.
Пять минут дал на то, чтобы участники каждой подгруппы поделились своими проблемами в бизнесе и обсудили, какую из проблем группа выдвинет на всеобщее обсуждение. Я заволновалась: нас 12 человек, а времени всего 5 минут. Зря волновалась: поделились всего двое, выбрали мою тему. Первый инсайт: конкурировать на рынке просто, люди сами сидят и не высовываются, никакой борьбы.
Аркадий предложил каждой группе доложить о результатах обсуждения. Я рванула на сцену с докладом: у меня с собой чемодан моих авторских дизайнерских украшений, а до конца тренинга-марафона всего сутки, надо продать. И это с учетом того, что я тренер, у меня занятия, у участников тоже, то есть на продажу остается по 10—20 минут от обеда и ужина и короткие перерывы между мастер-классами. Другие группы тоже предложили свои варианты проблем в бизнесе.
Дальше Аркадий сказал великолепную вещь: если есть вопрос, в нем уже присутствует ответ. Обсудите свой ответ: как вы собираетесь решать свою проблему? На все 10 минут. Я оторвала лист с флипчарта, постелила на пол в нашем кружке, и мы провели мозговой штурм, предложив кучу всего. Если коротко, то: всей нашей группой надеть мои украшения и пойти в народ, как апостолы; использовать ресурсы тренинга-марафона «Подъем», например, размещать в его профиле фото украшений; обучить участников видеть в украшениях символику и использовать их не только для красоты, но и как инструмент психологической диагностики и коррекции.
Другие группы тоже поведали о том, как будут решать свои проблемы, например, представительница одной из них долго рассказывала, какой хороший загородный дом они хотят продать. Выслушав всех, Аркадий с неизменной доброжелательной улыбкой предложил увидеть ограничения подхода каждой из групп и взять из докладов других групп то, чего нет у самих. Так, нам не пришло в голову рассказать, какие хорошие у меня украшения. Уже на этом этапе я начала видеть тесные рамки своего мышления. Но также и сильные стороны: например, я гордилась тем, какая я активная: выступаю первая, говорю громким голосом без микрофона, хотя стесняюсь и боюсь. Оказывается, одно другому не очень-то и мешает.
А дальше самое интересное: Аркадий рассказал о том, как мыслили в бизнесе Джобс и Дисней. Если коротко, то Джобс видит что-то (Аркадий для примера тронул рукой экран, висящий на сцене) – и тут же придумывает, как это использовать. В этот момент я тоже вдруг сообразила, что могла бы пустить презентацию своих украшений на этом самом экране, который большую часть времени просто белеет перед глазами участников мероприятия в самом большом и посещаемом зале здания. Пока, например, участники пьют здесь на ночь кефир, а могли бы в это время еще и любоваться моими великолепными дизайнерскими колье из натуральных камней, асимметричными серьгами и браслетами в стиле бохо. Причем флешка со слайд-шоу у меня с собой!
А Дисней мыслил сказкой. В его голове события жизни подвергались раскадровке, соединяясь в сказочный сюжет. И опять мне стало совестно: я, филолог и психолог, защитивший диссертацию по психологии сказки, но применить это знание в продажах мне в голову не пришло! А кому как не мне разбираться в архетипической символике собственных изделий? Создавать сопроводительные тексты к ним?
Короче: я вышла с мастер-класса Аркадия Цукера с воодушевлением и готовностью написать книгу «Психология украшений» – как раз то, что позволит соединить три любимые мною вещи: психологию, изготовление украшений и написание книг. А еще я вышла с благодарностью моей подгруппе за этот наш совместный марш-бросок, позволивший как следует встряхнуть мозг. И с радостью, что я не одна, что люди отзывчивы и готовы помочь, что так классно учиться, что бизнес – это веселая увлекательная игра, что сейчас я пойду в холл, разложу свои сокровища, а уже сегодня вечером на каждом втором участнике тренинга-марафона я увижу их в совершенно новом свете – вписанными в индивидуальный образ их новых хозяев.
Аркадий, вам особое спасибо, восхищаюсь вашей работой, вашим светлым разумом и любовью к жизни.
20.05.17
Муж сказал: «Зачем тебе работать?»
Я подбираю монетки на улице.
Это привычка с детства. Тогда подобранные деньги были весомее, на них можно было купить, например, почтовые марки, которые мы «копили», конкурируя с лучшей подругой. Гашеные были дешевле, потому что на них стояла печать.
Деньги давали финансовую свободу. Мы с Иркой нашли источник дохода, который был нашей строжайшей коммерческой тайной. Мы заметили, что под школьным турником иногда остаются вылетевшие из карманов монетки. Оставалось дождаться, пока уйдут мальчишки, забрать улов и поделить пополам. Хорошо помню чувство азарта, когда роешься в пыльном песочке, и вдруг блеснет нарезное ребро, медное, а если повезет, то и никелевое.
На наши деньги мы покупали не только коллекционные марки. Как-то Ирка прибежала и воскликнула, задыхаясь: «Есть у тебя копейка?!» Конечно, да, копейка имелась у каждого уважающего себя младшего школьника. И это были порой немалые деньги. Мы могли, например, скинуться по копейке всем двором и купить в ближайшем киоске 100 грамм «дунькиной радости» – конфет-подушечек с повидлом внутри, а сверху обвалянных в какао-порошке. Мы чувствовали себя самостоятельными, командой, нас принимали всерьез во взрослом магазине! Но в этот раз за копейку продавалось нечто экстраординарное – десять елочных игрушек в виде музыкальной трубы в уцененном магазине! Нанизав на веревочку (упаковки не дали), я с гордостью принесла их домой и удивила родителей.