«Три кашалота». Гарантия жизни – смерть. Книга 4 бесплатное чтение
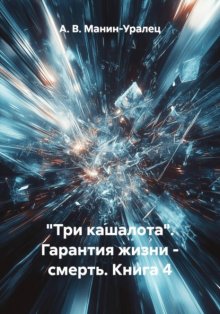
I
За рабочим столом оператора-аналитика отдела «Опокриф» капитана Андрея Страдова встали одновременно две, не исключающие одна другую задачи: вместе с сотрудниками ведомства генерала Бреева «Три кашалота» выполнить дневной план по розыску драгоценностей для пополнения кладовой страны и поиск аргументации против навязанной Западом повестки саммита в Санкт-Петербурге о «факте утери Россией ее влияния на Балтике и в мировых событиях».
«Если мы сами стремились к слиянию с Западом, но тогда какое мы имеем право рассчитывать, что в его глазах мы навсегда не останемся теми, кого он, благодетель, научил, воспитал, одел, накормил, образовал, – говорил себе Страдов. – Разве и Россия, идя на восток и прибирая к Москве все новые и новые земли, не рассчитывала на такое же признание своих заслуг, своей правоты со стороны хотя бы и принявших ее культуру, но покоренных народов? Да, но это делалось не с целью ограбить, унизить и растоптать, даже если какие-то народы долго сопротивлялись. Они не уничтожались, как были уничтожены и стерты с лица земли миллионы индейцев и племена великих цивилизаций. Но что же изначально позволяло народам России, в конце концов, не только принять ее культуру, но и желать ее развития? Это, конечно, то, – рассуждал Страдов, – что Россия все время была уязвимой и порой, словно бы, беззащитной. И выжить она могла только в братстве и дружбе со всеми своими бесчисленными племенами, образующими могучую Российскую державу. Императрица Елизавета любила принимать у себя представителей сотен народов, населяющих государство от западноевропейских границ до границ с Америкой. И ни один дерзкий подданный не был казнен по ее приказу – она вообще отменила смертную казнь, как была отменена казнь и в настоящее время. Но были «повинны смерти» все те, еще до Петра, при Петре и после Елизаветы, кто дерзнул нарушить покой государства. И даже цвет русской души – христиане. А почему?..» – «Потому что решили строить свой путь по примеру «пути европейского», – отозвался Дух Яви. – Я помню, как царь Алексей Михайлович, душой принявший «западный политес» и даже открывший светский театр, согласился с патриархом Никоном заставить переписать церковные книги, чтобы они совпали с греческим текстом, и креститься по-гречески, троеперстно. Тем самым, был задет русский код, и новый наследник престола Петр не пожалел сил, чтобы довести начатый отцом труд до конца: стал яростно прорубать окно в Европу!.. Я видел, как Сталин, покоривший Европу и принявший в империю с десяток ее народов, глядя на маску Петра в Монплезире, покачав головой, сказал: «Петруша, ты не дорубил!»
«Что-то заврался ты, брат! И то ты видел, и это!..» – Но Страдову не стоило забывать, что Дух мог сидеть и в его голове. И, разумеется, Дух не сдержался: «Я не просто видел, я чувствовал, понимал, давал свой анализ… А как же!» – «И что же ты вывел из того эпизода?» – «А то, что русскому – жизнь, то немцу – безусловная смерть… Я даже помню, кто первый произнес эту фразу. Если хочешь, скажу!» – «Ладно, согласен!» – «Это был Корень Молоканов, глава духоборской секты, враг протоинквизитора Широкого, его племянника Бецкого, который желал заполучить на утеху дочь Молоканова, но помешал Протасов Иван и потом, кажется, взял ее в жены…» – «Ему кажется! Ты уверен?» – спросил Страдов. «Ты о чем?» – «Что русский и немец не совместимы!» – «У меня есть на этот счет свои правила. Но если ты хотя бы держал в руках книжку «За все хорошее смерть», ты должен знать, что русский код – смерть в грешном, а потому временном миру, там, где мертвые погребают своих мертвецов. В этом у них гарантия обретения царства небесного, мира безгрешного. Помню, как сказал Иисус: «Бросайте все и ступайте за мной!..» – «Были же времена!.. А в чем код западноевропейца?»
Дух не ответил, видно, не желая сеять розни между людьми. Он мудро предоставил Страдову возможность ответить на вопрос самому. Страдов вспомнил, как в рассказе Ибрагимбекова попавшие в ловушку без пищи люди избежали мучительной смерти лишь потому, что, увидев нетронутые банки немецкой тушенки, догадались: они отравлены. Нацисты за все, что давали, сеяли смерть. Их сущность искала гарантии жизни в смерти других, не принимая философии православных – умереть в миру ради жизни вечной.
– Гарантия жизни – смерть? – Страдов хмыкнул… Его потянуло вернуться к старинной рукописи о жизнедеятельности первого великого золотодобытчика России Ивана Протасова, которую он должен был изучать, чтобы отыскать в ней какие-либо следу, ведущие к драгоценным кладам.
«…В лихорадке смелых и уже оправдываемых надежд, – читал он текст неизвестного автора, – оказавшись в Санкт-Петербурге и ощутив внезапную потребность побыть в уединении со своими мыслями, Иван выбрал одно из деревьев большого парка и, свернув с аллеи, сел под это незнакомое дерево с раскидистыми нижними ветвями, почти касавшимися его. Он понимал, что ему, приехавшему из Великого Новгорода и начинавшему карьеру в Санкт-Петербурге, к столичной жизни еще надо привыкнуть. И при этом держаться одной, раз и навсегда выбранной стороны…
II
Вполне согласуясь с его мыслями, рядом послышалось приглушенное:
– Эх, знать бы, где тот краеугольный камень, Ефим?..
Другой голос был наяву и категоричен:
– Он, слыхивал я, тоже живой. В каменном идоле он. На какую сторону ни поверни, всюду появится другой мир! Верь, Клим!
– Вот, вот, патриарх Никон, видать, тем камнем воспользовался? Теперь живем, как в замирье. Не так крестимся!..
– Не «видать», а так оно и есть! Если найти его могилу, того идола, так можно на церковь обратно повлиять! Верь!
– Так известна ж она, могила-то! Почто еще-то искать?
– Так ты, Клим, что, совсем неслухом жил? Нет Никона там!
– Кто смотрел?
– Умные люди говорят. И наставник наш, Корень Молоканов, не отрицает. Нет там его праха. Ты верь!
– Значит, есть на свете справедливость! Наказан «реформатор» господом. Нечего было в церкви устои менять, с двоеперстия к трехперстию переходить. Ну, что за крещение – щепотью?! Ну, ничего, у нас и свой отдельный такой каменный идол сыщется! Поискать бы надо, а?
– А уже не надо, – заговорщически произнес товарищ.
– Сыскан? Ай!…
– У нас же, в Замаранихе, тут, у Молоканова в избе!
– Ах!..
– Тс-с!
– Ага, когда я меру теряю, правильно, – останавливай.
– Ладно, раз такой покладистый, скажу еще вот что. Петр каменного всесильного истукана нашел. И для него начал строить сразу три кургана, не только у нас, но также в Воронеже и Царицын-граде. Где поставит истукана, тот все, где на Руси что с ног на голову поставлено, опять зеркально перевернет. Вот!
– Тогда и я скажу, что ведаю. В Екатеринбурге-то, что отстроен в честь полюбовницы его, царицы, многие тоже есть недовольные. Немка она, незаконная. А сам, де, он – антихрист. Мало, что строил город, так еще прозвал именем в ее честь! И скрываются там подземные штольни с зерцалами, а в них-то и видать: вслед за первой Екатериной, женой царя, будет у нас и вторая, тоже наполовину немка. Только к началу нового века появится царь мужеского рода!
– Кто зерцала эти видал?
– Люди! Верь им! Отец государя, царь Алексей Михайлович в Великое Зерцало верил, в Коломенском по нем книжку читал, и ты верь.
– Всем верить нельзя…
– И царю?..
– И царю!
«Вот он, вот он, старообрядческий раскольничий дух, – рассудил Иван, осторожно выглядывая из-за ствола дерева. Деревьев здесь было много и, казалось, за каждым, как в лесной чаще, затаились недовольные властью старообрядцы. – Но разве же затаились, – спросил он себя, – коли позволяют себе такие речи вслух! Ничего не боятся, и на костры скопом идут! И, как рассказывал отец, вождей раскола, чтобы умилостивить их, императорские вельможи звали на спорные беседы в Синод и в другие собрания. А старцы и там продолжали перечить, даже императору, не говоря уже об Екатерине, которую в России мало кто жалует…»
Иван воочию убеждался, что император Петр, его политика, то, что творилось в обеих, или даже трех столицах, принимая во внимание новый град на Каменном поясе, Екатеринбург, были на устах у всей России, – от больших до малых, самых простых людей.
Он вдруг ощутил доселе ему неизвестное, властно овладевавшее струнами его честолюбивой души чувство, связанное с потребностью использовать для своих целей эту всеобщую могучую силу, так или иначе противостоящую власти.
«А может, стать ее предводителем?!..
Но пока ты лишь простой слуга Господень, купец и лавочник. Так и ступай себе в свою лавку! Время решать такие многотягостные задачи – еще впереди!..» – прошептал он про себя, уже мысленно ускоряя шаг.
Как только раскольники исчезли, он поднялся, отряхнулся и вновь пошел по аллее, ведущей путь к центру города.
Перед ним, за небольшим изгибом аллеи предстал гигантским выпуклым каменным кастетом форпост Петропавловской крепости; у ее подножия заиграли отраженные в зеркале могучей, всегда беспокойной Невы, лучи вышедшего из-за облаков солнца.
Это был город его мечты!
Город был постоянно на слуху у всех новгородцев, всей России.
О нем непрестанно говорили и в Европе, распространяя сведения все дальше по всему миру!..
Это был город, строившийся по единому сакральному плану, разработанному древними славянами еще в гиперборейские времена и использованному, как утверждали свидетели, в Китеж-граде. Туда многие перенеслись от реформ Никона и из Санкт-Петербурга, и самой Москвы.
Затем их идеи распространились по Востоку, потом и по западным участкам Евразийского континента.
Теперь эта планировка древней столицы мира была почти в точном своем повторении перенесена сюда, в устье Невы, на территорию, где весь ландшафт, включая и Финский залив, и Неву, и ее притоки, и болота, и холмы, и весь рисунок возрожденного города, была искусственно воссоздана по подобию урбанизированного ландшафта двух древних столиц Гипербореи – Святой Миреи и Святой Масквы.
Не только для дворянских, но также и купеческих семей, для каждого, кто ощутил в нем дух древнерусской старины, этот город очень быстро становился близким, родным и все более заманчивым.
В то же время скопившаяся в нем, на его ремесленных окраинах и далее вокруг него, и в расчищаемых от вековых деревьев лесных уймах, огромная масса простого народа порождала в себе и самые жуткие настроения протеста.
Как и каждый протест, он имел исток огромной народной жертвы: отданных на заклание царским промыслам крестьян ради возрождения однажды утерянного мирового могущества славян, руссов, гиперборейцев, руссов-ариев…
Пока мозг Страдова в сновидении делал свои умозаключения, опираясь на интуицию, машина отправляла все новые и новые данные, которые могли бы свидетельствовать о фактах владения этими землями русскими. Славяне множили свои племена и народы, распространяясь векторами из Гипербореи, а скандинавы из Атлантиды. Древние русы мирно использовали все земные просторы и морские берега с их твердью подводных шельфов. А с западных границ шел захват американских земель, грабеж пиратскими кораблями всех, кто мирно шел осваивать новые континенты, чтобы множить торговлю. Были среди них купцы из Новгорода и из беспокойного Русневья: с окном в Китеж-град Присибирья, ставшего фундаментом Санкт-Петербургу, как некогда столетний град этрусков, выходцев из Китеж-града – для нового Рима… Долго, долго еще славянам Руси искать Единого Бога, долго искать пути правильно славить Его…
Протест в ту пору и в данном городе то множился, то утихал под знаменем раскольничества, не принимавшего пути новых церковных реформ никонианства.
Да, с раскольниками работали, с ними вели переговоры, с ними вступали в дискуссии, но однажды взялись за них всерьез, вплоть до расправы над ними. Вот этим-то заносчиво и даже хвастливо, будто за это обещана награда, кичился племянник грозы раскольников, помощника протоинквизитора северной столицы поручик Бецкий.
И судя по его гневу на староверов и его ненависти к ним, они все же были сильнее его своим древним русским духом. Иван вспомнил, с каким плохо скрытым чувством зависти и восхищения отзывался о них даже его отец, хотя во всем поддерживал не их, а царские начинания.
«Не вольные они, а слишком своевольные!» – говорил он о русских православных людях, кто на самом деле крестился не тремя, а по-старому, двумя перстами и в том оставался упорным десятилетия после реформ патриарха Никона.
«Видал я и разбойную силу, настоящих морских пиратов, – как-то поведал отец, будто завещая Ивану крепко помнить. – А наши из раскола – упрямцы еще упрямее, и никаким царским увещеваниям и его силе не вменяются!..
Но заслон в Петербурге и в Москве им все же был поставлен. Видно, кончилось ангельское царское терпение!..
И попомни, сын: тот настоящий царь на Руси, кто сумел подчинить себе это великое настырство непокорных!»
Но, едва ступив на землю никогда не прекращавшейся битвы этих двух духовных соперничающих сил, Иван, мечтавший о дворянской шпаге, был уверен, что и ради нее не вступил бы в разбойничий отряд; с одним таким под предводительством поручика Бецкого он уже успел познакомиться.
И теперь впервые, как прозрев, он ощутил, что русский народ разделен: на тех, кто у власти, и тех, кто ей противостоит и копит в себе недовольство, ненависть и силу… «Да, долго, долго еще славянам Руси искать Единого Бога, долго искать пути правильно славить Его…»
III
Веки Страдова дрогнули, мозг на мгновение погрузился во тьму. Затем яркой вспышкой возник целый ряд цифр, пока не было продиктовано: 7, 3, 2, 3, 7, 2, 2, 6…
– Отключите! – услыхал Страдов сквозь пелену пробуждения. Но в мозгу четко отпечаталось, и это не успела схватить подсистема «Аватар», – 7323…7226…
Связав все данные, главный компьютерный мозг ведомства «Сапфир» не нашел ничего оригинальнее, чем попытаться составить из этих чисел координаты различных горных доминант в Миасской долине, в ста километрах от столицы Южного Урала Челябинска, и связать с данными разведок горных разработок, маркшейдерских сбоек идущих друг к другу с разных сторон штреков шахт, когда точные измерения позволяли проходческим бригадам соединять тоннели на глубоких горизонтах вскрытия золотоносных руд с погрешностями до нескольких сантиметров. Это на самом деле пригодилось. Обнаружилось несколько заиленных шахт, о которых не имелось ни страницы документации. Тут же по распоряжению генерала Бреева был создан новый отдел, чтобы продолжить поиски таковых. Страдову пришла благодарность в виде смайлика с сердечком, и оно учащенно колотилось. Это не могло быть посланием ни от генерала, ни от полковника. Вержбицкая, казалось, тоже не шелохнулась, даже не глядела на него и не предлагала кофе.
Пришла новая сводка, о том, что произошла разборка приближенных сподручных миллиардера Сулуанова. Несколько человек были убиты, шестеро ранены, из которых троих поместили в больницу. Жена Сулуанова устроила усопшим пышную панихиду в одном из богатых московских храмов, из чего стало ясно, что усопшие при дележе каких-то прав либо имущества были на ее стороне. В то же время она подозрительно сердобольно поехала в больницу навестить тяжелораненого, едва пришедшего в сознание. Шли слухи, и возникла версия, что – любовника. Бывшая под подозрением изначально, она стала срочно переправлять в один из офшорных банков Скандинавии все имевшиеся в ее распоряжении средства, до двухсот сорока миллионов долларов. Окончание срока задержания у себя детей, который установили похитители для миллиардера, исчислялся считанными часами. Исходя из этого весьма правдоподобными выглядели ее старания переправить миллионы за рубеж: часть из которых могла быть и платой похитителям детей Сулуанова.
Такая щедрость от супруги, накануне поругавшейся с Сулуановым, и, как выяснилось, не жаловавшей его отпрысков – ни мальчишку, ни девушку, сразу вызвала огромное подозрение. И потом, без согласия мужа она не пошла бы на это, если бы хоть немного надеялась, что он жив. Значит, знала, что он уже мертв. Но что стало с детьми? В этих условиях Хирита Одоярцева, бывшая неофициальная жена и мать двоих похищенных детей Сулуанова, срочно подала иск в суд, убедила полицию заморозить вклады законной супруги, дабы не оставить без наследства чад миллиардера. На все это ушло не более дня, и Страдов заподозрил, что не обошлось без помощи генерала Бреева.
Вечерело. Халтурину сообщили, что в доме миллиардера началась паника. Прислуга, получая расчет, бежала вон. Части прислуги не досчитались, в то время как в доме пропал целый ряд ценных вещей. Наконец, видя, что хозяйка особняка не зовет полицию, все телохранители, охранники, водители, технический персонал дома и всех офисов в разных городах, стали грабить недвижимое и движимое имущество. Погибло еще несколько человек. Вместе с тем, пришло сообщение, что покинули свой приход несколько клириков церкви на бывшем Муравском шляхе белгородской епархии. Выехавшая туда опергруппа засняла входящих в церковь верующих, и вскоре на экранах мониторов аналитиков, ведущих дело Одоярцевой, возникло лицо Хириты. Электронный мозг здесь жирно связал Муравский шлях и девичью фамилию Одоярцевой – Муравлева.
«Несомненно, затем исправившую свою фамилию на Муравскую, – тут же подумал Страдов.
Как раз в это время на саммите представители скандинавских стран предъявили претензию, что земли, на которых проживает население с фамилиями, оканчивающимися на «ко», «чук» и «ский», должны пересматриваться в пользу народов, имеющих право не считать Москву столицей своей малой родины.
Срочно были подключены местные органы и обошли все дома жителей, где могли проживать Муравлевы. На всякий случай посчитали всех Муравлиных, Муравленко и Муравлевчуков, их оказалось в одном селе 73 человека, в соседней деревне 23 человека. Потом пришли уточненные данные, показавшие почему-то уже 72 и 26 человек.
Страдов тут же отослал версию об ошибке. Видно, машина внесла эту поправку, исходя из ранее указанных им в отчетах двух датах по старому летоисчислению.
В ответ на эту версию машина сразу же, словно не согласная с аналитиком, представила на экранах всех операторов точно такие же часы, которые показывал генерал Бреев полковнику Халтурину – с летоисчислением до конца света с учетом мировых разногласий. И стрелка указала, что во время победы Петра над шведами в Полтавской битве до конца света оставалось сто дней, что означало – две тысячи лет, а во время победы над Наполеоном – пятьдесят, что означало возможность жизни еще одну тысячу лет, а в год победы над фашистской Германией – двадцать пять дней, что гарантировало человечеству пятьсот лет жизни. Но сейчас, когда на саммите Запад ставил России неприемлемые условия мира, часы показывали, что осталось жить ровно 24 часа. И из них уже ушло больше половины.
В то же время пришла и радостная весть: система выдала документ Петра I на владение Лефортом московского дворца, в котором значилось: «Сердечному другу подарок любезный сей дабы прожить в нем фамилии Лефортовых 24 часа для здравия оной до конца исчисления мира в триста лет по зеркалам его цеха кукольных фигур, дабы забавляли потомство до иного завещания по промыслу Божию и указаниям зерцал тайного советника Флоренского на имя фабриканта Ивана Иваныча Блюгера».
В арендованный Блюгером дом, бывший некогда флигелем дворца, были посланы сыщики. Страдов с удивлением узнал, что к работе удалось подключить дочь Одоярцевой Марию Костюмерову. Он тут же хорошо представил всю ее несколько угловатую, как у первокурсницы, впервые вставшей за треножник с топографическим зеркальным приборам, далеко не идеальную фигуру.
«Не идеальную? Это еще с какой стороны посмотреть!» – сделал вдруг замечание на время было присмиревший Дух Яви. Может, ему стало стыдно за то, что он натворил между Петропавловской крепостью и Зимним дворцом, захватив и Зимний сад, распугав мраморных персонифицированных героев и героинь.
«Ни с какой стороны на сваленные в кучу произведения искусства теперь не посмотреть. Навсегда испорчены мировые шедевры!» – забыв об уроках, принялся вновь урезонивать незримого друга Страдов, уходя и от темы о Марии, и от собранных в пачку фотографий ее эротических утех с Бецким.
«Это все оригиналы, Андрей, не беспокойся. Копий не существует!»
«Все равно это – чистый разбой!.. Ладно, не путай меня! Я уже исторический фигурант Иван! И мне вновь в «Аватар». Кажется, золотые горы… уже не за горами…» Он вновь погрузился в сновидение-явь. Интуиция тут же вышла на первый план, машинный анализ данных последовал за ней, хватая каждую искру проступающих в ярком сне новых следов к сокровищам.
IV
«…Не просыхая от своей бесчестной грязной работы, под защитой влиятельных родственников, во власти безнаказанности молодые и дерзкие, охочие до разных потех, кутья и утех «опричники», творили свое дело, как бы по узаконению «сыска беглых». И образчиком таковых мне недавно явился поручик, – не забывал Иван встречи с вооруженным отрядом, готовым, как и опричники во времена Ивана Грозного, схватить любого, в ком заподозрили старообрядца веры, крестящегося двуперстно.
«Дядюшки Широковы», подобно самому протоинквизитору, такую молодежь поощряют, не брезгуя передать всю черновую работу и родным «племянничкам Бецким», дабы не растрачивать своего личного драгоценного времени, необходимого для праздного препровождения в новых гостиных блистательных дворян и сказочно убранных залах разрастающихся дворцов представителей императорского дома.
Да, их молодая смена не мешкает, но, достойная «дядюшек», спешит поскорее управиться с делами днем, чтобы к вечеру самой весело развлечься.
Еще часу не прошло с тех пор, как Иван впервые оказался в Санкт-Петербурге, но под тяжестью воспоминания о встрече с вооруженными людьми, рыскающими, чтобы найти жертву и лишний раз поразвлечься, новый город для него вдруг помрачнел. Оба они, Иван и город, некоторое время смотрели друг на друга, слегка насупившись.
Но что это?.. Слышится чье-то веселье!
Большая компания, парни и девушки, видно, из небогатого сословия, но все опрятно одетые, с гармоникой, песней показалась вдали, приблизились, прошли мимо. Затем, с другой стороны, от изрезанного широкими лесными дорожками парка донеслось сладостное, возбуждающее эхо звуков духовых труб, скрипок, балалаек, бубнов, трещоток.
Откуда вдруг здесь все это?!
Где-то неподалеку явно и танцевальная площадка, о которой упомянул Бецкий, когда позвал его, Ивана, зайти выпить в кабак, чтобы затем развлечься на танцевальных ассамблеях и плясках с купеческими девками.
Да этих площадок здесь будто бы несколько кряду!.. Эхо от музыки и веселья раздавалось, казалось, с разных сторон. Иван пошел на веселье. Народ радовался и потешался, словно в насмешку над горестями тех, кто не видел в мире, крестящемся тремя пальцами, а не двумя, по-старому, никакого счастья.
Все это веселье звучало и как насмешка над горестями каждого томящегося в нищете или в тюрьме, переносящего муки в пыточной камере, но и как благодарность молодости и бесконечным мечтам в пику всем человеческим страданиям, которым все равно было не исчезнуть с лица земли.
В этом районе, вероятно, как и во всем городе, было вдосталь всего – и доброго, и сурового, и злого; и такого нудного и беспросветного, что эту «вдосталь» теперь и посылали ко всем чертям гулящие компании в дни увеселительных праздников.
Это был район Замаранихи, купеческая окраина, ставшая со времени провозглашения Санкт-Петербурга новой столицей и после расчистки от следов застройки нового города уже достаточно опрятной. Тут и там виднелись лавки, питейные заведения; они манили к себе ищущую приключений новую дворянскую молодежь, еще не отвыкшую от привычки приударить за красавицей-девкой.
Также по привычке молодые дворяне не чурались купеческих и ремесленнических красавиц-дочерей, молодых вдов безвременно почивших мужей, коих тоже хватало во все времена. Но чем веселее и краше становилось в купеческих районах, тем все большее влияние оказывали на их уклад те, кто имел власть и умело пользовался ее преимуществом.
Вот таким и предстал перед глазами Ивана район Замаранихи, где, как он знал, стояли цеха секретных царских литейных и кузнечных лабораторий и куда он мечтал попасть с детства. Лишь кое-где еще были видны следы бараков рабочих и даже сырых землянок, но от них уже расчищались площадки, отданные на откуп предприимчивым петербуржцам для застройки их деловыми и жилыми кварталами.
Иван, наконец, увидел за деревьями высокий кирпичный забор; за ним, на фоне прояснившегося неба с плавно текущей по нему замысловатой рекой облаков, показались кирпичные трубы, которые дымили, и дым их, казалось, готов был соперничать с небом, образуя свой длинный, уносимый все дальше, параллельно облакам, желто-коричневый шлейф.
Там явно был завод, и там плавили металл.
Иван достаточно долго провел в мастерской кузнеца, познавая науки и способы обращения с различными металлами, чтобы тут же не унюхать характерные, ни на что не похожие запахи плавок.
Для его обучения отец нанимал специальных людей, кузнецов, литейщиков, будто готовил сына для изобретения какой-либо невиданной скорострельной царь-пушки.
Вдыхая в себя воздух, словно принюхиваясь к заводу, Иван по запаху дыма, чудилось ему, угадывал даже состав смешанных лигатур. В этот момент он точно осознал: ему суждено проживать в Замаранихе. Несомненно, волею судьбы он послан сюда, чтобы впоследствии усвоить новые уроки, но уже в царских лабораториях, находящихся за стеной этого забора.
Да, это было его мечтой! Отец, старый Пров, рассказывал об этих лабораториях и о многих чудесах, которые творились в них!
Отец привозил для лабораторий царя из дальних странствий, точно Афанасий Никитин, побывавший в Индии, образцы чудесных металлов и сплавов, бесценные книги и дорогие зеркала. Литейщики царя делали с добавками неведомых сплавов образцы самых крепких пушек… «И, окромя пушек, также вдосталь всякого, что недоступно знать обычным людям, – говорил загадочно отец. – Придет срок – прознаешь. Царь мне за тебя обещался!..»
Большего счастья Иван пока не желал, поверив, что однажды судьба обязательно устроит ему встречу и с императором!..
«Только об одном никому не открывайся до срока, пока не поведает тебе мой прежний друг, ставший главой раскольников Корень Молоканов, о чудесных металлических зеркальных пластинках, которые ты найдешь в сундуке в подвале дома, завещанного мною тебе, в Петербурге, а перепрячешь оные во дворце бывшего любезного царского друга Франца Лефорта…»
– Итак!.. – размышлял полковник Халтурин, получив информацию, – если принять это за правду, а не домысел мозга Страдова, то что дают нам эти новые знания? Что где-то в подвалах можно найти металлические нержавеющие пластины, способные удивить хранителей политехнического музея?.. – Поразмыслив таким образом, он вновь вернул оператора в явь.
– Ступай-ка за стол, почитай лучше, что там нового в рукописи о Протасове! – махнув рукой, сказал он.
V
В то же время пришло долгожданное сообщение. В подвале флигеля у Лефортовского дворца, где нашли труп фабриканта производства игрушек Ивана Ивановича Блюгера, проявились различные детали. Он был застрелен, судя по всему, из дамского пистолета. В подвале обнаружили большого размера пустой сундук, рядом перстенек с сапфиром. Весь пыльный пол был испещрен следами Блюгера, следами от женской обуви, вероятно его дочери, и следами его сына.
Вслед за первой сводкой пришла с места преступления и вторая. В ней добавились сведения, что первая опергруппа зачем-то начертила в стороне от трупа и сама же затоптала большой круг, в котором не было никаких следов крови, тогда как анализ указал на пролитую здесь кровь как Блюгера, так и… миллиардера Сулуанова. Но ни Сулуанова, которого то ли убитого, то ли истекающего кровью увезли вместе с детьми, ни самих детей никто больше не видел.
Сокровища вывезли. И, судя по всему, – рассуждали следователи, – подручные жены Сулуанова…
Спустя десять минут Страдов читал в переведенной на современный язык рукописи новые сведения о жизни металлурга Ивана Протасова со все нарастающим удивлением.
Необходимость знакомства с любым новым документом вызывалась тем, что компьютерная система указывала на Протасова, как на первого золотопромышленника. До его зрелого возраста было еще далеко, но план по сдаче драгметалла позарез требовался уже к концу дня. Как бы ни хотелось заняться работой по поиску исчезнувших детей, которые могли быть убиты, как только все часовые стрелки сойдутся на двенадцати ночи, Страдов понимал, что к этому делу и без него подключены десятки людей.
…Да, Протасов представал пока совсем юным, всего лишь мечтающим работать в литейных лабораториях Петра. Пока еще, казалось, он даже не помышлял ни о каком золоте, которое роют в горах. А до официального золота России, времен расцвета власти Екатерины Великой, было еще очень далеко!
Однако изложенные в рукописи события начинали захватывать Страдова, вне зависимости от того, касались они драгоценных рудников, каких-либо кладов или нет. Так же постепенно, все более и более поглощала его внимание простая очаровательная молодая женщина – начальник отдела Антонида Вержбицкая, какой бы след восторга и разочарований ни оставили в нем прошедшие через его душу другие красавицы. Показалось, что уж слишком напомаженная и надушенная, она опять без единого слова влила в его кружку кофе, как траву приворота, но, правда, все еще из его же термоса, и это успокаивало. Странно, но он уже в который раз принял ее внимание, как должное. В него вновь вселялась уверенность, что мир принадлежит ему. И для этого нужно было лишь присутствие совсем рядом принадлежащей тебе без остатка молодой красивой женщины. Однако Антонида могла играть с ним так же, как уже казалось, вела по лабиринту к неведомому, все более зажигая страстью к несметным богатствам и беспредельной власти, судьба Ивана Протасова. Такого же в ту пору совсем молодого и преисполненного жажды любви. Законы отражения важнейших событий безупречны повсюду, когда заканчиваются безупречным успехом. Но и привычка стремиться к успеху может повлиять на многое. Таким наяву служит пример генерала Бреева… Так подумалось Страдову, вдруг ощутившему потребность побывать в старом Санкт-Петербурге на танцах в купеческом районе Замаранихи. Подсознание просигналило, что эту потребность вызвала внезапно проявившаяся забота о его желудке и состоянии его сердца со стороны Антониды Вержбицкой. Не спрашивая разрешения у Халтурина, напряжением воли он постарался проникнуть в одну из ячеек ноосферы, непрерывно взаимодействующей со всеми мозгами, имеющими интуицию. Рядом стоявшая женщина мгновенно испарилась даже из подсознания. Нет, она заменилась другой, доступной, как могут быть доступны все женщины снов. Но он, оглянувшись, не увидел того, что, может, искал.
Компьютер издал легкий треск, экран мигнул. И все это было преисполнено величия, спокойствия и надежности. Машина обслуживала многие десятки людей, каждого снабжая гигантским потоком информации; ее стоило только правильно отсортировать. Каждый из операторов при этом привычно рассчитывал как на «подарки» машины, так и врожденный дар собственной интуиции, хотя все вместе являлось чудом, которое до конца объяснить не имелось возможности. Да и не хотелось ее, потому что каждый понимал важность домысла, когда он был нужен, чтобы очертить истину; и это, казалось, осознали и железные мозги системы, все увереннее позволяющие себе и подавать, и интерпретировать как единое близкие схожие понятия, образы и темы. Но всегда, как минимум, требовалось простое внимание.
Это неизвестное «чудо» сейчас представило, а несколько ленное внимание выхватило старинную книгу, прочтенную отцом Петра, царем Алексеем Михайловичем, «Великое зерцало» в переводе неизвестного русского автора.
«О славе небесной и радости праведных вечной… – побежали лучи из глаз по строчкам и обратно, от старорусского текста, а мозг преобразовывал их в образы современного сознания с допуском неточностей, когда термины, смыслы и понятия не являлись неоспоримыми доминантами анализа. – Некий совершенный в добродетелях инок вниде в размышление, хотя ведати о славе небесной, и како тысяща лет перед господем яко день един. И о сем уму непрестанно пекущуся и молящуся усердно. И некогда стоящу ему в церкви о сем размышлящу, видит: и се влете малый и зело прекрасный птищ и таковы благолепный, иже и поятию человеческого разума непостижный – птищ сверкающу, переливающу и зависающу яко жаворонок, блестящи добычу в клюве несущу, сквозь други идолы пронзающу и в лучи пронзити свистящу преобразующу.
Инок же зело птищу удивися и желанием уязвися, хотя рассмотрити красоты его, и приде близ того, птищ же отлете в луче до други идолу. И той шествуя по нем, и птищ излете на праг церковный, и старец приближися к нему, и птищ излете из церкви на Каний носе к идолу и старец изыде. И показася ему, яко бы исшедши точию вне понастыря, и бе ту прекрасных цветов поле и древе удное. И птищ возлете на древо в то Кание носе, нача чудно и сладкопеснено пети гипербореску, яко в забытие приити иноку: не ведый колико стоя, токмо радуся и веселящася птища красоте и песней по старче и мати крае и оному чудному и цветовидному полю руску, мняше точию, яко между святыя литургии и трапезнаго вкушения медлению бытии…»
Что значит «медлению бытии»? Духовная забота о конце света или о продлении прекрасных мгновений жизни, пока она дана на родине предков, как, должно быть, пелось в этой, можно сказать, нотной грамоте?
Далее повествовалось, – и здесь внимание уступило место анализу, – что инок, сам того не замечая, прослушал чудесного пения 300 лет, и когда вернулся в монастырь, то его не могли признать, и монахи удивлялись его воспоминаниям трехсотлетней давности. Только игумен сообразил, в чем дело. Анализ тут же потребовал новой пищи данных. «Игумен же прозорлив сый разуме, что ему бысть, удивися зело величию божию и возрадовася душею и рече: «Преблажен еси, господине отче, великия благодати удостоился еси от бога, еже видети славу и веселие праведных, иже триста лет за три часа не вмениша ися».
Система просигналила, что на саммите скандинавские оппоненты подняли вопрос о подлинных ценностях, не считая христианскую мораль правильной, тогда как новые правила должны изжить из народов веру в заблуждения всяких ложных мудрецов от древнего мира и до сей поры. И не слезы, проливаемые по вечным грешным, станут признаком добродетели, а занесенный сильным над слабыми меч, разящий и понимающих, и не способных понять по упрямству ума и душевному здоровью. Говорилось, что миру без сокращения численности земли, неполноценных племен, а также кастрации и утилизации больных и долгожителей, прожить остается три столетия. Никаких слез сожаления и умиления по слабым и немощным. Никакой лишней радости слабым, только добровольное признание прав более сильных устраивать жизнь на земле.
VI
Шведы подняли вопрос о запрете празднования радостных побед, в том числе, со слезами на глазах, и поставили условие забыть Александра Невского, бившего их на Чудском озере… Забыть Петра и его победу под Полтавой… Взамен они предлагали не рассматривать слишком больших северных границ России, как занятых спорно. Финны были готовы отказаться от национального эпоса Калевалы, если русские откажутся от своих эпосов и былин о народном герое Руси Илье Муромце.
Это было невероятным цинизмом. Ведь за этим могло стоять лишь одно: только перестань говорить о русских героях, тут же вдесятеро больше восславится чужих и врагов. И эти чужие герои станут теми, кто будет растлевать молодежь и делать легко доступным и извращающим то, ради чего прежде и бились былинные и не былинные герои эпосов и недавних побед, – настоящую любовь, справедливость, всеобщее счастье.
Страдов упрямо и с большей жадностью впитывал строки, казавшиеся пищей, возвышающей людей до духовных переживаний в заботе о ближних, о человечестве: «…И восприем его введе в монастырь и созва братию, повеле паки всяя яже о себе сказати. Сия братия слышавшее, в радости и умилении начата многи слезы проливати и тоя славы приложиша к трудом доступати. Старец же оный пребы точию три дни в монастыре и преставися в совершенную в вечную радость, иже уготова бог любящим его…»
В тот миг Страдову пришел на ум эпизод, случившийся на Соборной площади в его, внезапно ставшем близким Великом Новгороде. Ему было лет четырнадцать, когда он впервые почувствовал острое желание познакомиться с одной из легкодоступных девиц. Но, как нарочно, в тот же день ему пришлось хорошо усвоить уроки тех, кто у Софийского собора поплатился за непотребные и охальные мысли. Мистический покровитель, как верили здесь, Дух птицы в виде сизого голубя с пронзительно белыми крыльями, зависающего в небе и поблескивающего оттуда как шарик с зеркальными гранями, защищал честных девушек, и ни одна из них благодаря этому не была обесчещена. В каждую был вселен дух той птицы. Именно он, – свято уверовали новгородцы, – много лет назад словно по волшебству пресек и злоумышления Ивана Грозного, намеревавшегося устроить лютую расправу над вольными горожанами…
На этом месте подсознание Страдова вошло в резонанс с сознанием. Приходилось размышлять: до какой степени допускать защиту русских героев и государей, и до какой их обличать. Но если идет война, и обличают все русское. Разве не надо поумерить пыл русского самобичевания, чем, как вампиры, упиваются за рубежом русофобы?
Новое сообщение показало, что на саммите «партнерами» поднят вопрос о том, что русская душа и русская беспардонность по отношению друг к другу, навязывание добросердечности и заботы друг о друге портят имидж европейской расы. И если русские в глазах скандинавов все же пока еще полуевропейцы, то, если они не изменятся, могут стать лишь азиатами и даже ордой. Никаких межнациональных семейных связей, никакого панибратства! Только правила и следование их строгим параграфам. Что в мире стало происходить, пока никто до конца не понимал.
Пока в голове что-то перезагружалось, ему заботливо, в четвертый или шестой раз предложили:
– Андрюша, выпьешь кофейку?
– А нам? – Послышалось охульное, портившее праздник слов, смыслов, понятий, надежд и веры в справедливость.
Страдов словно очнулся. Он услышал голос Антониды, но увидел перед собой странную картину. Дукакис «сотоварищи» стояли рядом у его стола с пустыми стаканами в подстаканниках и обращались к Вержбицкой; она стояла совсем рядом с термосом и с его кружкой, протянутой ему.
Руки же двух коллег, скоморошьих сотоварищей по работе, тряслись, и слышалось дребезжание стаканов.
«Такое иногда случается в поезде, – подумалось Страдову, – но зачем мне сейчас это дежавю? Я занят! Видения прочь! И кофе я, между прочим, не просил!»
Но ни она, ни эти двое уже не отставали, выказывая показное нетерпение: безусловно, как это часто случалось, они нагло паясничали. Они ожидали от Вержбицкой вовсе не обещанного им и потому не гарантированного кофе, ибо термос принадлежал не ей, а ему, Страдову.
«Вам стало зазорно такое внимание ко мне! Представляю, как сейчас трясутся ваши подъяичники!» – вдруг мстительно подумал Страдов, глядя на их подстаканники с пустыми стаканами. И он не без гордыни, все же, взял с дымящимся кофе свою кружку, подаваемую руками Антониды.
– Угощайся, Андрюша, – еще более ласково сказала она, – я потом еще налью. Еще есть. Попей, отвлекись на минуточку.
– Ну, а нам?
– Проверю еще, что успели накопать по золоту! – жестко бросила она обоим.
Каждый из этих двоих, уже привыкших быть в глазах Вержбицкой одинаковыми, как однояйцевые братья, говорил о себе уже в двоичном исчислении; не «я», а «мы», «нам»…
А скандинавы не унимались. Поставили вопрос, чтобы русские научились не мыслить на посторонние темы, не вспоминать того, что не имеет отношения к их правилам игры. Нельзя пользоваться реками и озерами, побережьями и долинами, горами и природными ресурсами ни одному гражданину, не имеющему на это лицензию, пропуск, квитанцию об оплате, не говоря уже об охоте, ловле рыбы и собирании ягод и грибов. И ни в коем случае нельзя вести разговор с незнакомой женщиной, а флирт с коллегой по работе признать уголовно преследуемым преступлением.
Чушь! Бред! Скотство!.. К примеру, взять его с коллегой Антонидой!.. Вот пикник в лесу, грибной сезон. Девушка не раз слышит: «Антонида, ну, выбери, выбери, наконец, кто достойней из нас сопроводить тебя по грибы с лыковым туесочком! Ты проверь, проверь нас, Антонида, мы оба гарантируем аналогичный успех! Не то, что этот… этот недотепа Страдов!» «Ты знаешь, Антонида, а ведь Страдов в твое отсутствие брал твою гребенку!» И так далее. Ну и что? Сажать их за это в тюрьму, как решат в Скандинавии?
«Тьфу, недостойные! – сказал и, представив эту скоморошью сцену, мысленно сплюнул в адрес парочки Страдов. – Вам бы по клоунской шапке и по батогу! Нет на вас управы, нет на вас хорошего царя! Был бы я потомком Рюрика, я бы вам!.. – Как видно, Страдову уже было мало являться потомком одной лишь династии Романовых. – Стала бы Антонида моей!.. Это, во-первых! И отрезал бы вам еще по кое-чему!..»
Когда пришло сообщение, что русским партнерам не нужно вообще ни о чем постороннем даже помыслить, Страдов, произнеся последнюю приятную фразу, не осознавал, что руки на клавишах машинально открыли файл, и он воспринял возникший перед собой текст о рюриковиче как нечто само собой разумеющееся.
Он прочитал: «Поверив доносу бродяги, Грозный решил сурово наказать непокорный город Новгород. Сорвал золоченые алтарные врата собора и свез к себе в Александрову слободу. Зимой в Волхове топил в воде людей, семьями бросая их с деревянного моста. И от ужаса того пролетавший голубь сел на крест собора и окаменел…»
Что ж за автор такой взялся на мою бедную голову! – подумал Страдов. – Будь моя воля, я бы точно запретил охаивать свое начальство, ибо сказано… И чтобы покончить с этими вредными мыслями, неэффективно сжигающими состояние счастья, Страдов мысленно взял да и окунул с моста в Волхов, ухватив за чупруны, Дукакиса с Михалевым вместе взятых.
VII
Привычно сброшенная на глаза новая сводка касалась следующего. Бездыханное тело миллиардера Бэна Сулуанова нашли в урочище Муравлевском неподалеку от церкви Успения Пресвятой Богородицы. Взяв отпечатки с обуви, чтобы подтвердить версию о его убийстве в лефортовском подвале, обратили внимание на то, что на подошвах имелись следы кварцевой и известняковой крошки. Прежде, при первой проверке церкви с надписями на ее вратах зафиксировали тот же состав. Теперь же, проверив храм более тщательным образом, в безуспешно замаскированных помещениях нашли следы Сулуанова и его сына; но следов оказалось слишком много, что свидетельствовало: некоторые из них были оставлены здесь давно. Следы двух девушек, дочери Сулуанова и дочери Блюгера затерялись вовсе. Имелись также следы крови Сулуанова, и он проливал ее здесь, будучи все еще живым. Следовательно, его пытали и заставили указать на драгоценные схроны. Были обнаружены тайные ниши, в том числе с сейфами новейших систем. Один из сейфов пытались открыть даже в то время, когда опергруппа проникла в подземные своды; началась перестрелка; один преступник был тяжело ранен, а другой, оставляя кровавые следы, совершенный двойник первого, ушел в один из неведомых лабиринтов. На сейфе, который вскрывали болгаркой и автогеном, была искусно приварена стальная птица каня, держащая в клюве золотой самородок. Вскрытые сейфы были с изображениями голубей, нога каждого из них была окольцована, а на кольце читалась надпись: «Китеж-град».
Дежавю!..
Заинтересовавшись чудесным голубем, Страдов поискал другие сообщения о благих делах окаменевшей птицы в родном городе Ивана Протасова и наткнулся на следующее.
Во время покорения Эльбруса, с целью ликвидации фашистской группировки «Эдельвейс», пропали без вести двое молодых солдат. Оба были последними в роду мужчинами. Их матери пошли к собору и молились голубю, прося для себя милости, причем, в один день, не сговариваясь. И оба их сына вернулись живыми и невредимыми. Причем, также в один день.
Подобная история касалась и одного пропавшего без вести солдата афганской войны. Несколько раз на запросы матери, партийной в то время, приходил ответ, что ее сын погиб. Но она никак не могла тому поверить. И, когда уже не находила в себе сил раздуть трут хоть какой-то надежды, она, повязавшись платком, выйдя из дому, петляя между домов и озираясь в опасении, что ее узнают знакомые коммунисты, пошла к голубю. Ее сухая беззащитная фигура в черном пальтишке застыла посередине площади напротив собора. Вдруг кто-то увидел, как каменный голубь открыл клюв и уронил перо. Она тоже проследила полет пера, и когда оно упало у ее ног, несчастная мать подняла бумагу.
Там и была благая весть: сын жив и в ту же минуту будет на пороге дома. Она кинулась домой, его там не оказалось. «Как же так?! Не может быть!» Пустилась бегом на вокзал. И первый, кого она увидела на перроне, был ее, только что сошедший с поезда и стоящий с вещмешком в руке сын…
Подчиняясь безотчетному чувству дерзко пошалить, Страдов направил оперативников на сельский вокзал, дав примету: человек с вещмешком, в старой военной форме. И вскоре пришел ответ, что преступник взят.