Финансист бесплатное чтение
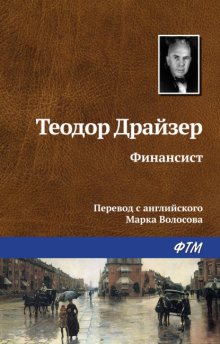
© Theodore Dreiser, 1940
© Перевод. М. Волосов. Наследники, 2009
Глава I
Филадельфия, где родился Фрэнк Алджернон Каупервуд, насчитывала тогда более двухсот пятидесяти тысяч жителей. Город этот изобиловал красивыми парками, величественными зданиями и памятниками старины. Многого из того, что знаем мы и что позднее узнал Фрэнк, тогда еще не существовало – телеграфа, телефона, доставки товаров на дом, городской почтовой сети и океанских пароходов. Не было даже почтовых марок и заказных писем. Еще не появилась конка. В черте города курсировали бесчисленные омнибусы, а для дальних путешествий служила медленно развивавшаяся сеть железных дорог, все еще тесно связанная с судоходными каналами.
Фрэнк родился в семье мелкого банковского служащего, но десять лет спустя, когда мальчик начал любознательно и зорко вглядываться в окружающий мир, умер председатель правления банка; все служащие соответственно повысились в должностях, и мистер Генри Уортингтон Каупервуд «унаследовал» место помощника кассира с блистательным, по его тогдашним понятиям, годовым окладом в три с половиной тысячи долларов. Он тотчас же радостно сообщил жене о своем решении перебраться из дома 21 по Батнвуд-стрит в дом 124 по Нью-Маркет-стрит: и район не такой захолустный, и дом – трехэтажный кирпичный особнячок – не шел ни в какое сравнение с нынешним жилищем Каупервудов. У них имелись все основания полагать, что со временем они переедут в еще более просторное помещение, но пока и это было неплохо. Мистер Каупервуд от души благодарил судьбу.
Генри Уортингтон Каупервуд верил лишь в то, что видел собственными глазами, и был вполне удовлетворен своим положением, – это открывало ему возможность стать банкиром в будущем. В ту пору он был представительным мужчиной – высокий, худощавый, подтянутый, с вдумчивым взглядом и холеными, коротко подстриженными бакенбардами, доходящими почти до мочек ушей. Верхняя губа, странно далеко отстоявшая от длинного и прямого носа, всегда была чисто выбрита, так же как и заостренный подбородок. Густые черные брови оттеняли зеленовато-серые глаза, а короткие прилизанные волосы разделялись аккуратным пробором. Он неизменно носил сюртук – в тогдашних финансовых кругах это считалось «хорошим тоном» – и цилиндр. Ногти держал в безукоризненной чистоте. Впечатление он производил несколько суровое, но суровость его была напускная.
Стремясь выдвинуться в обществе и в финансовом мире, мистер Каупервуд всегда тщательно взвешивал, с кем и о ком он говорит. Он в равной мере остерегался как высказывать резкие или непопулярные в его кругу мнения по социальным или политическим вопросам, так и общаться с людьми, пользовавшимися дурной репутацией. Впрочем, надо заметить, что он и не имел определенных политических убеждений. Он не являлся ни сторонником, ни противником рабовладения, хотя атмосфера тогда была насыщена борьбой между аболиционистами и сторонниками рабства. Каупервуд твердо верил, что на железных дорогах можно нажить большое богатство, был бы только достаточный капитал, да еще одна странная штука – личное обаяние, то есть способность внушать к себе доверие. По его убеждению, Эндрю Джэксон был совершенно не прав, выступая против Николаса Бидла[1] и Банка Соединенных Штатов, – эта проблема волновала тогда все умы. Он был крайне обеспокоен потоком «дутых денег», находившихся в обращении и то и дело попадавших в его банк, который, конечно, все же таковые учитывал и с выгодой для себя вновь пускал в оборот, выдавая их жаждущим ссуды клиентам. Третий филадельфийский национальный банк, в котором он служил, помещался в деловом квартале, в ту пору считавшемся цветом всего американского финансового мира; владельцы банка попутно занимались также игрой на бирже. «Банки штатов», крупные и мелкие, возникали тогда на каждом шагу; они бесконтрольно выпускали свои банковские билеты на базе ненадежных и никому не ведомых активов и с невероятной быстротой вылетали в трубу или же приостанавливали платежи. Осведомленность во всех этих делах была непременным условием деятельности мистера Каупервуда, отчего он и стал воплощенной осторожностью. К сожалению, ему не хватало двух качеств, необходимых для преуспеяния на любом поприще, – личного обаяния и дальновидности. Крупным финансистом он не мог бы сделаться, но ему все же предстояла неплохая карьера.
Миссис Каупервуд была женщина религиозная; маленькая, со светло-каштановыми волосами и ясными карими глазами, она в молодости казалась весьма привлекательной, но с годами стала несколько жеманной и вся ушла в житейские заботы. К своим материнским обязанностям по воспитанию троих сыновей и дочери она относилась очень серьезно. Мальчики, предводительствуемые старшим, Фрэнком, служили для нее источником постоянных тревог, ибо то и дело совершали вылазки в разные концы города, где, чего доброго, водились с дурной компанией, видели и слышали то, что в их возрасте не полагается ни видеть, ни слышать.
Фрэнк Каупервуд в десять лет вел себя как прирожденный вожак. И в начальной, и в средней школе все считали, что на его здравый смысл можно положиться при любых обстоятельствах. Характер у него был независимый, смелый и задорный. Политика и экономика привлекали его с детства. Книгами он не интересовался. С виду это был подтянутый, широкоплечий, ладно скроенный мальчик. Лицо открытое, глаза большие, ясные и серые; широкий лоб и темно-каштановые, остриженные бобриком волосы. Манеры порывистые и самоуверенные. Всех и каждого донимая вопросами, он настаивал на исчерпывающих, разумных ответах. Фрэнк не знал болезней или недомогания, отличался прекрасным аппетитом и полновластно командовал братьями: «Ну-ка, Джо!», «Живей, поворачивайся, Эд!» Его команда звучала не грубо, но авторитетно, и Джо с Эдом повиновались. Они с детства привыкли смотреть на старшего брата как на главаря, с чьими словами следует считаться.
Он постоянно размышлял, размышлял без устали. Все на свете равно поражало его, ибо он не находил ответа на главный вопрос: что это за штука жизнь и как она устроена? Откуда взялись на свете люди? Каково их назначение? Кто положил всему начало? Мать рассказала ему легенду об Адаме и Еве, но он в нее не поверил.
Каупервуды жили неподалеку от рыбного рынка; по дороге к отцу в банк или во время какой-нибудь вылазки с братьями после школьных уроков Фрэнк любил останавливаться перед витриной, в которой был выставлен аквариум; рыбаки с залива Делавэр нередко пополняли его всевозможными диковинками морских глубин. Однажды он видел там морского конька, крохотное животное, немного смахивающее на лошадку, в другой раз – электрического угря, чьи свойства объяснило знаменитое открытие Веньямина Франклина. В один прекрасный день в аквариум пустили омара и каракатицу, и Фрэнк стал очевидцем трагедии, которая запомнилась ему на всю жизнь и многое помогла уразуметь. Из разговора любопытствующих зевак он узнал, что омару не давали никакой пищи, так как его законной добычей считалась каракатица. Омар лежал на золотистом песчаном дне стеклянного садка и, казалось, ничего не видел; невозможно было определить, куда смотрят черные бусинки его глаз, но, надо думать, они не отрывались от каракатицы. Бескровная и восковидная, похожая на кусок сала, она передвигалась толчками, как торпеда, но беспощадные клешни врага каждый раз отрывали новые частицы от ее тела. Омар, словно выброшенный катапультой, кидался к тому месту, где, казалось, дремала каракатица, а та, стремительно отпрянув, укрывалась за чернильным облачком, которое оставляла за собой. Но и этот маневр не всегда был успешен. Кусочки ее тела и хвоста все чаще оставались в клешнях морского чудовища. Юный Каупервуд ежедневно прибегал сюда и, как зачарованный, следил за ходом трагедии.
Однажды утром он стоял перед витриной, чуть не прижавшись носом к стеклу. От каракатицы оставался уже только бесформенный клок; почти пуст был и ее чернильный мешочек. Омар притаился в углу аквариума, видимо изготовившись к боевым действиям.
Мальчик простаивал у окна почти все свободное время, завороженный этой жестокой схваткой. Теперь уже скоро, может быть, через час, а может быть – завтра, каракатицы не станет; омар ее прикончит и сожрет. Фрэнк перевел глаза на зеленую, с медным отливом разрушительную машину в углу аквариума. Интересно, скоро ли это случится? Пожалуй, еще сегодня. Вечером надо будет снова прибежать сюда.
Вечер настал, и что же? Ожидаемое свершилось. У витрины стояла кучка людей. Омар забился в угол, перед ним лежала перерезанная надвое, почти уже сожранная каракатица.
– Дорвался наконец! – произнес кто-то рядом с мальчиком. – Я тут давно стою: с час назад омар вдруг ринулся и схватил ее. Каракатица изнемогала, у нее больше не хватало проворства. Она метнулась было от него, но омар этого и ждал. Он уже давно предусмотрел малейшее движение своей жертвы и вот сегодня наконец ее прикончил.
Фрэнк смотрел широко раскрытыми глазами. Какая досада, что он упустил этот миг. На секунду в нем шевельнулась жалость к убитой каракатице. Затем он перевел взгляд на победителя.
«Так оно и должно было случиться, – мысленно произнес он. – Каракатице не хватало изворотливости. – Он попытался разобраться в случившемся. – Каракатица не могла убить омара – у нее для этого не было никакого оружия. Омар мог убить каракатицу – он прекрасно вооружен. Каракатице нечем было питаться, перед омаром была добыча – каракатица. К чему это должно было привести? Существовал ли другой исход? Нет, она была обречена», – заключил он, уже подходя к дому.
Этот случай произвел на Фрэнка неизгладимое впечатление. В общих чертах он давал ответ на загадку, долго мучившую его: как устроена жизнь? Вот так все живое и существует – одно за счет другого. Омары пожирают каракатиц и других тварей. Кто пожирает омаров? Разумеется, человек. Да, конечно, вот она разгадка! «Ну а кто пожирает человека? – тотчас же спросил он себя. – Неужели другие люди? Нет, дикие звери. Да еще индейцы и людоеды. Множество людей гибнет в море и от несчастных случаев». Он не был уверен в том, что и люди живут одни за счет других, но они убивают друг друга, это он знал. Взять хотя бы войны, уличные побоища, погромы. Погром Фрэнк видел однажды собственными глазами. Он возвращался из школы, тогда толпа напала на редакцию газеты «Паблик леджер». Отец объяснил ему, что послужило тому причиной. Страсти разгорелись из-за рабов. Да, да, конечно! Одни люди живут за счет других. Рабы – они ведь тоже люди. Из-за этого-то и царило в те времена такое возбуждение. Одни люди убивали других людей – чернокожих.
Фрэнк вернулся домой, весьма довольный сделанными им выводами.
– Мама! – крикнул он, едва переступив порог. – Наконец-то он ее прикончил!
– Кто? Кого? – в изумлении спросила мать. – Ступай-ка мыть руки!
– Да омар, про которого я вам с папой рассказывал. Прикончил каракатицу.
– Какая жалость! Но что тут интересного? Живее мой руки!
– Ого, такую штуку не часто приходится видеть! Я, например, видел это в первый раз.
Он вышел во двор, где была водопроводная колонка и рядом с нею врытый в землю столик, на котором стояли ведерко с водой и блестящий жестяной таз. Фрэнк вымыл лицо и руки.
– Папа, – обратился он к отцу после ужина, – помнишь, я тебе рассказывал про каракатицу?
– Помню.
– Ну, так вот – ее уже нет. Омар ее сожрал.
– Скажи на милость! – равнодушно отозвался отец, продолжая читать газету.
Но Фрэнк еще долгие месяцы размышлял над виденным, над жизнью, с которой он столкнулся, ибо его уже начинал занимать вопрос, кем он будет и как сложится его судьба? Наблюдая за отцом, считавшим деньги, он решил, что привлекательнее всего банковское дело. А Третья улица, где служил его отец, казалась ему самой красивой, самой замечательной улицей в мире.
Глава II
Детство Фрэнка Алджернона Каупервуда протекало среди семейного уюта и благополучия. Батнвуд-стрит, улица, где он проживал до десяти лет, пришлась бы по душе любому мальчику. В основном она была застроена двухэтажными особнячками из красного кирпича с низкими ступеньками из белого мрамора и такими же наличниками на дверях и окнах. Вдоль улицы были густо посажены деревья. Мостовая, выложенная крупным округлым булыжником, после дождя блестела чистотой, а от красных кирпичных тротуаров, всегда чуть-чуть сыроватых, веяло прохладой. Позади каждого домика имелся двор, поросший деревьями и травой. Кое-где даже были разбиты цветники, так как земельные участки здесь тянулись футов на сто в ширину, дома же были выдвинуты близко к мостовой, и за ними оставалось много свободного пространства.
Отец и мать Каупервуды, люди достаточно простодушные и отзывчивые, умели радоваться и веселиться вместе со своими детьми. Поэтому ко времени, когда отец решил перебраться в новый дом на Нью-Маркет-стрит, семья, в которой после рождения Фрэнка каждые два-три года прибавлялось по ребенку, пока детей не стало четверо, представляла собой оживленный маленький мирок. С тех пор как Генри Уортингтон Каупервуд стал занимать более ответственный пост, его связи непрерывно ширились, и он мало-помалу сделался видной персоной. Он свел знакомство со многими крупнейшими вкладчиками своего банка, а так как по делам службы ему приходилось бывать и в других банкирских домах, то его стали считать своим и в Банке Соединенных Штатов, и у Дрекселей, Эдвардсонов и многих других. Биржевые маклеры знали его как представителя крепкой финансовой организации, и он повсюду слыл человеком если и не блестящего ума, то в высшей степени честным и добропорядочным дельцом.
Юный Каупервуд все больше вникал в детали отцовских занятий. По субботам ему частенько разрешалось приходить в банк, и он с огромным интересом наблюдал, как производятся маклерские операции и как ловко обмениваются всевозможные бумаги. Ему хотелось знать, откуда берутся все эти ценности, для чего клиенты обращаются в банк за учетом векселей, почему банк такой учет производит и что люди делают с полученными деньгами. Отец, довольный, что сын интересуется его делом, охотно давал ему объяснения, так что Фрэнк в очень раннем возрасте – между десятью и пятнадцатью годами – уже составил себе довольно полное представление о финансовой системе Америки, знал, что такое Банк штата и в чем его отличие от Национального, чем занимаются маклеры, что такое акции и почему их курс постоянно колеблется. Он начал уяснять себе значение денег как средства обмена и понял, что всякая стоимость исчисляется в зависимости от основной – стоимости золота. Он был финансистом по самой своей природе и все связанное с этим трудным искусством схватывал так же, как поэт схватывает тончайшие переживания, все оттенки чувств. Золото – это средство обмена – страстно его привлекало. Узнав от отца, как оно добывается, мальчик часто во сне видел себя собственником золотоносных копей и, проснувшись, жаждал, чтобы сон обратился в явь. Не меньший интерес возбуждали в нем акции и облигации; он узнал, что бывают акции, не стоящие бумаги, на которой они отпечатаны, и другие, расценивающиеся гораздо выше своего номинала.
– Вот, сынок, погляди, – сказал ему однажды отец, – такие бумажки не часто встречаются в наших краях.
Речь шла об акциях Британской Ост-Индской компании, заложенных за две трети номинала, в обеспечение стотысячного займа. Они принадлежали одному филадельфийскому магнату, нуждавшемуся в наличных деньгах. Юный Каупервуд с живым любопытством разглядывал пачку бумаг.
– По виду не скажешь, что они стоят таких денег, – заметил он.
– Они ценятся вчетверо выше своего номинала, – улыбаясь, отвечал отец.
Фрэнк снова принялся рассматривать бумаги.
– «Британская Ост-Индская компания», – прочитал он вслух. – Десять фунтов. Что-то около пятидесяти долларов.
– Сорок восемь долларов и тридцать пять центов, – деловито поправил его отец. – Мда, будь у нас такая пачка, не было бы надобности трудиться с утра до вечера. Обрати внимание, они почти новехонькие, редко бывают в обороте. В закладе они, видимо, первый раз.
Подержав пачку в руках, юный Каупервуд вернул ее отцу, дивясь огромной разветвленности финансового дела. Что это за Ост-Индская компания? Чем она занимается? Отец объяснил ему.
Дома Фрэнк тоже слышал разговоры о капиталовложениях и о рискованных финансовых операциях. Его заинтересовал рассказ про весьма любопытную личность, некоего Стимберджера, крупного спекулянта из штата Виргиния, который перепродавал мясо и недавно заявился в Филадельфию, привлеченный надеждой на широкий и легкий кредит. Стимберджер, по словам отца, был связан с Николасом Бидлом, Ларднером и другими заправилами Банка Соединенных Штатов и даже очень дружен кое с кем из них. Так или иначе, но он добивался от этого банка почти всего, чего хотел добиться. Он производил крупнейшие закупки скота в Виргинии, Огайо и других штатах и фактически монополизировал мясную торговлю на востоке страны. Это был огромный человек, с лицом, весьма напоминавшим, по словам мистера Каупервуда, свиное рыло; он неизменно ходил в высокой бобровой шапке и длинном, просторном сюртуке, болтавшемся на его могучем теле. Стимберджер умудрился взвинтить цены на мясо до тридцати центов за фунт, чем вызвал бурю негодования среди мелких торговцев и потребителей и стяжал себе недобрую славу. Являясь в фондовый отдел филадельфийского банка, он приносил с собой тысяч на сто или на двести краткосрочных обязательств Банка Соединенных Штатов, выпущенных купюрами в тысячу, пять и десять тысяч долларов, сроком на год. Эти обязательства учитывались из расчета на десять-двенадцать процентов ниже номинала, а сам он платил за них Банку Соединенных Штатов векселем на полную сумму сроком на четыре месяца. Следуемые ему деньги он получал в фондовом отделе Третьего национального банка альпари[2] пачками банкнот разных банков, находившихся в Виргинии, Огайо и Западной Пенсильвании, так как именно в этих штатах он главным образом и производил свои расчеты. Третий национальный банк получал от четырех до пяти процентов барыша с основной сделки да еще удерживал учетный процент с западных штатов, что тоже давало немалую прибыль.
В рассказах отца часто упоминался некий Фрэнсис Гранд, знаменитый вашингтонский журналист, игравший немалую роль за кулисами конгресса США, великий мастер выведывать всевозможные секреты, особенно касающиеся финансового законодательства. Секретные дела президента и кабинета министров, а также сената и палаты представителей, казалось, были для него открытой книгой. В свое время Гранд, через посредство двух или трех маклерских контор, скупал крупными партиями долговые обязательства и облигации Техаса. Эта республика, боровшаяся с Мексикой за свою независимость, выпустила ряд займов на сумму в десять-пятнадцать миллионов долларов. Предполагалось включить Техас в число штатов США, и в связи с этим через конгресс был проведен законопроект об ассигновании пяти миллионов долларов в счет погашения старой задолженности республики. Гранд пронюхал об этом, равно как и о том, что часть долговых обязательств, в силу особых условий их выпуска, будет оплачена полностью, остальные же – со скидкой и что заранее решено инсценировать провал законопроекта на одной сессии, чтобы отпугнуть тех, кто, прослышав о такой комбинации, вздумал бы, в целях наживы, скупать старые обязательства. Гранд поставил об этом в известность Третий национальный банк, а следовательно, об этом узнал и помощник кассира Каупервуд. Он рассказал все жене, а через нее это дошло до Фрэнка; его ясные большие глаза загорелись. Почему, спрашивал он себя, отец не воспользуется случаем и не приобретет облигации Техасской республики лично для себя? Ведь сам же он говорил, что Гранд и еще человека три-четыре нажили на этом тысяч по сто. Надо думать, что он считал это не вполне законным, хотя и противозаконного тут, собственно, ничего не было. Почему бы не использовать эту осведомленность для своей выгоды? Фрэнк решил, что его отец не в меру честен, не в меру осмотрителен, – когда он сам вырастет, сделается биржевиком, банкиром и финансистом, то уж, конечно, не упустит такого случая.
Как раз в те дни к Каупервудам приехал родственник, никогда раньше их не посещавший. Сенека Дэвис, брат миссис Каупервуд, белолицый, румяный и голубоглазый здоровяк, ростом в пять футов и девять дюймов, крепкий, круглый, с круглой же головой и блестящей лысиной, обрамленной курчавыми остатками золотисто-рыжих волос. Одевался он весьма элегантно, тщательно соблюдая моду, – жилет в цветочках, длинный серый сюртук и цилиндр (неотъемлемая принадлежность преуспевающего человека). Фрэнк пленился им с первого взгляда. Мистер Дэвис был плантатором и владел большим ранчо на Кубе; он рассказывал мальчику о жизни на острове – о мятежах, засадах, яростных схватках с мачете[3] в руках на его собственной плантации и о множестве других интересных вещей. Он привез с собой целую коллекцию индейских диковинок, много денег и несколько невольников. Один из них – Мануэль, высокий и тощий негр – неотлучно находился при нем как бы в качестве его адъютанта и телохранителя. Мистер Дэвис экспортировал со своих плантаций сахар-сырец, который сгружался в Южной гавани Филадельфии. Дядя очаровал Фрэнка своей простодушной жизнерадостностью, казавшейся в этой спокойной и сдержанной семье даже несколько грубоватой и развязной.
Нагрянув в воскресенье под вечер, нежданно и негаданно, дядя поверг всю семью в радостное изумление.
– Да что ж это такое, сестрица! – вскричал он, едва завидев миссис Каупервуд. – Ты ни капельки не потолстела. А я-то думал, когда ты выходила замуж за своего почтенного Генри, что тебя разнесет, как твоего братца. Нет, вы только посмотрите! Клянусь честью, она и пяти фунтов не весит.
И, обхватив Нэнси-Арабеллу за талию, он подкинул ее, к вящему удивлению детей, не привыкших к столь бесцеремонному обращению с их матерью.
Генри Каупервуд был очень доволен и польщен приездом богатого родственника: пятнадцать лет назад, когда он был молодоженом, Сенека Дэвис просто не удостаивал его вниманием.
– Вы только взгляните на этих маленьких горожан, – шумел дядя, – рожицы точно мелом вымазанные. Вот бы им приехать на мое ранчо подзагореть немножко. Восковые куклы, да и только, – с этими словами он ущипнул за щеку пятилетнюю Анну-Аделаиду. – Надо сказать, Генри, вы тут недурно устроились, – продолжал он, критическим взглядом окидывая гостиную ничем не примечательного трехэтажного дома.
Комната эта, размером двадцать футов на двадцать четыре, отделанная панелями под вишневое дерево и обставленная новым гарнитуром в стиле Шератона, выглядела несколько необычно, но, в общем, приятно. Когда Генри Каупервуд стал помощником кассира, он выписал из Европы фортепиано – большая роскошь по тогдашним понятиям. Комнату украшали и другие редкие вещи: газовая люстра, аквариум с золотыми рыбками, несколько прекрасно отполированных раковин причудливой формы и мраморный купидон с корзиной цветов в руках. Стояло лето, в распахнутые окна заглядывали, радуя взор, деревья, осенявшие своими кронами кирпичные тротуары. Дядя Сенека не торопясь вышел во двор.
– Весьма приятный уголок, – заметил он, стоя под развесистым вязом и оглядывая дворик, частично вымощенный кирпичом и обнесенный кирпичной же оградой, по которой вился дикий виноград. – А где же у вас гамак? Неужели вы летом не вешаете здесь гамака? В Сен-Педро у меня их штук шесть или семь на веранде.
– Мы как-то не подумали о гамаке, ведь кругом соседи. Но это было бы премило, – отвечала миссис Каупервуд. – Завтра же попрошу Генри его купить.
– Я привез с собой несколько штук. Они у меня в сундуке в гостинице. Мои чернокожие на Кубе сами плетут их. Я вам завтра утром пришлю один с Мануэлем.
Он сорвал листик винограда, подергал за ухо Эдварда, пообещал Джозефу, младшему из мальчиков, индейский томагавк и вернулся в дом.
– Вот этот мальчонка мне нравится, – сказал он немного погодя и положил руку на плечо Фрэнка. – Как его полное имя, Генри?
– Фрэнк Алджернон.
– Гм! Надо было назвать его иначе, как зовут меня. В этом мальчугане что-то есть… Приезжай ко мне на Кубу, сынок, я из тебя сделаю плантатора.
– Меня к этому не тянет, – отвечал старший сын Каупервуда.
– По крайней мере сказано откровенно! Что же ты имеешь против моего предложения?
– Ничего. Только я не знаю этого дела.
– А какое ты знаешь?
Мальчик улыбнулся не без хитрецы:
– Я пока еще мало что знаю.
– Ну ладно, а что тебя интересует?
– Деньги.
– Вот оно что! Это, значит, в крови – по стопам папеньки пошел. Что ж, плохого тут нет! И рассуждает-то он, как мужчина. Ну, малый, мы с тобой еще побеседуем. Похоже, Нэнси, что у тебя растет финансист. Он смотрит на вещи как настоящий делец.
Дядя еще внимательнее взглянул на Фрэнка. В этом решительном юнце, несомненно, чувствовалась сила. Его большие и ясные серые глаза выражали ум. Они многое таили в себе и ничего не выдавали.
– Занятный малый! – сказал мистер Дэвис зятю. – Мне нравится его прыть. У вас славные дети.
Мистер Каупервуд только улыбнулся. Этот дядюшка, раз ему так нравится Фрэнк, может многое для него сделать. Например, оставить ему со временем часть своего состояния. Мистер Дэвис был богат и холост.
Дядя Сенека стал часто бывать у Каупервудов, всегда в сопровождении своего чернокожего телохранителя Мануэля, говорившего, к немалому изумлению детей, по-английски и по-испански. Фрэнк все больше и больше интересовал его.
– Когда мальчик подрастет и решит, кем он хочет быть, я помогу ему встать на ноги, – заметил однажды мистер Дэвис в разговоре с сестрой, и та горячо поблагодарила его.
Дядя беседовал с Фрэнком о его занятиях и обнаружил, что мальчика мало интересуют книги, да и вообще большинство школьных предметов. Грамматика – просто гадость. Литература – ерунда. Латынь – бесполезная трата времени. История – ну, это еще куда ни шло.
– Я люблю счетоводство и математику, – заявил Фрэнк. – А вообще мне бы хотелось покончить с этим и взяться за дело.
– Рановато еще, дружок, – отозвался дядя. – Сколько тебе? Четырнадцать?
– Тринадцать.
– Вот видишь, а раньше шестнадцати нельзя бросить школу. Еще бы лучше проучиться лет до семнадцати-восемнадцати. Это тебе не повредит. Детства ведь потом не вернешь, мой мальчик.
– Я не хочу быть мальчиком. Я хочу работать.
– Не торопись, сынок. Все равно оглянуться не успеешь, и ты уже взрослый. Ты ведь, кажется, метишь в банкиры?
– Да, дядя.
– Ну, что ж, когда, бог даст, время придет, я помогу тебе на первых порах, если ты не передумаешь. Смотри только, веди себя хорошо. На твоем месте я бы поработал год-другой в большой хлебно-комиссионной конторе. Там можно понабраться опыта. Ты узнаешь много такого, что тебе впоследствии пригодится. А пока береги свое здоровье и учись. Когда понадобится, извести меня, где бы я ни находился. Я напишу и узнаю, как ты себя вел.
Он дал мальчику золотую монету в десять долларов, чтобы тот открыл себе счет в банке. Неудивительно, что этот подвижный, уверенный в своих силах и еще не тронутый жизнью юнец расположил мистера Дэвиса ко всей семье Каупервуд.
Глава III
На четырнадцатом году жизни Фрэнк Каупервуд впервые пустился в коммерческую авантюру. Однажды, проходя по Фронт-стрит, улице импортирующих и оптовых фирм, он заметил аукционный флажок над дверью оптово-бакалейного магазина; изнутри слышался голос аукциониста:
– Что мне предложат за партию превосходного яванского кофе? Оптовая рыночная цена на сегодняшний день семь долларов тридцать два цента за мешок. Сколько даете? Сколько даете? Партия идет только целиком. Сколько даете?
– Восемнадцать долларов! – крикнул стоявший у двери лавочник, собственно, лишь для того, чтобы положить начало торгам.
Фрэнк остановился.
– Двадцать два, – произнес другой голос.
– Тридцать, – послышался третий.
– Тридцать пять! – воскликнул четвертый. Цена дошла до семидесяти пяти долларов, что составляло меньше половины настоящей стоимости кофе.
– Семьдесят пять долларов! Семьдесят пять! – выкрикивал аукционист. – Кто больше? Семьдесят пять долларов – раз. Кто даст восемьдесят? Семьдесят пять долларов – два… – Он сделал паузу и драматическим жестом занес руку. Затем резко опустил ее. – Продано мистеру Сайласу Грегори за семьдесят пять долларов. Запишите, Джерри, – обратился он к своему рыжему, веснушчатому помощнику и тут же перешел к продаже другой партии бакалейного товара: одиннадцати бочонков крахмала.
Юный Каупервуд быстро прикинул в уме. Рыночная цена кофе, если верить аукционисту, семь долларов тридцать два цента за мешок; значит, лавочник, купивший его за семьдесят пять долларов, может тут же заработать восемьдесят шесть долларов четыре цента, а продав его в розницу – и того больше. Насколько ему помнится, мать платит двадцать восемь центов за фунт. С учебниками под мышкой Фрэнк протиснулся поближе и стал еще внимательнее следить за процедурой торгов. Бочонок крахмала, как он вскоре услышал, стоил десять долларов, а здесь его продали за шесть. Несколько бочонков уксуса пошли с молотка за треть своей стоимости. Фрэнку очень захотелось принять участие в торгах, но в кармане у него была только мелочь. Аукционист заметил мальчика, стоявшего прямо перед ним, и был поражен серьезностью и упорством, написанными на его лице.
– Предлагаю партию прекрасного кастильского мыла – семь ящиков, не больше и не меньше. Оно, надо вам знать, если вы вообще что-нибудь смыслите в мыле, стоит теперь четырнадцать центов брусок. А за ящик с вас возьмут не меньше одиннадцати долларов семидесяти пяти центов. Сколько даете? Сколько даете? Сколько даете?
Он говорил быстро, с обычными интонациями аукциониста и чрезмерным пафосом, но на юного Каупервуда это не действовало. Он живо подсчитывал в уме. Семь ящиков по одиннадцать семьдесят пять – всего восемьдесят два доллара двадцать пять центов. И если эта партия пойдет за полцены… если она пойдет за полцены…
– Двенадцать долларов! – предложил кто-то.
– Пятнадцать! – повысил цену другой.
Дальше пошли надбавки по одному доллару, так как кастильское мыло не пользовалось широким спросом.
– Двадцать шесть!
– Двадцать семь!
– Двадцать восемь!
– Двадцать девять!
Все молчали.
– Тридцать! – решительно произнес юный Каупервуд.
Аукционист, маленький, худощавый человечек с изможденным лицом и взъерошенными волосами, с любопытством и несколько недоверчиво покосился на Фрэнка, ни на миг, впрочем, не умолкая. Напряженный взгляд мальчика поневоле привлек его внимание, и он как-то сразу, сам не зная почему, преисполнился доверия и решил: деньги у него есть. Возможно, он сын какого-нибудь бакалейщика.
– Тридцать долларов! Тридцать долларов! Тридцать долларов за партию превосходного кастильского мыла! Отличное мыло! В розницу идет по четырнадцать центов кусок. Кто даст тридцать один доллар? Кто даст тридцать один? Кто даст тридцать один?
– Тридцать один! – раздался голос.
– Тридцать два! – произнес Каупервуд.
Торг возобновился.
– Тридцать два доллара! Тридцать два доллара! Тридцать два доллара! Кто даст за это замечательное мыло тридцать три? Семь ящиков прекрасного кастильского мыла. Кто даст тридцать три?
Мозг юного Каупервуда напряженно работал. Денег у него с собой не было, но его отец служил помощником кассира в Третьем национальном банке, и Фрэнк мог сослаться на него. Все это мыло, без сомнения, удастся продать бакалейщику по соседству с домом, а если не ему, то еще какому-нибудь лавочнику. Нашлись ведь и другие, желавшие приобрести его по такой цене. Так почему бы мыло не купить Фрэнку?
Аукционист сделал паузу.
– Тридцать два доллара – раз! Кто даст тридцать три? Тридцать два доллара – два! Даст кто-нибудь тридцать три? Тридцать два доллара – три! Семь ящиков превосходного мыла! Кто даст больше? Раз, два, три! Кто больше? – Рука его снова поднялась в воздух. – Продано мистеру…
Он слегка перегнулся через стойку, с любопытством заглядывая в лицо юного покупателя.
– Фрэнку Каупервуду, сыну помощника кассира Третьего национального банка, – твердым голосом проговорил мальчик.
– Идет! – сказал аукционист, убежденный его уверенным взглядом.
– Вы подождете, пока я сбегаю в банк за деньгами?
– Хорошо! Только недолго: если вы через час не вернетесь, я снова пущу его в продажу.
Фрэнк уже не ответил. Он выбежал за дверь и прежде всего помчался к знакомому бакалейщику, чья лавка была на расстоянии одного квартала от дома Каупервудов.
Последние тридцать шагов он прошел медленно, потом состроил беспечную мину и, войдя в лавку, стал глазами искать кастильское мыло. Вот оно – на обычном месте, того же сорта, в таком же ящике, как и «его» мыло.
– Почем у вас кусок такого мыла, мистер Дэлримпл? – осведомился Фрэнк.
– Шестнадцать центов, – с достоинством отвечал лавочник.
– Если я предложу вам семь ящиков точно такого товара за шестьдесят два доллара, вы возьмете?
– Точно такого?
– Да, сэр.
Мистер Дэлримпл мысленно произвел подсчет.
– Да, пожалуй, – осторожно ответил он.
– И вы могли бы сегодня же заплатить мне?
– Я дал бы вексель. А где товар?
Мистер Дэлримпл был несколько озадачен этим неожиданным предложением соседского сына. Он хорошо знал мистера Каупервуда, да и Фрэнка тоже.
– Так вы возьмете мыло, если я вам сегодня его доставлю?
– Возьму, – отвечал лавочник. – Вы что же, мылом занялись?
– Нет, но я знаю, где его можно дешево купить.
Фрэнк торопливо вышел и побежал к отцу. Операции в банке уже прекратились, но мальчик знал там все ходы и выходы и знал также, что мистер Каупервуд будет доволен, если сын заработает тридцать долларов. Ему нужно было только занять денег на один день.
– Что случилось, Фрэнк? – поднимая голову от конторки, спросил мистер Каупервуд, завидев своего раскрасневшегося и запыхавшегося сына.
– Я хочу попросить у тебя взаймы тридцать два доллара, папа.
– Хорошо. А на что они тебе понадобились?
– Я собираюсь купить мыло: семь ящиков кастильского мыла. Я знаю, где его достать, и у меня уже есть на него покупатель. Мистер Дэлримпл берет всю партию. Он предложил мне шестьдесят два доллара. А я покупаю за тридцать два. Если ты дашь мне денег, я мигом слетаю и заплачу аукционисту.
Мистер Каупервуд улыбнулся. Никогда еще его сын не проявлял такой деловитости. Для мальчика тринадцати лет он был на редкость сообразителен и оборотист.
– Итак, Фрэнк, – сказал он, направляясь к ящику, в котором лежало несколько ассигнаций, – ты, видно, уже становишься финансистом. А ты уверен, что не потерпишь убытка? Ты отдаешь себе отчет в своей затее?
– Дай же мне деньги, папа, – с мольбой в голосе проговорил Фрэнк. – А я тебе докажу, на что я способен. Только дай деньги. Можешь мне поверить.
Он походил на молодую охотничью собаку, учуявшую дичь. Отец не мог противиться его настояниям.
– Разумеется, Фрэнк, я верю тебе, – сказал он, отсчитывая шесть пятидолларовых банкнот своего же Третьего национального банка и две по доллару. – Получай!
Пробормотав благодарность, Фрэнк выскочил и со всех ног понесся на аукцион. В момент его прихода с торгов продавался сахар. Фрэнк протискался к столику, за которым сидел клерк.
– Я хочу заплатить за мыло, – сказал он.
– Сейчас?
– Да. Вы мне выпишете квитанцию?
– Можно!
– Товар будет доставлен на дом?
– Нет, у нас без доставки. Вы должны забрать его в течение суток.
Неожиданное затруднение не смутило Фрэнка.
– Хорошо, – сказал он, пряча квитанцию в карман.
Аукционист невольно проводил его глазами. Через полчаса Фрэнк вернулся в сопровождении ломовика, околачивавшегося со своей телегой в порту и готового подработать чем угодно.
За шестьдесят центов он подрядился отвезти мыло по назначению. Еще через полчаса они уже стояли перед лавкой изумленного мистера Дэлримпла, которого Фрэнк, прежде чем сгружать мыло с телеги, заставил выйти на улицу и взглянуть на ящики. В случае, если сделка не состоится, Фрэнк решил отвезти мыло домой. Несмотря на то что это была его первая спекуляция, он все время сохранял полнейшее присутствие духа.
– Н-да, – проговорил мистер Дэлримпл, задумчиво почесывая седую голову, – н-да, мыло то же самое. Я беру его. Слово надо держать. Где это вы его раздобыли, Фрэнк?
– На распродаже у Биксома, тут недалеко, – откровенно и учтиво отвечал юный Каупервуд.
Мистер Дэлримпл велел отнести мыло в лавку и после некоторых формальностей, осложнявшихся тем, что продавец был несовершеннолетним, выписал вексель сроком на месяц.
Фрэнк поблагодарил и спрятал его в карман. Он решил еще раз пойти к отцу и учесть вексель, как это делали на его глазах другие, чтобы отдать долг и получить свой барыш наличными. Как правило, этих операций не производят после закрытия банка, но отец сделает для него исключение.
Насвистывая, он отправился в путь; отец снова улыбнулся, увидев его.
– Ну, как, Фрэнк, выгорело твое дело? – осведомился мистер Каупервуд.
– Вот вексель сроком на месяц, – сказал мальчик, кладя на стол полученное от Дэлримпла обязательство. – Пожалуйста, учти его с удержанием своих тридцати двух долларов.
Отец внимательно рассматривал вексель.
– Шестьдесят два доллара, – прочитал он. – Мистер Дэлримпл. Все правильно. Да, я его учту. Это обойдется тебе в десять процентов, – пошутил он. – Но почему бы тебе не оставить вексель у себя? Я могу подождать и не буду требовать свои тридцать два доллара до конца месяца.
– Нет, не надо, – возразил Фрэнк, – ты лучше учти его и возьми свои деньги. Мои могут мне понадобиться.
Деловитый вид сына позабавил мастера Каупервуда.
– Ну, хорошо, – сказал он. – Завтра все будет устроено, а теперь расскажи мне, как тебе это удалось?
И сын ему рассказал. В семь часов вечера эту историю узнала миссис Каупервуд, а несколько позднее и дядя Сенека.
– Ну, что я вам говорил, Каупервуд? – воскликнул дядюшка. – Этот мальчуган подает надежды. Вы еще и не то увидите!
За обедом миссис Каупервуд с любопытством вглядывалась в сына. Неужели вот этого мальчика она еще так недавно кормила грудью? Как он быстро возмужал!
– Надеюсь, Фрэнк, тебе и впредь будут удаваться такие дела, – сказала она.
– И я надеюсь, мама, – последовал лаконичный ответ.
Правда, торги происходили не каждый день, и не каждый день были возможны сделки с бакалейщиком, но Фрэнк уже с юных лет умел наживать деньги. Он собирал подписку на журнал для юношества, работал агентом по распространению нового типа коньков, а раз даже соблазнил окрестных мальчишек объединиться и закупить себе к лету партию соломенных шляп по оптовой цене. О том, чтобы сколотить капитал бережливостью, Фрэнк и не помышлял. Он чуть не с детства проникся убеждением, что куда приятнее тратить деньги не считая и что этой возможности он так или иначе добьется.
В этом же году, если не раньше, в нем начал пробуждаться интерес к девочкам. Его взгляд неизменно останавливался на самой красивой. А так как он сам был красив и обаятелен, то ему ничего не стоило заинтересовать своей особой понравившуюся ему девочку. Двенадцатилетняя Пейшенс Барлоу, жившая по соседству, была первой, на которую он загляделся, и сама она загляделась на него.
Природа наделила ее блестящими черными глазами и черными волосами, которые она заплетала в две тугих косы. Изящные ножки с тонкими лодыжками легко несли ее прелестную фигурку. Родители девочки были квакеры, и на ее голове всегда красовался скромный маленький чепчик. Характер у нее, однако, был очень живой, и этот смелый, самоуверенный, прямой мальчик ей нравился. Однажды, после того как они не раз уже обменялись беглыми взглядами, он остановил ее (девочка шла в ту же сторону) и с улыбкой, смело, как всегда, спросил:
– Вы ведь живете на нашей улице? Правда?
– Да, – отвечала она, слегка волнуясь и раскачивая сумку с книгами, – в доме сто сорок один.
– Я знаю этот дом, – сказал он. – Видел, как вы туда входили. Вы, кажется, учитесь в одной школе с моей сестрой? Ведь вас зовут Пейшенс Барлоу?
Он слышал, как кто-то из его соучеников назвал ее по имени.
– Да, – подтвердила она. – А откуда вы знаете?
– Слышал, – улыбнулся Фрэнк. – Я вас часто вижу. Хотите лакрицы?
Он порылся в кармане и вытащил несколько палочек свежей лакрицы, очень распространенного в те времена лакомства.
Пейшенс ласково поблагодарила и взяла одну.
– Наверно, не очень вкусно. Она уже давно лежит в кармане. На днях у меня были тянучки.
– Нет, вкусно, – отозвалась она, посасывая кончик палочки.
– Вы ведь знаете мою сестру, Анну Каупервуд? – спросил Фрэнк, возвращаясь к начатому разговору и как бы представляясь своей соседке. – Она, правда, классом младше вас, но, может быть, вы знакомы?
– Я ее знаю. Мы встречаемся, когда идем из школы.
– Я живу вон там, направо. – Фрэнк указал ей на дом, к которому они подходили, будто девочка и без того не знала, где он живет. – Надеюсь, мы теперь часто будем видеться?
– Вы знакомы с Рут Мерриэм? – спросила она, когда Фрэнк уже собирался свернуть на мощеную дорожку, ведущую к его дому.
– Нет, а почему вы спрашиваете?
– У нее во вторник вечеринка, – как бы вскользь заметила девочка.
– Где она живет?
– В доме двадцать восемь.
– Я был бы не прочь зайти к ней, – признался Фрэнк, сворачивая домой.
– Может быть, она пригласит вас. – Пейшенс становилась все храбрее, по мере того как расстояние между ними увеличивалось. – Я ее попрошу.
– Спасибо, – поблагодарил он с улыбкой.
Она весело побежала дальше.
Фрэнк с сияющим лицом смотрел ей вслед. Она была прелестна. Он ощутил страстное желание поцеловать ее и живо вообразил себе вечеринку у Рут Мерриэм и все, что это ему сулило.
То был еще совсем детский роман, одно из ребяческих увлечений, которые время от времени охватывали Фрэнка среди вихря житейских событий. С Пейшенс Барлоу он не раз целовался в укромных уголках, прежде чем нашел себе другую. Зимой Пейшенс вместе с соседскими девочками выбегала на улицу поиграть в снежки или же в долгие зимние вечера засиживалась на скамеечке у дверей своего дома. Изловить ее в эти часы и поцеловать было так же легко, как легко было на вечеринках нашептывать ей всякий вздор. На смену ей пришла Дора Фитлер – Фрэнку было тогда шестнадцать лет, ей четырнадцать, – позднее, в семнадцать лет, – пятнадцатилетняя Марджори Стэффорд, белокурая пухленькая девочка с голубовато-серыми глазами, румяная и свежая, как утренняя заря.
В семнадцать Фрэнк решил бросить школу. Он всего три года проучился в старших классах, но уже был сыт ученьем по горло. С тринадцати лет все его помыслы были обращены на финансовое дело в той его форме, какую он наблюдал на Третьей улице. Время от времени он выполнял поручения, дававшие ему возможность кое-что подработать. Дядя Сенека позволил ему помогать весовщику в грузовом порту, где под бдительным надзором правительственных инспекторов складывались в государственные пакгаузы при таможне трехсотфунтовые мешки с сахаром. Иногда, при особо спешной работе, он помогал отцу и получал за это плату. Фрэнк даже сговорился было с мистером Дэлримплом насчет работы у него в субботние дни, но вскоре после того, как ему стукнуло пятнадцать, его отец стал главным кассиром с годовым окладом в четыре тысячи долларов, и о работе за прилавком, конечно, больше не могло быть и речи.
Как раз в это время в Филадельфию снова приехал дядя Сенека, еще более толстый, еще более властный, и сказал племяннику:
– Вот что, Фрэнк, если хочешь приняться за дело, то я тебе для начала припас хорошее местечко. Первый год ты будешь работать без жалованья, но, если справишься, тебе, вероятно, дадут наградные. Слыхал ты про фирму «Генри Уотермен и К°» на Второй улице?
– Я знаю, где помещается их контора.
– Так вот они согласны взять тебя счетоводом. Это маклеры, занимающиеся перепродажей зерна и посредническими делами. Ты как-то говорил, что хочешь поработать в этой области. Когда кончится учебный год, сходи к мистеру Уотермену, сошлись на меня, и он, надо думать, тебя возьмет. Сообщи мне потом, как вы договорились.
Дядя Сенека теперь был уже женат – своими деньгами он завоевал сердце одной небогатой, но честолюбивой дамы из филадельфийских светских кругов. Благодаря этому браку связи Каупервудов, по общему мнению, должны были очень укрепиться. Генри Каупервуд подумывал о том, чтобы переехать в северную часть города, на Фронт-стрит, откуда открывался великолепный вид на реку и где уже шло строительство красивых особняков. По тем временам – незадолго до Гражданской войны[4] – его четырехтысячный оклад был довольно внушительным. Генри Каупервуд, благоразумный и осторожный, никогда не вкладывал свои сбережения даже в мало-мальски рискованные дела и благодаря своей аккуратности, осмотрительности и пунктуальности имел, как полагали его сослуживцы, все основания в будущем рассчитывать на пост вице-директора или даже директора банка, в котором работал.
Предложение дяди Сенеки относительно «Уотермена и К°» Фрэнк счел для начала вполне подходящим. Посему в июне месяце он отправился на Вторую улицу и был приветливо встречен Генри Уотерменом-старшим. Кроме того, как выяснилось, имелись еще Генри Уотермен-младший, двадцатилетний молодой человек, и некий Джордж Уотермен, пятидесяти лет, брат Уотермена-старшего, доверенное лицо, бывшее в курсе всех сделок. Во главе предприятия стоял Генри Уотермен-старший, пятидесяти пяти лет. Он выезжал по мере надобности к пригородным клиентам; за ним оставалось последнее слово в вопросах, которые брат не мог разрешать самолично, и он же затевал новые сделки, так что его компаньонам и служащим оставалось только проводить их в жизнь. С виду флегматичный, коротконогий, пузатый толстячок, с густой сетью морщинок вокруг выпуклых глаз и красной шеей, мистер Генри Уотермен-старший на деле был проницательным, добродушным, покладистым и остроумным человеком. Благодаря врожденному здравому смыслу и подкупающей благожелательности ему удалось создать прочное и процветающее дело. Но годы уже давали себя знать, и теперь он от души радовался бы сотрудничеству с сыном, если бы таковое не шло в ущерб фирме.
Но об этом нечего было и мечтать. Не столь демократичный, как отец, лишенный его быстрой сообразительности и работоспособности, сын не чувствовал ничего, кроме отвращения, к коммерческой деятельности. Дело, оставленное на его попечение, несомненно, пошло бы прахом. Отец это видел, огорчался и все надеялся, что сыщется какой-нибудь молодой человек, который заинтересуется делом, будет продолжать его на прежних началах и вместе с тем не вытеснит его сына – одним словом, человек, готовый довольствоваться ролью младшего компаньона.
И вот с рекомендациями от Сенеки Дэвиса явился молодой Каупервуд. Мистер Уотермен окинул его критическим взглядом. «Да, – подумал старик, – мальчик подходящий. Из этого мальчика может выйти толк». Он держался непринужденно и в то же время с достоинством, без малейших признаков волнения или стеснительности. По его словам, он умел вести счетные книги, хотя и не разбирался во всех тонкостях хлебно-комиссионного дела. Но эта отрасль интересовала его, и он хотел бы попытать в ней счастья.
– Этот малый мне нравится, – сказал брату Генри Уотермен, после того как Фрэнк ушел, получив предложение завтра утром приступить к новым обязанностям. – В нем что-то есть! Такой юный, сметливый, живой человек давно уже не переступал нашего порога.
– Да, – согласился Джордж, более худой и высокий, чем брат, с карими, несколько мутными, задумчивыми глазами и жиденькими темными волосиками, еще больше подчеркивавшими белизну плеши на его яйцевидной голове. – Весьма приятный молодой человек. Странно, что отец не берет его к себе в банк.
– Как знать, вероятно, у него нет такой возможности, – возразил брат. – Ведь он там всего-навсего главный кассир.
– Это правда.
– Что ж, испытаем его. По-моему, у него любое дело будет спориться. Многообещающий юноша!
Генри Уотермен встал и направился к парадной двери, выходившей на Вторую улицу. Холодок булыжной мостовой, защищенной от утреннего солнца сплошной стеной зданий (среди них и здание его конторы), стук копыт, грохот подвод, снующая толпа – все это нравилось ему. Он посмотрел через дорогу – трех– и четырехэтажные дома, почти все из серого камня. В них тоже бурлила жизнь, и Генри Уотермен возблагодарил небо за то, что некогда ему пришла в голову мысль основать свое дело на столь бойком месте. Жаль только, что он в свое время не приобрел здесь еще несколько участков.
«Хорошо бы этот молодой Каупервуд оказался подходящим для меня человеком, – мысленно сказал себе старик. – Я был бы избавлен от множества лишних хлопот».
Примечательно, что пятиминутного разговора было достаточно, чтобы убедиться в деловитости этого мальчика. Генри Уотермен почти не сомневался, что надежды его сбудутся.
Глава IV
Внешность Фрэнка Каупервуда в те годы была располагающей и приятной. Рослый – пять футов и десять дюймов, – широкоплечий и ладно скроенный, с крупной красивой головой и густыми вьющимися темно-каштановыми волосами. В глазах его светилась живая мысль, но взгляд их был непроницаем, по нему ничего нельзя было угадать. Походка у Фрэнка была легкая, уверенная, быстрая. Он не знал ни тяжелых ударов судьбы, ни горечи разочарований. Ему не доводилось страдать ни от болезней, ни от лишений. Правда, он видел вокруг себя людей более богатых, но ведь и он надеялся разбогатеть. Его семья пользовалась уважением, отец занимал хороший пост. Фрэнк никому никогда не был должен. Только однажды он просрочил мелкий вексель, выданный банку, и отец дал ему такой нагоняй, что он запомнил это на всю жизнь.
– Да я бы на четвереньках приполз, но не допустил, чтобы мой вексель опротестовали! – восклицал мистер Каупервуд.
И Фрэнк раз и навсегда понял то, что, собственно, можно было понять и без таких патетических восклицаний, – значение кредита. После этого случая уже ни один выданный им вексель не был опротестован или просрочен по его небрежности.
Фрэнк оказался самым дельным служащим, какого когда-либо знал торговый дом «Уотермен и К°». Сперва его засадили за книги в качестве помощника бухгалтера, на место недавно уволенного мистера Томаса Трикслера, но уже две недели спустя Джордж Уотермен сказал:
– Почему бы нам не перевести Каупервуда в бухгалтеры? Он за одну минуту сообразит больше, чем наш Сэмсон за всю свою жизнь.
– Хорошо, Джордж, я не возражаю, но ты об этом особенно не распространяйся. Каупервуд долго бухгалтером не останется. Посмотрим, не сумеет ли он в скором времени заменить меня в некоторых делах.
Бухгалтерия торгового дома «Уотермен и К°», достаточно сложная, для Фрэнка была детской забавой. Он так легко, так быстро разобрался в книгах, что его бывший начальник Сэмсон только диву давался.
– Нет, этот малый слишком прыток, – в первый же день, взглянув на работу Фрэнка, заявил он другому служащему. – Он запутается, помяните мое слово. Я эту породу знаю. Вот подождите, пусть только начнутся горячие денечки с кредитованиями и перечислениями.
Вопреки предсказаниям мистера Сэмсона Фрэнк не запутался. Не прошло и недели, как он уже знал состояние финансов фирмы Уотермен не хуже, если не лучше, самих хозяев. Он знал, кому направлять счета, в каких районах заключается больше всего сделок, кто поставляет хороший товар и кто плохой, – о последнем красноречиво свидетельствовало колебание цен в течение года. Желая проверить свои предположения, он просмотрел ряд старых счетов в гроссбухе. Бухгалтерией он интересовался лишь в той мере, в какой она регистрировала и отражала жизнь фирмы. Он знал, что долго на этой работе не останется. Там видно будет. Пока же он сразу, до мельчайших подробностей, постиг суть хлебно-комиссионного дела. Он увидел, какие серьезные убытки терпят хозяева – вернее, их клиенты, так как фирма занималась лишь посредничеством, – из-за недостаточно быстрого сбыта товаров, поступающих на консигнацию[5], а также отсутствия налаженного контакта с поставщиками, покупателями и другими комиссионными фирмами. Клиент, к примеру, отгружал фрукты или овощи, ориентируясь на устойчивые или даже на растущие рыночные цены. Но если это же делали одновременно десять человек или у других посредников получалось затоваривание, то цены немедленно падали. Грузооборот никогда не был стабильным. Фрэнку тотчас же пришло на ум, что, занявшись сбытом крупных партий товара в качестве выездного агента, он принес бы фирме куда больше пользы, но до поры до времени решил этого вопроса не поднимать. Более чем вероятно, что в ближайшем будущем все разрешится само собою.
Оба Уотермена – Генри и Джордж – не могли нахвалиться тем, как Фрэнк вел их отчетность. Самое его присутствие вселяло в них веру, что все идет хорошо. Вскоре Фрэнк обратил внимание «братца Джорджа» на состояние некоторых счетов, рекомендуя сбалансировать одни, другие же совсем закрыть, чем доставил старому джентльмену несказанное удовольствие. Деловитость этого юноши со временем сулила ему облегчение собственных его трудов; в то же время в нем росло чувство личной приязни к Фрэнку.
«Братец Генри» был за то, чтобы испробовать молодого человека на внешних операциях. Поскольку наличные запасы фирмы не всегда могли удовлетворить заказчиков, приходилось обращаться за товаром в другие конторы или же на биржу, и обычно это делал глава фирмы. Однажды утром, когда прибыли накладные, предвещавшие избыток муки и недостаток зерна на рынке – Фрэнк это заметил первым, – старший Уотермен пригласил его к себе в кабинет и сказал:
– Фрэнк, я попросил бы вас подумать, как выйти из создавшегося положения. Завтра у нас образуется завал муки. Мы не можем платить полежалое, а между тем наличные заказы не поглотят всего товара. Зерна же у нас недостаточно. Может быть, вам удастся сбыть лишнюю муку кому-нибудь из маклеров и раздобыть зерна на покрытие заказов?
– Я попытаюсь, – отвечал Каупервуд.
Из своих бухгалтерских книг Фрэнк знал адреса различных комиссионных контор. Знал также, чем располагает местная товарная биржа и что могут предложить те или иные работающие в этой отрасли посредники. Поручение устранить возникший затор пришлось ему по вкусу. Так приятно было вновь очутиться на свежем воздухе и ходить из дома в дом. Ему претило сидеть в конторе, скрипеть пером и корпеть над книгами. Много лет спустя Фрэнк сказал: «Моя контора – это моя голова». Сейчас же он поспешил к крупнейшим комиссионерам, разузнавая, как обстоит дело с мукой, и предлагая свои излишки по цене, которую он запросил бы, если бы над фирмой и не нависла угроза затоваривания. Нет ли желающих купить шестьсот бочонков первосортной муки с немедленной (другими словами, в течение двух суток) доставкой? Цена – девять долларов за бочонок. Охотников не находилось. Тогда Фрэнк стал предлагать товар мелкими партиями, и эта затея оказалась успешной. Через какой-нибудь час у него оставалось всего двести бочонков, и он решил предложить их некоему Джендермену, видному дельцу, с которым его фирма не имела торговых отношений. Джендермен, крупный мужчина с курчавой седой шевелюрой, одутловатым лицом, взрытым оспой, и маленькими глазками, хитро поблескивавшими из-под тяжелых век, с любопытством уставился на Фрэнка.
– Как ваша фамилия, молодой человек? – осведомился он, откидываясь на спинку деревянного кресла.
– Каупервуд.
– Так вы, значит, служите у Уотерменов? Наверно, решили отличиться, а потому и пришли ко мне?
Каупервуд в ответ только улыбнулся.
– Ну что ж, я возьму у вас муку. Она мне пригодится. Выписывайте счет.
Каупервуд поспешил откланяться. От Джендермена он прямиком пошел в маклерскую контору на Уолнат-стрит, с которой его фирма вела дела, велел закупить на бирже нужное ему зерно по рыночной цене и вернулся к себе в контору.
– Быстро вы управились, – сказал Генри Уотермен, выслушав его доклад. – И продали двести бочонков старому Джендермену? Очень, очень хорошо. Он как будто и не наш клиент?
– Нет, сэр.
– Ну, если вам удается проводить такие дела, вы долго не засидитесь на книгах.
В скором времени Фрэнка уже знали и во многих маклерских конторах, и на бирже. Он скупал товарные остатки для своих хозяев, приобретал случайно попадавшиеся партии нужного товара, вербовал левых клиентов, ликвидировал излишки, сбывая их мелкими партиями совсем неожиданным покупателям. Уотермены только дивились, с какой легкостью он все это проделывал. Фрэнк обладал исключительной способностью заставлять благожелательно выслушивать себя, завязывать дружеские отношения, проникать в новые торговые круги. Свежий ключ забил в старом русле торгового дома «Уотермен и К°». Клиентура теперь обслуживалась несравненно лучше, и Джордж стал настаивать на посылке Фрэнка в сельские местности для оживления торговли, так что Фрэнк нередко выезжал за город.
Перед Рождеством Генри Уотермен сказал брату:
– Надо сделать Каупервуду хороший подарок. Он ведь не получает жалованья. Как ты думаешь, пятисот долларов будет достаточно?
– Это большие деньги по нынешним временам, но, по-моему, он их заслужил. Этот малый, несомненно, оправдал все наши ожидания и даже превзошел их. Он словно создан для хлебно-комиссионного дела.
– А что он сам говорит об этом? Ты не слыхал, он доволен?
– О, мне кажется, он вполне удовлетворен. Впрочем, ты видишь его не реже, чем я.
– Ну что ж, так и порешим – пятьсот долларов. А со временем можно будет принять его компаньоном в наше дело. У него хватка настоящего коммерсанта. Распорядись насчет этих денег да скажи ему приветливое словечко от нас обоих.
И вот накануне сочельника, когда Фрэнк просматривал какие-то накладные и счета, чтобы перед наступающим праздником оставить все дела в полном порядке, к его столу подошел Джордж Уотермен.
– Все еще за работой? – спросил он, останавливаясь под ослепительным газовым рожком и одобрительно глядя на усердного юношу.
За окном уже спустились сумерки, и мороз покрыл узорами стекла.
– Так, просматриваю кое-что напоследок, – с улыбкой отвечал Каупервуд.
– Мы с братом очень довольны тем, как вы работали эти полгода. Нам хотелось как-нибудь выразить нашу признательность, и потому мы просим вас принять награду в пятьсот долларов. А с будущего года мы назначаем вам регулярное жалованье – тридцать долларов в неделю.
– Очень вам благодарен, – отвечал Фрэнк. – Я не рассчитывал на такой оклад. Это больше, чем я мог предполагать. Ведь, работая у вас, я многому научился.
– Полноте. Вы заслужили эти деньги и можете оставаться у нас сколько захотите. Мы вам всегда рады.
Каупервуд улыбнулся, как обычно, приветливо и добродушно. Откровенное признание его заслуг очень ему польстило. Приятно было смотреть на него, веселого, сияющего, в хорошо сшитом костюме из английского сукна.
Вечером, по дороге домой, Фрэнк размышлял о том, что представляет собою дело, в котором он работал. У него не было ни малейшего намерения долго оставаться на этой службе, несмотря на наградные и обещанное жалованье. Братья Уотермен испытывали к нему признательность – что ж тут удивительного? Он был энергичным работником и сам знал это. Ему и в голову не приходило причислять себя к мелким служащим, напротив: со временем эта людская порода должна будет работать на него. В таком его взгляде на вещи не было ни озлобления, ни ярости против судьбы, ни страха перед неудачей. На своих хозяев он смотрел как на представителей определенного типа дельцов. Он видел их слабости и недостатки, так же как взрослый видит недостатки ребенка.
После обеда, собираясь к своей приятельнице Марджори Стэффорд, Фрэнк рассказал отцу о наградных и обещанном жалованье.
– Великолепно! – обрадовался Каупервуд-старший. – Ты делаешь даже бо́льшие успехи, чем я предполагал. Надо думать, ты там и останешься?
– Нет, не останусь. В будущем году я от них уйду.
– Почему?
– Видишь ли, меня к этому не тянет. Дело неплохое, но я предпочел бы испробовать свои силы на фондовой бирже. Это мне интереснее.
– А тебе не кажется, что будет нехорошо по отношению к твоим хозяевам, если ты не предупредишь их заранее?
– Нисколько. Я им все равно нужен, – отвечал Фрэнк, завязывая галстук перед зеркалом и оправляя сюртук.
– Матери ты рассказал?
– Нет еще. Сейчас пойду к ней.
Он вошел в столовую, где сидела мать, обвил руками ее хрупкие плечи и сказал:
– Угадай, что я тебе расскажу, мама.
– Не знаю, – отвечала она, ласково заглядывая ему в глаза.
– Я сегодня получил пятьсот долларов наградных, а с будущего года мне положено жалованье – тридцать долларов в неделю. Что тебе подарить к Рождеству?
– Да неужели? Вот это замечательно. Как я рада! Тебя, верно, там очень любят? Ты становишься совсем взрослым мужчиной.
– Что же тебе подарить к Рождеству?
– Ничего. Мне ничего не надо. У меня есть мои дети.
Фрэнк улыбнулся.
– Будь по-твоему – ничего, так ничего.
Но мать знала, что он непременно купит ей какой-нибудь подарок.
Выходя, Фрэнк на мгновенье задержался в дверях, обнял за талию сестренку, предупредил мать, чтобы его не ждали рано, и поспешил к Марджори, с которой условился идти в театр.
– Какой же мне сделать тебе рождественский подарок, Марджи? – спросил он, целуя ее в полутемной передней. – Я получил сегодня пятьсот долларов.
Ей едва минуло пятнадцать лет, и ни хитрости, ни корысти в ней еще не было.
– Ах, что ты, мне ничего не нужно.
– Не нужно? – повторил он, прижимая ее к себе и снова целуя в губы.
Хорошо прокладывать себе путь в этом мире, хорошо наслаждаться всеми радостями жизни!
Глава V
В октябре следующего года – месяцев через шесть после того, как ему минуло восемнадцать лет, – Фрэнк, окончательно убедившись, что хлебно-комиссионное дело (насколько он мог судить о нем по компании Уотерменов) не его призвание, решил уйти из этой фирмы и поступить на службу в банкирскую контору «Тай и К°».
С мистером Таем Фрэнк познакомился как агент «Уотермена и К°» по внешним сделкам, и тот сразу же заинтересовался молодым человеком.
– Ну, как дела у ваших хозяев? – иногда добродушно спрашивал он.
Или осведомлялся:
– Ну что, растет ваш вексельный портфель?
Тревожное время, переживаемое страной, непомерно раздутый выпуск ценных бумаг, пропаганда против рабовладельчества и все прочее заставляли людей страшиться за будущее. И Таю – он сам не мог бы объяснить почему – казалось, что с этим юношей стоило потолковать на животрепещущие темы. И годы его как будто не такие, чтобы во всем этом разбираться, а все-таки разбирается.
– Благодарю вас, мистер Тай, у нас дела идут неплохо, – обычно отвечал ему Каупервуд.
– Вот увидите, – однажды утром сказал Тай Фрэнку, – если эта пропаганда против рабства не прекратится, мы еще хлебнем горя.
Как раз в это время невольник, принадлежавший одному приезжему кубинцу, был отобран у хозяина и отпущен на волю, ибо по законам Пенсильвании всякий негр, оказавшийся на территории штата, хотя бы даже проездом, получал свободу. Случай этот вызвал большие волнения. Несколько человек было арестовано, газеты подняли отчаянную шумиху.
– Никогда не поверю, что Юг станет терпеть такое положение вещей. В наше дело это вносит сумятицу и, надо думать, в другие отрасли тоже. Помяните мое слово, мы доиграемся до отпадения южных штатов.
Мистер Тай произнес эту сентенцию с чуть заметным ирландским акцентом.
– Да, к тому идет, – спокойно отвечал Каупервуд. – И ничего тут не поделаешь. Негры, конечно, не стоят всех этих волнений, но агитация в их пользу будет продолжаться. Чем же еще заниматься чувствительным людям? А вашей торговле с Югом это сильно вредит.
– Я держусь такого же мнения, да и слышу то же самое со всех сторон.
По уходе молодого Каупервуда мистер Тай занялся другим клиентом, но нет-нет да и вспоминал юношу, поразившего его глубиной и здравостью своих суждений о финансовых делах.
«Если этот молодой человек захочет переменить место, я предложу ему работать у меня», – решил он.
И однажды сказал Фрэнку:
– Вы не хотели бы попытать свои силы в биржевом деле? У меня как раз освободилось место.
– С удовольствием, – улыбаясь, отвечал Каупервуд, видимо, польщенный. – Я и сам собирался просить вас об этом.
– Ну что ж, если вы решитесь перейти ко мне, место за вами. Приступайте, когда вам будет угодно.
– Я должен заблаговременно предупредить своих хозяев, – заметил Фрэнк. – Вы не могли бы подождать недели две?
– Разумеется. Никакой спешки нет. Улаживайте все свои дела. Я вовсе не хочу ставить Уотерменов в затруднительное положение.
Лишь две недели спустя Фрэнк распрощался с компанией Уотерменов; его интересовали, но ничуть не опьяняли открывавшиеся перед ним перспективы. Мистер Джордж Уотермен очень расстроился, а мистера Генри эта измена привела в сильнейшую досаду.
– А я-то думал, что вам у нас нравится! – воскликнул он, когда Каупервуд сообщил ему о своем решении. – Может быть, вы недовольны жалованьем?
– Нет, мистер Уотермен, я просто хочу заняться биржевым делом.
– Так, так. Сожалею, очень сожалею. Я не хочу вас отговаривать, если это во вред вашим интересам. Вам виднее. Но мы с Джорджем собирались через некоторое время предложить вам стать нашим компаньоном. А вы вдруг, здорово живешь, сорвались с места – и до свиданья. Ведь в нашем деле, черт возьми, можно заработать хорошие деньги.
– Я знаю, – с улыбкой отвечал Каупервуд, – но оно мне не по душе. У меня другие планы. Я не собираюсь посвящать себя хлебно-комиссионному делу.
Мистер Генри Уотермен никак не мог взять в толк, почему Фрэнка не интересует эта отрасль, если он так явно преуспел в ней. Вдобавок он опасался, как бы уход молодого человека не повредил делам фирмы.
Вскоре Каупервуд пришел к заключению, что новая работа ему куда больше по вкусу – она легче и выгодней. Начать хотя бы с того, что фирма «Тай и К°» помещалась в красивом зеленовато-сером каменном здании – дом шестьдесят шесть по Третьей улице, которая в те времена, да еще и много лет спустя была центром местного финансового мира. Тут же рядом находились банкирские дома, известные не только в Америке, но и за ее пределами: «Дрексель и К°», Третий национальный банк, Первый национальный банк, а также фондовая биржа и другие подобные учреждения. По соседству приютились еще десятка два банков и биржевых контор помельче. Эдвард Тай, глава и «мозг» фирмы, родом из Бостона, был сыном преуспевшего и разбогатевшего в этом консервативном городе ирландца-иммигранта. В Филадельфию мистера Тая привлекли широкие возможности спекуляций. «Это самое подходящее место для человека, умеющего держать ухо востро», – с легким ирландским акцентом говаривал он своим друзьям. Себя он считал именно таким человеком. Это был мужчина среднего роста, не слишком полный, с легкой и несколько преждевременной проседью, по натуре жизнерадостный и добродушный, но в то же время задорный и самоуверенный. Над верхней губой у него топорщились коротко подстриженные седые усики.
– Беда с этими пенсильванцами, – жаловался он уже вскоре после переезда. – Никогда не платят наличными, норовят всучить вексель.
В ту пору кредит Пенсильвании, а следовательно, и Филадельфии, несмотря на богатство штата, стоил очень низко.
– Если дело дойдет до войны, – говорил мистер Тай, – то целые легионы пенсильванцев начнут предлагать векселя в уплату за обед. Проживи я целых два века, я разбогател бы на покупке пенсильванских векселей и обязательств. Когда-нибудь они, верно, расплатятся с долгами, но, бог ты мой, до чего же это медленно делается! Я буду лежать в могиле раньше, чем они покроют мне хотя бы проценты по своей задолженности.
Он не ошибался. Финансы штата и города находились в весьма плачевном состоянии. И тот и другой были достаточно богаты, но поскольку казну обирали все, кому не лень, и любыми способами, то всякие новые начинания в штате требовали выпуска новых облигаций. Эти облигации, или обязательства, как их называли, гарантировали шесть процентов годовых, но, когда наступал срок уплаты процентов, казначей города или штата ставил на них штамп с датой предъявления, и проценты по обязательствам начислялись с этого дня не только на номинал, но и на накопившиеся проценты. Иначе говоря, это было постепенное накопление процентов. Людям, нуждавшимся в наличных деньгах, от этого толку было мало, ибо под залог таких обязательств банки выдавали не более семидесяти процентов их курсовой стоимости, продавали же они не по паритету, а по девяносто за сто. Конечно, их можно было покупать в расчете на будущее, но уж очень долго приходилось ждать. Окончательный выкуп этих обязательств опять-таки сопровождался жульническими махинациями. Зная, что те или иные обязательства находятся в руках «добрых знакомых», казначей опубликовывал сообщение, что такие-то номера – именно те, которые были ему известны, – будут оплачены.
Более того, вся денежная система Соединенных Штатов тогда еще только начинала переходить от состояния полного хаоса к состоянию, отдаленно напоминавшему порядок. Банк Соединенных Штатов, основанный Николасом Бидлом, в 1841 году был окончательно ликвидирован. В 1846 году Министерство финансов Соединенных Штатов организовало свою систему казначейств. И все же фиктивных банков существовало столько, что владелец небольшой меняльной конторы поневоле становился ходячим справочником платежеспособных и неплатежеспособных предприятий. Правда, мало-помалу положение улучшалось, так как телеграф облегчил не только обмен биржевой котировкой между Нью-Йорком, Бостоном и Филадельфией, но даже и связь между конторой местного биржевого маклера и фондовой биржей. Другими словами, в обиход начали входить частные телеграфные линии, действовавшие на коротком расстоянии. Взаимный обмен информацией стал более быстрым, доступным и совершенствовался день ото дня.
Железные дороги уже протянулись на юг, на восток, на север и на запад. Но еще не было автоматической регистрации курсов, не было телефона; в Нью-Йорке совсем недавно додумались до расчетной палаты, в Филадельфии она еще не была учреждена. Ее заменяли рассыльные, метавшиеся между банками и биржевыми конторами; они же сводили балансы по банковским счетным книжкам, обменивали векселя и раз в неделю переправляли в банк золотую монету – единственное средство для окончательного расчета по задолженности, так как твердой государственной валюты в те времена не существовало. На бирже, когда гонг возвещал о прекращении сделок на сегодняшний день, в середине зала – точь-в-точь как в Лондоне – собирались в кружок молодые люди, именовавшиеся «расчетными клерками»; они сверяли и подытоживали всевозможные покупки и продажи, аннулируя те из них, которые взаимно погашались в результате повторных сделок между фирмами. Заглядывая в счетные книги, они выкрикивали сделки, которые были произведены за день: «Делавэр и Мэриленд» продала компании «Бомонт», «Делавэр и Мэриленд» продала компании «Тай» и т. д. Такой способ упрощал бухгалтерию фирм, ускоряя и оживляя сделки.
Место на фондовой бирже стоило две тысячи долларов. Согласно правилам, недавно введенным биржевым комитетом, сделки дозволялось заключать между десятью часами утра и тремя пополудни (раньше это делалось в любое время – с утра и до полуночи). Тот же комитет установил твердые ставки за услуги, оказываемые маклерами, вместо прежних бесцеремонных поборов. Нарушители подвергались суровым взысканиям. Иными словами, делалось все возможное для укрепления биржи, и Эдвард Тай, наравне с другими маклерами, возлагал большие надежды на будущее.
Глава VI
К этому времени семейство Каупервуд уже обосновалось в своем новом, более поместительном и лучше обставленном жилище на Фронт-стрит, возле самой реки. Дом был четырехэтажный, с фасадом длиной в двадцать пять футов, двора при нем не было. Здесь Каупервуды начали время от времени устраивать небольшие приемы для тех представителей различных отраслей коммерции, с которыми Генри Каупервуд встречался на своем пути, неукоснительно приближавшем его к посту главного кассира. Общество это не отличалось изысканностью, но в числе гостей бывали лица столь же преуспевшие, как и Каупервуд, – хозяева небольших предприятий, связанных деловыми отношениями с его банком, торговцы мануфактурой, кожевенными товарами, хлебом и оптовики-бакалейщики. У детей завелась своя компания. Миссис Каупервуд тоже изредка устраивала дневное чаепитие или вечер для своих знакомых по церковному приходу, и тогда Каупервуд пытался играть роль светского человека, обычно сводившуюся к тому, что он стоял с благодушно-глуповатым видом и приветствовал гостей жены. Так как он умел сохранять серьезно-торжественное выражение на лице и выслушивать приветствия, не требовавшие пространных ответов, то эта церемония не особенно его обременяла. Иногда у Каупервудов пели, иногда немного танцевали; вскоре гости стали приходить запросто к обеду, чего прежде никогда не водилось.
И вот в первый же год своей жизни в новом доме Фрэнк познакомился с некоей миссис Сэмпл и увлекся ею. У ее мужа был большой обувной магазин на Честнат-стрит близ Третьей улицы, и он уже подумывал об открытии второго на той же Честнат-стрит, чуть подальше.
Однажды вечером Сэмпл с женой нанесли визит Каупервудам. Мистер Сэмпл хотел побеседовать с хозяином дома о новом, только что зародившемся виде городского транспорта – конной железной дороге. Опытная линия протяженностью в полторы мили, построенная Северо-Пенсильванской железнодорожной компанией, была только что сдана в эксплуатацию. Начинаясь на Уиллоу-стрит, она шла вдоль Фронт-стрит до Джермантаун-роуд, а оттуда по разным улицам до места, известного под названием «Станция Кохоксинк». Считалось, что этот способ передвижения постепенно вытеснит сотни омнибусов, которые курсировали по городу и сильно затрудняли пешеходное движение в его торговой части. Молодой Каупервуд с самого начала заинтересовался этим предприятием. Железнодорожное дело вообще занимало Фрэнка, эта же его разновидность – в особенности. Конка вызывала оживленные споры, и Фрэнк вместе с другими любопытными отправился на нее взглянуть. Странного и непривычного вида вагон – четырнадцать футов в длину, семь в ширину и приблизительно столько же в высоту, – поставленный на маленькие железные колеса, предоставлял пассажирам несравненно больше удобств, чем омнибус. Альфред Сэмпл уже втихомолку помышлял о том, чтобы вложить деньги во вторую, намечавшуюся линию, которая, по получении санкции городских властей, должна была пройти по Пятой и Шестой улицам.
Каупервуд-старший прочил этому предприятию блестящую будущность, хотя не понимал еще, откуда возьмутся средства для его осуществления. Фрэнк, со своей стороны, считал, что компании «Тай» следовало бы взять на себя реализацию акций будущей линии Пятой в Шестой улиц, если город выдаст разрешение на таковую. Он слышал, что акционерное общество организовалось и уже готовит большой выпуск акций, которые будут пущены в продажу по пяти долларов за штуку при паритете – в конечном итоге – в сто долларов. Фрэнк очень сожалел, что у него недостаточно денег для покупки солидного пакета этих акций.
Меж тем Лилиан Сэмпл пленила Фрэнка и завладела его воображением. Трудно сказать, что влекло молодого Каупервуда к ней, ибо ни по темпераменту, ни по уму она не была ему ровней. Фрэнк уже приобрел некоторый опыт в отношениях с женщинами и по-прежнему дружил с Марджори Стэффорд. Тем не менее Лилиан Сэмпл, хотя ни умом, ни красотой она не превосходила других и вдобавок была замужем, так что он не мог иметь серьезных намерений, больше всех волновала его. Ей было двадцать четыре года, а ему всего девятнадцать, но душой и телом она казалась такой же юной, как он. Высокая, чуть выше его, хотя он к этому времени уже достиг своего предельного роста (пять футов и десять с половиной дюймов), она все же была очень изящна. От нее веяло невозмутимым спокойствием, объяснявшимся скорее поверхносностью восприятия, нежели силой характера. У Лилиан были густые пышные волоса пепельного оттенка, бледное, узкое, почти восковое лицо, нежно-розовые губы и прямой нос. Ее серые глаза в зависимости от освещения казались то голубыми, то совсем темными. Руки ее поражали тонкостью и красотой. Она не отличалась ни живостью, ни блеском ума, движения ее были медлительны и как-то бессознательно пластичны. Каупервуда увлекла ее внешность. Она вполне соответствовала его тогдашним представлениям об идеале красоты. «Как она прелестна, – думал он, – как мила, и притом сколько в ней достоинства». Если бы он мог выбирать, то выбрал бы себе именно такую жену.
В своих суждениях о женщинах Каупервуд руковод-ствовался больше чувством, чем разумом. Стремясь добиться богатства, престижа и влияния, он, конечно, придавал большое значение представительности женщины, ее положению в обществе и всему прочему. Но тем не менее некрасивые женщины никогда не привлекали его, красавицы же привлекали очень сильно. Он не раз слышал дома рассказы о самопожертвовании женщин, как, впрочем, и мужчин, слышал о женщинах-труженицах, рабски преданных своим мужьям, или детям, или семье в целом, женщинах, которые в критические минуты всем поступались для родных или друзей, движимые чувством долга и добросердечием. Но эти истории почему-то не трогали его. Он предпочитал считать всех, даже женщин, откровенно эгоистичными. Почему – объяснить он не мог. Люди, не способные к самозащите и не умеющие найти выход из любого положения, казались ему глупыми или в лучшем случае несчастными. Как много говорилось вокруг о высокой нравственности, как превозносились добродетели и порядочность, как часто воздевались к небу руки в праведном ужасе перед теми, кто нарушил седьмую заповедь или хотя бы был заподозрен в нарушении таковой! Фрэнк не принимал таких разговоров всерьез. Он и сам уже не раз нарушал эту заповедь. То же самое делали и другие молодые люди. Правда, уличные женщины претили ему. В соприкосновении с ними было много низменного и гадкого. На первых порах ему нравился мишурный, вульгарный блеск «веселых домов». В их роскоши был известный размах: красная плюшевая мебель, шикарные красные портьеры, безвкусные, зато оправленные в дорогие рамы картины и прежде всего сами обитательницы. Здоровые и сильные или же чувственные и флегматичные – женщины, которые (по выражению его матери) «подстерегали» мужчин. Выносливость их тела и похотливость души, способность с показной ласковостью и радушием принимать одного мужчину за другим – все это вначале изумляло Фрэнка, но вскоре стало вызывать в нем отвращение. К тому же они были тупы. От них нельзя было услышать ни одного живого слова. И подумать только, ничего другого они делать не умели. Он мысленно рисовал себе их тоскливое пробуждение после угарных ночей, отвратительный осадок в душе, который лишь отчасти могли рассеять сон и жажда наживы. И Фрэнку, несмотря на его молодость, становилось грустно. Ему хотелось близости, в которой было бы больше интимного, утонченного, оригинального, личного.
И вот появилась Лилиан Сэмпл, всего лишь отдаленное подобие идеала. Тем не менее она облагородила его представление о женщине. В ней не было животной силы к необузданности, как в тех женщинах из вертепов, грубо и бесстыдно нарушавших общепринятые понятия и воззрения, – и этого одного уже было достаточно, чтобы Лилиан ему нравилась.
Она жила в его мыслях даже в эти горячие дни, которые словно вспышки пламени озаряли его деятельность на новом поприще. Ибо биржевой мир, в который окунулся Каупервуд, каким бы примитивным он нам ни казался сегодня, для него был исполнен очарования. Зал фондовой биржи на Третьей улице, где собирались маклеры, их агенты и служащие – в общей сложности человек полтораста, – отнюдь не был архитектурной достопримечательностью – просто квадратное помещение размером шестьдесят футов на шестьдесят, объединявшее два верхних этажа четырехэтажного дома. Но Фрэнка зал этот приводил в восторг. Окна там были высокие и узкие, прямо напротив входа, на западной стене, висели часы с огромным циферблатом, а северо-восточный угол загромождали конторки, стулья и целое скопище телеграфных аппаратов. В раннюю пору существования биржи в зале рядами стояли стулья, на которых сидели маклеры, прислушиваясь к всевозможным предложениям акций. Впоследствии эти стулья убрали, и в различных местах зала были установлены столбики (либо сделаны отметки на полу), указывавшие, где продаются те или иные бумаги. Вокруг таких столбиков толпились люди, заинтересованные в заключении сделок. Из коридора третьего этажа дверь вела на тесную и кое-как обставленную галерею для публики. На западной стене висела громадная черная доска, на которой отмечалась котировка[6] акций, передаваемая по телеграфу из Нью-Йорка и Бостона. В середине зала, за низенькой загородкой, находилось место официального председателя, а на высоте третьего яруса, с западной стороны, был еще маленький балкон – на него для экстренных сообщений выходил секретарь биржевого комитета. В юго-западном углу была дверь, которая вела в комнату, где биржевики знакомились со всевозможными отчетами и годичными обзорами.
Молодого Каупервуда не допустили бы на биржу ни как маклера, ни как маклерского агента или помощника, если бы Тай, нуждавшийся в нем и уверенный, что такой человек будет ему полезен, не купил для него места. Две тысячи долларов, которые оно стоило, он записал как долг Фрэнка, после чего во всеуслышание объявил его своим компаньоном. Такое фиктивное товарищество противоречило правилам биржи, но маклеры нередко прибегали к нему. Младших компаньонов и подручных насмешливо называли «восьмушечниками» и «двухдолларовыми маклерами», потому что они гнались за любым мелким заработком и готовы были покупать и продавать по чьему угодно поручению, отчитываясь, конечно, перед своей фирмой в произведенных операциях. Несмотря на свои выдающиеся способности, Фрэнк на первых порах тоже считался «восьмушечником» и был отдан под начало мистеру Артуру Райверсу, полномочному представителю компании «Тай» на бирже.
Райверс был необыкновенно энергичный человек, лет тридцати пяти, элегантный, хорошо сложенный, с чисто выбритым, жестким и словно точеным лицом, которое украшали коротко подстриженные черные усики и тонкие черные брови. Волосы его посередине разделялись аккуратным пробором. Подбородок чуть заметно раздваивался. Голос у Райверса был мягкий, манеры спокойные и сдержанные; он всегда и везде был одинаково корректен. Вначале Каупервуд недоумевал, зачем Райверсу, такому опытному дельцу, служить у мистера Тая, но впоследствии узнал, что Райверс – участник в деле. Тай был организатор, он принимал клиентов в конторе, а Райверс представлял фирму на бирже и ведал внешними сношениями.
Вскоре Фрэнк убедился, что не стоит даже пытаться понять, почему акции то поднимаются, то падают. Это, конечно, определялось какими-то общими причинами, как объяснил ему Тай, но учесть их было почти невозможно.
– Любая причина может вызвать на бирже и бум, и панику, – говорил Тай со своим своеобразным акцентом, – будь то крах банка или только слух, что бабушка вашего двоюродного брата схватила насморк. Биржа совсем особый мир, Каупервуд. Никто на свете не сумеет вам его объяснить. Я видел, как вылетали в трубу акционерные общества, хотя даже самый опытный биржевик не мог бы сказать, по какой причине. Я видел также, как акции необъяснимо взлетали до небес. Ох, эти биржевые слухи! Сам дьявол не придумает ничего подобного. Обычно, если акции падают, значит, кто-то выбрасывает их на биржу или же на рынке общая депрессия. Если акции поднимаются, значит, то ли конъюнктура благоприятна, то ли кто-то скупает их. Это уж факт. Больше того… Ну да пусть Райверс познакомит вас со всей подноготной. Об одном я должен вас предупредить: никогда не вводите меня в убыток. Это самый тяжкий грех, какой может совершить доверенный моей конторы.
При этих словах Тай улыбнулся любезно, но многозначительно.
Каупервуд понял, но… к его сведениям это ничего не прибавило. Этот лукавый мир нравился ему и соответствовал его темпераменту.
Слухи, слухи, слухи неслись со всех сторон – о широких планах строительства железных дорог и коночных линий, об освоении новых земель, о пересмотре правительством таможенных тарифов, о войне между Францией и Турцией, о голоде в России и в Ирландии и т. п. и т. д. Первый трансатлантический кабель еще не был проложен, новости из-за границы доходили медленно и скудно. Тем не менее на биржевой арене подвизались крупнейшие финансисты, такие, как Сайрус Филд, Уильям Вандербильдт или Ф. Дрексель; они творили чудеса, и деятельность их, равно как и всевозможные слухи о ней, играла огромную роль в жизни биржи.
Фрэнк быстро овладел техникой дела. Он узнал, что того, кто покупал в чаянии повышения курса, называли быком, если же этот маклер уже скупил большие партии определенных пенных бумаг, то про него говорили, что он «нагрузился до отказа». Когда он начинал продавать, это значило, что он «реализует» свой барыш, если же его маржа[7] иссякала – он «прогорал». «Медведем» назывался биржевик, продававший акции, которых у него по большей части не было в наличии, с расчетом на их падение, чтобы тогда по дешевке закупить их и покрыть свои запродажные сделки. Покуда он продавал бумаги, не имея их, он считался «пустым»; если же он покупал акции, чтобы удовлетворить клиента и положить в карман прибыль или с целью избежать убытка от непредвиденного повышения курсов, то на биржевом жаргоне говорили, что он «покрывается». Когда обнаруживалось, что он не может достать акций, чтобы вернуть их тем, у кого он их раньше занял для выполнения заказа, он оказывался «загнанным в угол». Тогда ему приходилось покрывать свою задолженность по ценам, назначенным лицами, которым он и другие «пустые» маклеры запродали ценности.
В первое время Фрэнка забавлял таинственный вид и выражение всезнайства, свойственное молодым маклерам. Они были так искренне и так нелепо подозрительны. Более опытные их коллеги, как правило, оставались непроницаемы. Они разыгрывали равнодушие и нерешительность, но сами, как хищные рыбы, высматривали соблазнительную добычу. Мгновение – и возможность упущена: кто-то другой воспользовался ею. Каждый из них не выпускал из рук маленького блокнота. У каждого была своя манера подмигивать, своя характерная поза или жест, означавшие: «Идет. Я беру». Иногда казалось, что они почти не подтверждают своих продаж или покупок – они ведь так хорошо знали друг друга. Но это только казалось. Когда на бирже почему-либо царило оживление, там толпилось куда больше биржевиков и их агентов, чем в дни, когда биржа работала вяло и в делах наблюдался застой. Удар гонга в десять часов утра возвещал начало операций, и когда намечалось заметное повышение или понижение акций одной или нескольких компаний, там можно было наблюдать любопытную картину. Человек пятьдесят, а то и сто сразу кричали, размахивали руками, метались как угорелые из стороны в сторону, стараясь извлечь выгоду из предлагаемых или требуемых бумаг.
– Даю пять восьмых за пятьсот штук П и У! – выкликал маклер – Райверс, Каупервуд или кто-нибудь другой.
– Пятьсот по три четверти! – кричал в ответ агент, получивший указание продавать по этой цене или игравший на понижение, в надежде позднее купить нужные акции и выполнить полученный заказ да еще кое-что подработать на разнице.
Если акций по этой цене на бирже было много, то покупатель, Райверс к примеру, стоял на своих «пяти восьмых». Заметив, однако, что спрос на интересующие его бумаги возрастает, он платил за них и «три четверти». Если профессиональные биржевики подозревали, что Райверс получил заказ на крупную партию тех или иных акций, они всячески старались забежать вперед и купить их до него хотя бы по «три четверти», в расчете затем продать их ему с небольшой наценкой. Эти профессионалы были, конечно, тонкими психологами. Их успех зависел от способности угадать, имеет ли тот или иной маклер, представляющий какого-нибудь крупного дельца вроде Тая, достаточно большой заказ, чтобы воздействовать на рынок и дать им возможность «обернуться», как они выражались, с барышом, прежде чем он кончит свои закупки. Так коршун настороженно выжидает случая вырвать добычу из когтей соперника.
Четыре, пять, десять, пятнадцать, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят человек, а временами и вся толпа, пытались использовать повышение той или иной бумаги, предлагая или покупая ее; в таких случаях поднималась невообразимая суета, и шум становился оглушительным. Отдельные группы продолжали заниматься куплей-продажей других бумаг, но подавляющее большинство бросало все свои дела, чтобы не упустить выгодного случая. Более молодые маклеры и клерки, горя желанием охватить все разом и обернуть в свою пользу падение или повышение ценностей, носились взад и вперед, возбужденно жестикулировали и обменивались знаками, подымая кверху условленное число пальцев. Искаженные лица выставлялись из-за чужих плеч, из-под чужих рук. Все как-то странно кривлялись – сознательно или бессознательно. Стоило кому-нибудь высказать намерение купить или продать бумаги по сулившей прибыль цене, как он уже оказывался втянутым в сплошной круговорот рук, плеч и голов. Вначале все это – вернее, внешняя сторона всего этого – очень занимало молодого Каупервуда, так как он любил толпу, любил оживление; но вскоре живописность и драматизм сцен, в которых он сам принимал участие, померкли для него, и он начал уяснять себе внутренний смысл всего происходящего. Покупка и продажа акций были искусством, тонким мастерством, чуть ли не психической эмоцией. Подозрительность, целеустремленность, чутье – вот что нужно было для успеха.
По прошествии некоторого времени он уже стал задаваться вопросом: кто же, собственно, больше всего на этом наживается? Маклеры? Ничего подобного! Кое-кто из них, правда, неплохо зарабатывал, но все они – и Фрэнк скоро понял это, – словно стая голодных чаек или буревестников, налетали с подветренной стороны, алчно выслеживая неосторожную рыбу. За их спиной стояли другие – люди неистощимого коварства, изворотливого ума – крупные капиталисты, чьи предприятия и богатства олицетворялись этими акциями. Это они проектировали и строили железные дороги, разрабатывали рудники, создавали коммерческие предприятия и гигантские фабрики. Правда, они прибегали к услугам маклеров для биржевых операций, но все – и купля и продажа – могло быть и было только побочным явлением – основой оставались рудники, железные дороги, урожаи, мельницы и т. п. Все остальное, что не было обыкновенной продажей с целью скорейшего получения наличного капитала или обыкновенной покупкой с целью вложения средств, оказывалось просто неприкрашенной азартной игрой, а те, кто этим занимался, – игроками. И сам он, Фрэнк, всего-навсего агент игрока. Сейчас он еще не огорчался этим, но загадки более не существовало, он знал, кто он такой. Как и раньше, когда он работал у «Уотермена и К°», он любил мысленно классифицировать своих собратьев по профессии: одни оказывались слабовольными, другие глупыми, третьи умными, четвертые неповоротливыми, но все – мелкие душонки, неполноценные люди, ибо они были агентами, орудием в чужих руках или азартными игроками. Настоящий человек никогда не станет ни агентом, ни покорным исполнителем чужой воли, ни игроком, ведущим игру, все равно – в своих или в чужих интересах; нет, люди этого сорта должны обслуживать его, Фрэнка. Настоящий человек – финансист – не может быть орудием в руках другого. Он сам пользуется таковым. Он создает. Он руководит.
Ясно, исчерпывающе ясно. Каупервуд понял все это в девятнадцать или в двадцать лет, но в ту пору он еще не созрел для того, чтобы сделать из своего знания практические выводы. Тем не менее он твердо верил: настанет и его час.
Глава VII
Меж тем, как это ни странно, увлечение Фрэнка женой мистера Сэмпла втайне продолжало расти. Однажды, получив приглашение посетить их дом, он откликнулся на это с большим удовольствием. Сэмплы жили неподалеку от Каупервудов, на Фронт-стрит. Летом их особнячок утопал в зелени. С маленькой веранды на южной стороне открывался очаровательный вид на реку; все окна и двери в верхней своей части были украшены полукружьями из мелких стекол. Внутреннее убранство дома было далеко не таким, каким хотелось бы его видеть Фрэнку. Ни малейшей утонченности, хотя мебель новая и добротная. Картины… ну что ж, картины как картины. Книги и вовсе не заслуживали упоминания – Библия, два-три модных романа, несколько более или менее солидных альманахов и куча устарелого книжного хлама, доставшегося Сэмплам по наследству. Фарфор был превосходный, нежного рисунка. Ковры и обои неприятно кричащих тонов. Зато хороша была сама Лилиан: какую бы позу ни приняла эта женщина, она оставалась неизменно прекрасной.
Детей у них не было, но не по вине миссис Сэмпл, ей очень хотелось ребенка. Она мало встречалась с людьми, если не считать девических лет, когда ее родителей порою навещали родственники и кое-кто из соседей. Двое братьев и сестра Лилиан тоже жили в Филадельфии и уже успели обзавестись семьями. Они считали, что Лилиан сделала прекрасную партию.
Она никогда не была пылко влюблена в мистера Сэмпла, хотя охотно вышла за него. Сэмпл отнюдь не принадлежал к людям, способным пробудить сильную страсть в женщине. Отличительными его чертами были практичность и педантичная аккуратность. Обувной магазин у него был хороший, с большим ассортиментом модного товара, помещение светлое и очень чистое. На мистера Сэмпла иногда нападала разговорчивость, и тогда он долго толковал об обувном производстве, новых колодках и моделях. В торговый обиход тогда только начинала входить готовая обувь – частично уже и машинной выработки; у мистера Сэмпла всегда имелся запас такой обуви, но он не отказывался и от услуг сапожников-кустарей, которые шили на заказ по мерке.
Миссис Сэмпл любила иногда немного почитать, но чаще сидела, словно погруженная в раздумье, что, впрочем, отнюдь не объяснялось ее глубокомыслием. Зато она при этом блистала той редкой красотой, которая делала ее похожей на античную статую или на участницу греческого хора. Без сомнения, такой именно она и представлялась Каупервуду, ибо он с самого начала не в силах был отвести от нее взора. Миссис Сэмпл замечала его восхищенные взгляды, но не придавала им особого значения. Привыкшая уважать условности и уверенная, что судьба ее навсегда связана с судьбою мужа, она наслаждалась тихим и безмятежным существованием.
В первое время, когда Фрэнк стал бывать у них, она не знала, о чем с ним говорить. Лилиан приветливо встречала гостя, но бремя беседы всецело ложилось на мужа. Каупервуд то и дело взглядывал на миссис Сэмпл, следя за выражением ее лица, и, будь она чуть-чуть подогадливее, она поняла бы, что за этим кроется. К счастью, она была недогадлива. Мистер Сэмпл любезно беседовал с гостем, во-первых, потому, что молодой Каупервуд заметно выдвигался в финансовом мире, был учтив и вкрадчив, а во-вторых, потому, что мистер Сэмпл был не прочь приумножить свое состояние, а Фрэнк в его глазах олицетворял финансовый успех. Однажды весенним вечером они все трое сидели на веранде и болтали – так, о пустяках – о негритянском вопросе, о конке, о только что разразившейся финансовой панике (это было в 1857 году) и о быстром развитии Запада. Мистер Сэмпл хотел узнать поподробнее о фондовой бирже, а Фрэнк, со своей стороны, расспрашивал его об обувном деле, хотя, по правде говоря, нисколько таковым не интересовался. Все это время он украдкой наблюдал за миссис Сэмпл. Какая у нее мягкая, ласковая и прелестная манера держать себя, думал он. Она подала чай с печеньем. Немного погодя все вошли в комнаты, спасаясь от комаров. Миссис Сэмпл села за рояль. В десять часов Фрэнк откланялся.
После этого вечера молодой Каупервуд год или полтора покупал себе обувь у мистера Сэмпла, иногда же просто заглядывал к нему в магазин на Честнат-стрит перекинуться несколькими словами. Однажды Сэмпл спросил его, стоит ли приобрести акции коночной линии Пятой и Шестой улиц, уже получившей от города разрешение, – событие, вызвавшее большой ажиотаж на бирже. Каупервуд изложил ему свои соображения. Дело это, несомненно, сулит прибыль. Сам он уже приобрел сто акций по пять долларов и потому настоятельно советует Сэмплу последовать его примеру. Собственно, этот человек был глубоко безразличен Фрэнку, но миссис Сэмпл ему по-прежнему нравилась, хотя он и редко ее видел.
Примерно через год мистер Сэмпл скончался. Это была безвременная смерть, случайный, малозначительный эпизод на фоне других событий, но печальный для близких. Поздней осенью он схватил простуду – пустячное заболевание, которое случается, когда человек промочил ноги или в сырую погоду вышел без пальто. Он все-таки отправился в магазин, несмотря на уговоры миссис Сэмпл. Человек тихий и сдержанный, он по-своему был очень упрям и неустанно пекся о своем деле. Он уже видел себя в ближайшем будущем обладателем состояния в пятьдесят тысяч долларов. И вдруг – простуда, девять дней в постели с воспалением легких, и мистера Сэмпла не стало. Обувной магазин закрыли на несколько дней, дом наполнился соболезнующими друзьями и церковнослужителями. Затем отпевание в Кэллоухиллской пресвитерианской церкви, прихожанами которой были супруги Сэмпл, и похороны. Миссис Сэмпл горько плакала. Смерть, увиденная так близко, потрясла ее, и некоторое время она была очень удручена. Ее брат, Дэвид Уиггин, временно взял на себя ведение дела. Завещания покойный не оставил, но после того, как вопрос о наследстве был урегулирован и обувной магазин продан, миссис Сэмпл получила свыше восемнадцати тысяч долларов, ибо никто не оспаривал ее права на безраздельное владение всем имуществом. Она осталась жить на той же Фронт-стрит и слыла интересной вдовушкой.
Во время всех этих событий молодой Каупервуд, которому только что исполнилось двадцать лет, вел себя достаточно активно. Он заходил во время болезни мистера Сэмпла. Присутствовал на похоронах. Помогал брату миссис Сэмпл ликдивировать обувное дело. После похорон он раза два навестил вдову и потом долго не показывался. Месяцев через пять он снова появился и с той поры уже стал навещать Лилиан каждую неделю или десять дней.
Повторяем: трудно сказать, что он нашел в Лилиан Сэмпл. Может быть, красивое, бледное личико так привлекало его, а может быть, ее равнодушие распаляло его задорную натуру. Он и сам не мог бы объяснить, почему он так настойчиво и страстно желал ее. Он не мог спокойно думать о Лилиан и почти никогда не говорил о ней. В семье знали, что он у нее бывает, но Каупервуды к этому времени уже научились уважать внутреннюю силу и ум Фрэнка. Он был приветлив, жизнерадостен, большей частью весел, не будучи болтлив, и вдобавок, безусловно, шел в гору. Все знали, что он уже научился делать деньги. Жалованья он получал пятьдесят долларов в неделю, и у него имелись все основания вскоре ожидать прибавки. Несколько земельных участков, купленных им три года назад в западной части Филадельфии, значительно поднялись в цене. Его вложения в конные линии умножились благодаря приобретенным им пакетам в пятьдесят, сто и сто пятьдесят акций вновь организовавшихся компаний; несмотря на трудное время, эти бумаги медленно, но верно повышались и при первоначальной стоимости в пять долларов расценивались теперь в десять, пятнадцать и двадцать пять, а со временем должны были дойти до паритета. В финансовых кругах Фрэнка любили, будущее рисовалось ему в радужных красках. По зрелом размышлении он решил, что профессиональным биржевым игроком он не будет. Теперь он уже подумывал об учетно-вексельном деле, по его наблюдениям, выгодном и, при наличии капитала, лишенном каких бы то ни было элементов риска. Благодаря своей работе и связям отца Фрэнк встречался со множеством коммерсантов, банковских деятелей и опытных торговцев. Он знал, что они охотно поручат ему свои дела или хотя бы часть дел. В конторах «Дрексель и К°» и «Кларк и К°» к нему относились очень благожелательно, а Джей Кук, восходящее банковское светило, был его другом.
Между тем Фрэнк продолжал навещать миссис Сэмпл, и чем чаще он бывал у нее, тем больше она ему нравилась. Нельзя сказать, чтобы они вели беседы блестящие и остроумные, но Фрэнк, когда хотел, мог быть приятен и занимателен. Он давал Лилиан такие разумные деловые советы, что даже ее родственники к ним прислушивались. Мало-помалу он начал нравиться ей; внимательный, спокойный и положительный, Фрэнк с готовностью растолковывал Лилиан тот или иной деловой вопрос, пока ей все не становилось ясно. Она видела, что он следит за ее делами с не меньшим вниманием, чем если бы это были его собственные, и старается упрочить ее материальное благополучие.
– Какой вы добрый, Фрэнк, – однажды сказала она ему. – Я вам бесконечно благодарна. Право, не знаю, что я стала бы делать без вас.
Она взглянула на его красивое лицо, с детской непосредственностью обращенное к ней.
– Полноте, полноте! Мне это так приятно. Я пришел бы в отчаяние, если бы не мог быть вам полезен.
Его глаза не загорелись, но засветились каким-то мягким, теплым светом. Миссис Сэмпл ощутила прилив нежности: как хорошо, когда можно опереться на такого человека.
– Как бы то ни было, я вам от души благодарна. Вы очень добры ко мне. Приходите опять, в воскресенье или в любой другой вечер. Я буду дома.
Как раз в пору, когда Фрэнк так зачастил к миссис Сэмпл, на Кубе умер его дядя Сенека, оставив ему пятнадцать тысяч долларов. Вместе с этими деньгами в распоряжении Фрэнка теперь оказался капитал в двадцать пять тысяч долларов, и он уже точно знал, как им распорядиться. Вскоре после смерти мистера Сэмпла финансовый мир охватила паника, наглядно показавшая Фрэнку, сколь ненадежно маклерское дело. В промышленном мире наступила полнейшая депрессия. Свободные деньги стали редки, можно сказать, вовсе исчезли. Капитал, испуганный пошатнувшейся торговлей и общим денежным положением в стране, глубоко ушел в свои тайники – в банки, подвалы, чулки и кубышки. Страна, казалось, летела в пропасть. Впереди уже маячила война с Югом или его отпадение. Нервная лихорадка охватила всю нацию. Люди выбрасывали на рынок все свои ценности, лишь бы раздобыть наличные деньги. Тай уволил из своей конторы троих служащих. Он старался экономить на чем только можно и пустил в оборот все личные сбережения, лишь бы спасти вложенный в бумаги капитал. Он заложил свой дом и земельные участки – одним словом, все, что имел. Молодой Каупервуд неоднократно служил ему посредником и носил пакеты акций в разные банки с наказом получить под них сколько удастся.
– Узнайте-ка, не ссудит ли мне банк вашего отца пятнадцать тысяч вот под это, – сказал он однажды Фрэнку, доставая толстую пачку акций «Филадельфия и Уилмингтон».
Фрэнк помнил, что отец некогда называл их весьма солидными.
– Вообще говоря, это очень хорошие бумаги, – нерешительно произнес Каупервуд-старший при виде акций. – Вернее, они были бы хороши во всякое другое время. Но сейчас так трудно с наличными. Мы с величайшим напряжением расплачиваемся по нашим собственным обязательствам. Впрочем, я поговорю с мистером Кугелем (Кугель был председателем правления банка).
Последовал долгий разговор, долгое ожидание. Наконец старший Каупервуд вернулся и сообщил Фрэнку, что они вряд ли смогут провести эту операцию. Восемь процентов – установившийся в это время дисконт[8] – слишком невыгодные условия, учитывая спрос на деньги. Мистер Кугель если и согласится, то разве что на онкольную ссуду[9] из расчета десяти процентов. Фрэнк вернулся к своему доверителю, коммерческая душа которого возмутилась при этом сообщении.
– Да скажите мне, черт возьми, – негодуя, воскликнул он, – неужели во всем городе нет больше денег? Ведь это же разорение, такие проценты! Я не выдержу. Ну ладно. Забирайте обратно эти акции и тащите мне деньги. Но это никуда не годится, никуда не годится!
Фрэнк снова отправился в банк.
– Мистер Тай согласен на десять процентов, – спокойно объявил он.
Таю был открыт кредит на пятнадцать тысяч долларов с правом немедленного его использования, и он тут же перечислил всю сумму в Джирардский национальный банк, чтобы заткнуть там «прореху». Так шли дела.
Меж тем молодой Каупервуд с интересом всматривался во все осложнявшееся финансовое положение страны. Проблема рабовладельчества, разговоры об отложении Южных штатов, общий подъем или упадок благосостояния страны тревожили его лишь в той мере, в какой они непосредственно затрагивали его интересы. Он стремился стать настоящим финансистом, но теперь, ознакомившись с закулисной стороной биржевого дела, уже не был уверен в своем желании сделать карьеру биржевика. Биржевая игра при условиях, созданных этой паникой, сопряжена с чрезвычайным риском. Многие маклеры разорились. Фрэнк достаточно насмотрелся на их измученные лица, когда они врывались к мистеру Таю и просили его аннулировать те или иные их заявки. Даже дома они не чувствуют себя в безопасности, говорили они. Им грозит окончательная гибель, их жены и дети будут выброшены на улицу.
Эта паника, между прочим, только помогла Фрэнку уяснить себе, чем ему в действительности хотелось заняться. Теперь, когда у него есть свободные средства, он начнет действовать самостоятельно. Даже предложение мистера Тая стать его младшим компаньоном не соблазнило Фрэнка.
– Я считаю, что у вас прекрасное дело, – сказал он, объясняя свой отказ, – но я хочу открыть собственную учетно-вексельную контору. На биржевую игру ставку делать не стоит. Свое, пусть маленькое, дело я предпочитаю всем биржам на свете.
– Но вы еще чертовски молоды, Фрэнк, – возразил его хозяин. – У вас уйма времени впереди для самостоятельной деятельности.
В конце концов они расстались друзьями как с Таем, так и с Райверсом.
– Ох и умен же этот малый! – с сожалением заметил Тай.
– Он своего добьется! – подтвердил Райверс. – Я в жизни не встречал такого способного молодого человека.
Глава VIII
Мир рисовался Каупервуду в розовых тонах. Он был влюблен, и у него были деньги, чтобы начать собственное дело. Под свои акции конных железных дорог, непрерывно поднимавшиеся в цене, он мог получить семьдесят процентов их курсовой стоимости. В случае надобности мог еще заложить земельные участки и таким образом раздобыть солидную сумму. У него существовала налаженная связь с Джирардским банком – Фрэнк нравился директору, мистеру Дэвисону, и рассчитывал, что тот со временем предоставит ему кредит. Оставалось только поместить капитал так, чтобы он поддавался быстрой и безубыточной реализации. По мнению Фрэнка, отличную прибыль сулили все разветвлявшиеся линии конки.
К этому времени Фрэнк приобрел лошадь и коляску, самые элегантные, какие только можно было сыскать – затея эта обошлась ему в пятьсот долларов, – и пригласил миссис Сэмпл покататься с ним. Та сперва отказалась, но потом уступила. Он поведал ей о своих удачах, планах, о пятнадцати тысячах долларов, как с неба свалившихся на него, и, наконец, о своем намерении заняться учетно-вексельным делом. Миссис Сэмпл знала, что его отца в будущем ждал пост вице-директора Третьего национального банка, к тому же Каупервуды вообще нравились ей. Она уже начала понимать, что отношение Фрэнка к ней нельзя назвать просто дружбой. Недавний мальчик стал мужчиной, и ее влекло к нему. Это казалось ей почти смешным. Она старше его, вдова, живет тихой, уединенной жизнью. Но упрямая, спокойная решительность этого юноши красноречивей слов свидетельствовала, что его не остановят никакие условности.
Каупервуд не обманывал себя и не идеализировал своего отношения к ней. Красивая Лилиан духовно и физически неодолимо влекла его – больше он ничего знать не знал. Ни одной другой женщине не удавалось так приковать его к себе. При этом ему и в голову не приходило, что теперь он не может или не должен интересоваться другими женщинами. Болтовня о святости домашнего очага всегда отскакивала от него, как горох от стены. На деньги миссис Сэмпл он не зарился, но, зная, что у нее есть собственный капитал, был уверен, что сумеет с пользой для нее же пустить деньги в оборот. Он жаждал обладать ею и уже с любопытством думал о детях, которые у них будут. Как хотелось ему знать, сумеет ли он заставить ее беззаветно полюбить его, удастся ли ему изгнать из ее памяти воспоминания о прежней жизни. Странное честолюбие! Можно было бы даже сказать – странная извращенность.
Невзирая на все свои страхи и сомнения, Лилиан Сэмпл принимала ухаживанья и заботы Фрэнка, ибо тоже невольно тянулась к нему. Однажды ночью, ложась спать, она подошла к туалетному столику и внимательно оглядела в зеркало свое лицо, свои обнаженные плечи и руки. Как она хороша! Необъяснимое волнение охватило ее, когда она разглядывала свои длинные пепельные волосы. Она подумала о молодом Каупервуде, но перед ее глазами тотчас возник образ покойного мистера Сэмпла, она похолодела и тут же вспыхнула от стыда, представив себе, какую бурю общественного негодования это может вызвать.
– Почему вы так часто приходите ко мне? – спросила она, когда на следующий вечер Фрэнк зашел к ней.
– Разве вы сами не знаете? – проговорил он, все, казалось, объясняя ей своим взглядом.
– Нет!
– Правда не знаете?
– Как вам сказать… Я знаю, что вы были расположены к мистеру Сэмплу и ко мне, как к его жене. Но мистера Сэмпла больше нет.
– Зато есть вы, – отвечал он.
– Я?
– Да. И вы мне нравитесь. Мне хорошо с вами. А вы разве не чувствуете того же?
– Право, я никогда об этом не думала. Вы гораздо моложе меня. Ведь между нами разница в пять лет.
– В годах, – произнес Фрэнк, – а это не имеет значения. Во всем остальном я старше вас лет на пятнадцать. Я знаю жизнь лучше, чем вы когда-либо будете ее знать. Да вы и сами в этом не сомневаетесь, – добавил он мягким, убеждающим тоном.
– Да, это верно. Но зато и я знаю многое, чего не знаете вы.
Она тихо засмеялась, обнажив свои прекрасные зубы.
Уже стемнело. Они сидели на веранде. Река внизу тихо катила свои воды.
– Возможно, – сказал Фрэнк, – потому что вы женщина. Мужчина никогда не может стать на точку зрения женщины. А я говорил о практической стороне жизни, в этом смысле я старше вас.
– Ну и что же?
– Ничего. Вы спросили, зачем я прихожу к вам, вот я и объяснил. Лишь отчасти, конечно.
Он умолк и стал глядеть на реку.
Миссис Сэмпл подняла глаза на гостя. Его красивая фигура, с годами становившаяся все более плотной, была теперь как у вполне зрелого мужчины. Непроницаемый взгляд больших ясных глаз придавал его лицу какое-то ребяческое выражение. О том, что таилось в их глубине, она не догадывалась. Щеки у него были румяные, руки небольшие, но мускулистые и сильные. Ее нежное, хрупкое тело даже на расстоянии впитывало в себя исходившую от него энергию.
– Мне кажется, вам не следует так часто бывать у меня. Люди могут заподозрить нехорошее.
Она решила взять с ним любезно-сдержанный тон почтенной женщины, тон, которого придерживалась в начале их знакомства.
– Люди? – повторил он. – Не тревожьтесь об этом. Люди думают о нас то, что мы хотим им внушить. Мне неприятно, что вы так сухо говорите со мной.
– Почему?
– Потому что я люблю вас.
– Но вы не должны любить меня. Это нехорошо. Я ведь не могу выйти за вас замуж. Вы так молоды, а я уже стара.
– Полноте! – решительно произнес Фрэнк. – Что за вздор! Я хочу, чтобы вы были моей женой. И вы это знаете. Лучше скажите, когда мы поженимся?
– Ну что вы говорите? – воскликнула она. – В жизни ничего подобного не слыхала. Этому не бывать.
– Почему? – спросил он.
– Потому, что… потому, что я старше вас. Это всем показалось бы странным. И я так недавно овдовела.
– Ах, недавно или давно – какое это имеет значение! – раздраженно отозвался Фрэнк. – Единственное, что мне в вас не нравится, это ваше вечное: «Что скажут люди». Люди не строят вашу жизнь. А уж мою и подавно. Прежде всего думайте о себе. Вы сами должны устраивать свою жизнь. Неужели вы допустите, чтобы между вами и вашим желанием становилось то, что подумают другие.
– Но у меня нет этого желания, – с улыбкой перебила его Лилиан.
Фрэнк встал, приблизился к ней и заглянул ей в глаза.
– Ну и что? – взволнованно и слегка насмешливо спросила она.
Он продолжал смотреть на нее.
– Ну и что же? – повторила она, все больше теряясь.
Он наклонился, желая обнять ее, но она встала.
– Нет, не приближайтесь ко мне! – умоляюще заговорила Лилиан. – Я сейчас уйду в комнаты и больше на порог вас не пущу. Это ужасно! Вы с ума сошли! Оставьте меня в покое.
Она проявила такую решительность, что Фрэнк покорился. Но только на этот вечер. Он приходил опять и опять. И однажды, когда комары загнали их в комнаты и миссис Сэмпл снова начала настаивать, чтобы он прекратил свои посещения, уверяя, что его внимание к ней всем бросается в глаза и она будет опозорена, Фрэнк, невзирая на ее отчаянное сопротивление, решительно заключил ее в объятия.
– Что вы, что вы! Перестаньте! – восклицала она. – Я ведь вам говорила! Это же глупо, наконец! Не смейте меня целовать! О-о-о!
Она вырвалась и побежала по лестнице к себе в спальню. Каупервуд быстро последовал за ней. Когда миссис Сэмпл хотела было захлопнуть дверь, он силою отворил ее, снова схватил молодую женщину в объятия и приподнял в воздухе.
– Как вы смеете! – закричала она. – Да я вас больше знать не хочу! Если вы сию же минуту не отпустите меня, ноги вашей здесь больше не будет. Пустите!
– Я отпущу вас, радость моя. Я сам снесу вас вниз, – отвечал он, притягивая ее к себе и покрывая ее лицо поцелуями.
Он был страшно возбужден и взволнован.
Несмотря на то что Лилиан продолжала вырываться и протестовать, он отнес ее вниз, в гостиную и уселся в огромное кресло, по-прежнему крепко прижимая ее к себе.
– Ах! – вздохнула она, поняв, что он не отпустит ее, и бессильно уронила на его плечо голову. Потом, прочитав на лице Фрэнка твердую решимость и вдруг ощутив всю его притягательную силу, она улыбнулась. – Если я выйду за вас замуж, – устало произнесла она, – как я объясню свой поступок? Что скажет ваш отец, ваша мать?
– Вам ничего объяснять не придется. Это сделаю я. И волноваться незачем. Мои родные ничего не скажут.
– А моя семья? – содрогаясь, сказала она.
– Какое им дело? Я женюсь не на вашей семье, а на вас. Мы с вами оба материально независимы.
Она стала приводить новые возражения, но Фрэнк отвечал на них новыми поцелуями. Его ласкам нельзя было не покориться. Мистер Сэмпл никогда не бывал так пылок. Фрэнк пробудил в ней чувства, которых она раньше не ведала. Ей было и страшно и стыдно.
– Так, значит, через месяц мы поженимся? – радостно спросил он, когда она замолчала.
– Вы знаете, что нет! – взволнованно воскликнула Лилиан. – Что за настойчивость! Не будем об этом говорить.
– Не все ли равно – когда? Рано или поздно ты станешь моей женой.
Фрэнк уже думал о том, как очаровательна она будет в другой, новой обстановке. Ни она, ни его семья не умеют жить.
– Но никак не через месяц. Надо подождать. Я выйду за вас, когда вы убедитесь, что действительно этого хотите.
Фрэнк крепко прижал ее к себе.
– Я докажу тебе это, – прошептал он.
– Перестаньте. Вы делаете мне больно.
– Ну, так когда же? Через два месяца?
– Нет, нет.
– А через три?
– Может быть.
– Никаких отговорок. Ты будешь моей женой.
– Но ты совсем еще мальчик.
– Об этом не беспокойся. Ты узнаешь, какой я мальчик.
Новый мир, казалось, открылся ей, и она поняла, что никогда еще не жила по-настоящему. В этом человеке была такая сила, такие горизонты открывались перед ним, о каких ее муж не смел и помышлять. При всей своей юности он был страшен, необорим.
– Хорошо, пускай через три месяца, – прошептала она, в то время как он нежно ее баюкал.
Глава IX
Каупервуд начал свое учетно-вексельное дело с того, что основал маленькую контору в доме номер шестьдесят четыре по Третьей улице, и скоро, к своей радости, убедился, что его прежние хорошо налаженные деловые связи остались в силе. Он обращался к какой-нибудь фирме, по его предположению нуждавшейся в наличных деньгах, и предлагал либо учесть ее векселя, либо взять на себя, на комиссионных началах, распространение любых обязательств, которые она пожелает выпустить из шести процентов годовых; затем он продавал эти бумаги с небольшой накидкой клиенту, искавшему случая вложить деньги в надежное дело. Отец или кто-нибудь из знакомых время от времени давали ему советы, когда и как действовать. На таких двойных сделках он обычно выгадывал четыре-пять процентов. В первый же год, за вычетом всех накладных расходов, у него очистилось шесть тысяч долларов. Не очень много, конечно, но Фрэнк старался приумножить этот доход другим путем, сулившим, по его мнению, большие барыши в будущем.
До того как по Фронт-стрит прошла первая, еще очень неторопливая конка, улицы Филадельфии были запружены сотнями безрессорных омнибусов, громыхавших по булыжной мостовой. Но теперь в Нью-Йорке, по идее Джона Стефенсона, уже были проложены двухколейные пути, и кроме линии на Пятой и Шестой улицах (вагоны шли в одну сторону по одной улице и в обратную по другой), с самого начала дававшей прекрасный доход, множество новых линий было либо запроектировано, либо уже сдано в эксплуатацию. Город спешил заменить омнибусы конкой, так же как раньше спешил заменить каналы железными дорогами. Кое-кто, конечно, противился этим новшествам. Без сопротивления в таких случаях не обходится. Начали кричать о монополии. Разоренные владельцы и оставшиеся без работы кучера омнибусов громко роптали.
Каупервуд безраздельно верил в будущность конных железных дорог. Эта вера побуждала его идти на риск и вкладывать все свободные деньги в акции, выпускавшиеся новыми конно-железнодорожными компаниями. Он всегда стремился выведать закулисную сторону дела, но в данном случае сделать это оказалось нелегко; Фрэнк был еще очень молод, когда прокладывались первые линии, и не имел достаточно солидных связей в финансовых кругах, которые дали бы ему возможность проникнуть в самую суть. Линия Пятой и Шестой улиц, недавно пущенная в эксплуатацию, приносила шестьсот долларов дохода в день. Разрабатывался проект новой линии в западной части Филадельфии (по улицам Уолнат и Честнат) и еще нескольких линий, которые должны были пройти по Второй и Третьей улицам, по улицам Рейс и Вайн, Спрус и Пайн, Грин и Котс, Десятой и Одиннадцатой и т. д. Строительство и финансирование этих линий находились в руках могущественных капиталистов, имевших связи в законодательном собрании штата и добивавшихся разрешений, несмотря на бурные протесты общественности. То и дело раздавались обвинения в подкупе. Указывалось, что городские улицы – ценная территория и что следовало бы обложить городские железнодорожные компании дорожным налогом в тысячу долларов с мили. Но главным предпринимателям всеми правдами и неправдами удалось получить нужные привилегии, и множество людей, прослышав о доходах, приносимых линиями Пятой и Шестой улиц, торопились скупить акции. В числе их был и Каупервуд; как только стало известно о прокладке новых линий на Второй и Третьей улицах, он вложил деньги в это предприятие, а несколько позднее и в линии на улицах Уолнат и Честнат. Фрэнку уже мерещилась возможность стать владельцем такой линии, но реальных путей к осуществлению этой мечты он пока не видел: его контора еще отнюдь не была финансовым Эльдорадо.
В эту пору Фрэнк обвенчался с миссис Сэмпл. Свадьба была скромная, без излишнего шума, – так хотел Фрэнк, да и будущая его жена нервничала из страха перед общественным мнением. Семья Фрэнка не очень одобряла его выбор. На взгляд родителей, Лилиан была слишком стара для него, кроме того, перед Фрэнком открывались такие блестящие перспективы, что он мог бы сделать гораздо лучшую партию. Его сестра Анна считала миссис Сэмпл расчетливой и коварной, но это, конечно, было не так. Братьям Джозефу и Эдварду вся эта история казалась очень любопытной, но толком они не знали, какого мнения им держаться: как-никак миссис Сэмпл была хороша собой, и у нее водились деньги.
В погожий октябрьский день Фрэнк и Лилиан предстали перед алтарем Первой пресвитерианской церкви на Кэллоухилл-стрит, где пожелала венчаться невеста. Лилиан, к немалому удовлетворению Фрэнка, была прелестна в платье из белоснежных кружев с длинным шлейфом – творении, стоившем кружевницам долгих месяцев труда. На церемонии присутствовали родители Фрэнка, миссис Дэвис – вдова дяди Сенеки, братья и сестры Лилиан и несколько близких знакомых. Фрэнку и это общество казалось слишком многолюдным, но таково было желание Лилиан. Во время венчания Фрэнк стоял прямой и подтянутый, в строгом черном сюртуке – тоже по желанию невесты, – но по окончании обряда быстро переоделся в элегантный дорожный костюм. Он устроил свои дела так, чтобы иметь возможность съездить на две недели в Нью-Йорк и Бостон. Под вечер они сели в поезд, через пять часов доставивший их в Нью-Йорк. Когда, после долгого притворства и деланого равнодушия на людях, они очутились наконец с глазу на глаз в номере отеля «Астор», Фрэнк заключил ее в объятия.
– Какое блаженство, что мы наконец одни! – воскликнул он.
Лилиан отозвалась на его пыл с той дразнящей ласковой робостью, которая всегда так восхищала его; но теперь эта робость была окрашена желанием, сообщившимся ей от Фрэнка. Ему казалось, что он никогда не насытится ею, ее прекрасным лицом, изящными руками, ее нежным телом. Они без конца ворковали, нежничали, катались по городу, вкусно ели и наслаждались зрелищами. Фрэнку не терпелось побывать в финансовых центрах Нью-Йорка и Бостона. Оба эти города привлекали его своей коммерческой солидностью. Осматривая первый, Фрэнк спрашивал себя, решится ли он когда-нибудь расстаться с Филадельфией. Ведь теперь, думал он, его ждет там полное счастье с Лилиан, а впоследствии, быть может, и с целым выводком юных Каупервудов. Он будет работать не щадя сил и много зарабатывать. Со своим собственным капиталом и средствами жены, поступившими теперь в его распоряжение, он надеялся вскоре стать весьма состоятельным человеком.
Глава X
Обстановка, которой окружили себя молодые, возвратясь из свадебного путешествия, по изяществу значительно превосходила ту, в которой миссис Каупервуд жила в свою бытность миссис Сэмпл. Они решили временно поселиться в ее доме на Фронт-стрит. Повинуясь овладевшему им в тот период тяготению ко всему утонченному, Фрэнк сразу же после помолвки стал возражать против стиля, вернее, бесстильности мебели и убранства дома и просил позволения обставить их жилище в соответствии с его собственными понятиями об изяществе и красоте, понятиями, как-то инстинктивно усвоенными им в период возмужания. Ему довелось видеть множество домов, обставленных с несравненно бо́льшим вкусом, чем дом его родителей. В те времена невозможно было пройти или проехать по улицам Филадельфии, не почувствовав всеобщей тяги к более культурному и красивому быту, не заразившись ею. Улицы застраивались великолепными и дорогостоящими домами. Широкое распространение получило садоводство. В моду входили цветники вдоль фасадов. В домах мистера Тая, мистера Ли, Артура Райверса и других знакомых внимание Фрэнка привлекали изысканные, дорогие вещи – бронза, мрамор, портьеры, картины, часы, ковры.
Фрэнк решил, что ценой сравнительно небольших затрат он сможет превратить свое заурядное жилище в уютный и очаровательный дом. Так, например, куда более привлекательной можно было сделать столовую, где из обоих окон, выходивших на южную террасу, открывался вид на лужайку, поросшую кустарником и деревьями, которая тянулась до самого забора, отделявшего владения мистера Сэмпла от участка соседа. Остроконечный серый частокол следует снести и заменить живой изгородью. В стене, разделяющей столовую и гостиную, надо сделать проем и завесить его красивой портьерой, а взамен двух продолговатых окошек устроить так называемый «фонарь», откуда из двустворчатых окон с ромбовидными стеклами в свинцовых переплетах можно будет любоваться лужайкой. Всю ветхую мебель, собранную бог весть откуда – частью унаследованную от семьи Сэмпл, частью от семьи Уиггин, частью же благоприобретенную, – выкинуть вон или продать и взамен купить новую. Фрэнк недавно познакомился с молодым, только что сошедшим со студенческой скамьи архитектором, неким Элсуортом; они сразу почувствовали живой интерес и необъяснимое тяготение друг к другу. Уилтон Элсуорт был вдумчивым, спокойным, утонченным человеком, артистической натурой в подлинном смысле слова. Разговорившись о доме, строившемся на Честнат-стрит – Элсуорт назвал его ужасным, – они перешли к обсуждению искусства вообще, вернее, отсутствия такового в Америке. Фрэнку тотчас же подумалось, что Элсуорт лучше всякого другого сумеет осуществить его замыслы относительно переустройства дома. Когда он сказал об этом Лилиан, она беспрекословно согласилась, так же как соглашалась со всеми планами мужа насчет перемен в их жилище.
После отъезда Каупервудов в свадебное путешествие Элсуорт приступил к работе, исходя из сметы в три тысячи долларов, которая предусматривала и новую обстановку. Закончена работа была лишь через три недели после их возвращения, но зато дом стал почти неузнаваемым. «Фонарь», согласно замыслу Фрэнка, как бы висел над зеленью лужайки, а окна его с ромбовидными стеклами в свинцовых переплетах были снабжены бронзовыми петлями. Гостиная теперь отделялась от столовой раздвижными дверями, которые предполагалось еще украсить шелковым занавесом с изображением крестьянской свадьбы в Нормандии. Столовая была обставлена старинной английской дубовой мебелью, а гостиная и спальни – американской имитацией Чиппендейла и Шератона. Несколько скромных акварелей украшали стены, там и сям стояли бронзовые статуэтки работы Хосмера и Пауэрса. Хорошим украшением служила также мраморная Венера Поттера (ныне совсем забытого скульптора) и еще несколько вещей, впрочем, второсортных. Миссис Каупервуд была несколько смущена наготою Венеры – это придавало дому дух европейской фривольности, не принятой в Америке, но промолчала; как-никак такое украшение радовало глаз, да, кроме того, она не считала себя знатоком по этой части, Фрэнк куда лучше разбирается во всем этом. Когда наняты были слуги – горничная и лакей, – Каупервуды стали устраивать небольшие приемы…
Всякий, кто помнит первые годы своей супружеской жизни, поймет те едва уловимые перемены, которые произошли во Фрэнке после брака, ибо любой человек, связавший себя узами Гименея, в какой-то мере подпадает под влияние своего домашнего окружения. Судя по некоторым чертам его характера, можно было предположить, что ему назначено судьбою стать образцом добропорядочного, почтенного гражданина. Фрэнк, казалось, был очень увлечен семейной жизнью. С великой радостью возвращался он по вечерам к жене отдохнуть от сутолоки, уличного шума и вечной спешки деловых кварталов. Дома он тотчас же проникался ощущением своего материального и физического благоденствия. Стол, накрытый к обеду, зажженные свечи (идея Фрэнка), Лилиан в ниспадающем до полу платье из голубого или зеленого шелка – ему очень нравились на ней эти цвета, – большой камин с пылающими в нем толстыми поленьями, и вновь Лилиан, прильнувшая к нему, – все это держало в плену его еще не созревшее воображение. Книги, как мы уже говорили, не интересовали Фрэнка, но жизнь, картины, деревья, физическая близость любимой женщины властвовали над ним, несмотря на уже захватывавшие его сложные финансовые комбинации. Богатой, радостной, полной жизни – вот чего он жаждал всем своим существом.
Миссис Каупервуд, несмотря на разницу в летах, в то время казалась вполне подходящей для него подругой. Выведенная из своего полусонного состояния, она теперь горячо привязалась к Фрэнку, с готовностью откликалась на все его желания и любила помечтать вместе с ним. Им обоим хотелось ребенка, и в скором времени она шепнула Фрэнку, что ждет этого радостного события. Прежде Лилиан думала, что причина ее бесплодия кроется в ней самой, а потому была и удивлена и обрадована, когда убедилась в своей ошибке. Перед нею открывались новые горизонты – прекрасное будущее, теперь не оставлявшее места для опасений. Фрэнка радовала мысль о повторении себя в ребенке. Он думал о маленьком Каупервуде не без гордости. Многие дни, недели, месяцы и даже годы – по крайней мере первые четыре-пять лет – ему доставляло несказанное удовольствие возвращаться домой, разгуливать по двору, приглашать друзей к обеду, кататься по городу с женой, посвящать ее в свои планы. Она ничего не могла понять в его сложных финансовых комбинациях, но он особенно и не настаивал на этом.
Зато любовь, прекрасное тело Лилиан, ее губы, ее спокойные манеры – притягательная сила всего этого да еще двое детей, появившиеся на свет за четыре года их супружества, давали ему полное удовлетворение. Он качал на коленях Фрэнка-младшего, своего первенца, смотрел на его пухлые ножки, на его искрящиеся глаза, на почти еще бесформенный и тем не менее похожий на бутон ротик и размышлял об удивительном процессе деторождения. Неисчерпаемый источник для раздумий: первоначальное оплодотворение, изумительный период созревания плода в утробе женщины и все опасности, с этим связанные. Он пережил тяжелые минуты, когда миссис Каупервуд рожала Фрэнка-младшего, прежде всего потому, что она сама была очень напугана. Он опасался за красоту ее тела, его страшила мысль потерять ее, и, стоя за дверью в день появления на свет ребенка, он, собственно, впервые познал настоящую тревогу, хоть и не слишком сильную, – для этого он был чересчур уравновешен, чересчур занят самим собою. И все же его страшила мысль, что жена может умереть и тогда наступит конец нынешнему счастливому житью. А потом пронзительные, душераздирающие крики, весть, что все кончилось благополучно, и позволение взглянуть на новорожденного. Переживания этого дня расширили кругозор Фрэнка, сообщили большую глубину его пониманию жизни. Он лишний раз убедился, что под поверхностью явлений, словно грубое дерево под слоем блестящего лака, таится трагедия. Фрэнк-младший, а немного позднее голубоглазая и златокудрая малютка Лилиан на время завладели его воображением. Домашний очаг, в конце концов, неплохая штука! Так уж устроена жизнь, и краеугольный камень жизни – дом.
Нет возможности описать здесь все как будто бы мелкие, но, в общем, существенные перемены, которые принесли с собой эти годы. Они происходили столь постепенно, что оставались неприметными для глаза, как медленное течение вод. За пять лет состояние Фрэнка значительно возросло, особенно если вспомнить, что он начал с грошей. Мало-помалу он сблизился (насколько коммерческие дела вообще допускают сближение) с некоторыми наиболее оборотистыми представителями непрестанно разраставшегося финансового мира Филадельфии. Во время его работы у мистера Тая и на бирже ему не раз указывали на любопытные фигуры более или менее крупных деятелей городского самоуправления или администрации штата, «подрабатывавших на политике», и деятелей государственного масштаба, приезжавших из Вашингтона повидаться с представителями банкирских домов «Дрексель и К°», «Кларк и К°» и даже «Тай и К°». Эти люди, как он узнал, были наперед осведомлены о предстоящих законодательных реформах и экономических переменах, которые неминуемо должны были отразиться на известных ценностях и отраслях торговли. В конторе «Тай и К°» молодой сослуживец как-то дернул Фрэнка за рукав.
– Заметили вы человека, который сейчас прошел в кабинет к хозяину?
– Да.
– Это Мэртаг, городской казначей. Он, доложу я вам, играет наверняка! Все казенные деньги в его распоряжении, а отчитывается он только в основном капитале, так что проценты идут к нему в карман!
Каупервуд понял. Все чиновники города и штата занимались спекуляцией. Они депонировали городские или государственные средства у определенных банкиров или маклеров, которых правительство либо уполномочивало, либо даже назначало быть хранителями вкладов. Банки не платили процентов по этим вкладам никому, кроме представителей казначейства. По секретным указаниям этих лиц они ссужали казенными деньгами биржевиков, а те помещали их в «верные» бумаги. В Филадельфии действовала целая шайка: в долю входили мэр города, несколько членов муниципалитета, казначей, начальник полиции, уполномоченный по общественным работам и другие чиновники. Их девиз был «Рука руку моет». Вначале такая «деятельность» внушала Каупервуду брезгливое чувство, но многие разбогатели на его глазах, и никого это, по-видимому, не тревожило. Газеты вечно трубили о гражданском долге и патриотической гордости, но о подобных махинациях не упоминали ни словом. А люди, их совершавшие, оставались у власти и пользовались всеобщим уважением.
Многие банкирские дома – круг их непрерывно ширился – считали Фрэнка заслуживающим доверия посредником для реализации платежных обязательств и взимания платежей по векселям. Он как-то сразу угадывал, куда надо обращаться за деньгами. С первого же дня Фрэнк взял себе за правило всегда иметь на руках тысяч двадцать наличными, чтобы немедленно и без лишних разговоров откликаться на выгодные предложения.
Таким образом он создал себе условия, при которых в большинстве случаев мог отвечать: «Да, разумеется, я беру это на себя!» К нему обращались с просьбами провести те или иные биржевые операции. Фрэнк тогда еще не имел собственного места на бирже и поначалу не собирался его покупать, но теперь он передумал и приобрел место не только в Филадельфии, но и в Нью-Йорке. Некий Джозеф Зиммермен, торговец мануфактурой, которому он помог реализовать ряд векселей, предложил ему взять в свое ведение его акции конных железных дорог, и Фрэнк снова стал завсегдатаем фондовой биржи.
Тем временем изменилась и его домашняя жизнь, семейные устои стали более прочными, незыблемыми, быт более изысканным. Миссис Каупервуд, например, была вынуждена время от времени подвергать критическому пересмотру свои знакомства, так же как и он свои. При жизни мистера Сэмпла круг Лилиан состоял преимущественно из семей розничных торговцев и нескольких оптовиков, что помельче. Кроме того, Лилиан дружила с двумя или тремя дамами, прихожанками той же Первой пресвитерианской церкви. Изредка устраивались так называемые «приходские чаепития» и вечеринки, на которых она присутствовала с мистером Сэмплом, или же они совместно наносили скучные визиты к ее и его родственникам. Каупервуды, Уотермены и другие семьи того же ранга были счастливым исключением на общем тусклом фоне. Теперь все переменилось. Молодой Каупервуд не очень-то интересовался родственниками Лилиан, а те, со своей стороны, отдалились от нее из-за ее, с их точки зрения, неподобающего брака. Семья Фрэнка по-прежнему была связана с ним тесными узами теплых родственных чувств и общим стремлением к благополучию, но самое главное – он сумел завоевать расположение нескольких действительно видных лиц. Фрэнк приглашал к себе в гости – вовсе не для обсуждения дел, ибо это было бы совсем не в его духе, – банкиров, состоятельных людей, вкладывавших деньги в разные предприятия, и клиентов – настоящих и будущих. На берегах речек Скуилкил, Уиссахикон и во многих других местах располагались загородные рестораны, куда приятно было наведаться в воскресный день. Фрэнк и Лилиан часто ездили к вдове Сенеки Дэвиса, к судье Китчену, навещали знакомого юриста Эндрю Шарплесса, Харпера Стеджера, личного поверенного Фрэнка, и многих других. Каупервуд обладал даром приветливого и непринужденного обращения. Никто из знавших его, будь то мужчина или женщина, не подозревал всей глубины его натуры. Фрэнк думал, но это не мешало ему наслаждаться жизнью.
Одним из его самых ранних и наиболее искренних увлечений была живопись. Он горячо любил природу, но, сам не зная почему, считал, что лучше всего она познается в изображении художника, так же как через других лучше уясняется смысл законов и политических событий. Лилиан была к живописи более чем равнодушна, но сопровождала мужа по всем выставкам, не переставая втихомолку думать, что Фрэнк все-таки человек не без странностей. Любя ее, он пытался пробудить в ней интерес к интеллектуальным наслаждениям, но миссис Каупервуд, хотя и притворялась, будто живопись ее занимает, на самом деле была к ней слепа и безразлична: видимо, эта область оставалась для нее просто недоступной.
Дети отнимали бо́льшую часть ее времени. Каупервуда, однако, это нисколько не огорчало. Он находил восхитительной и в высшей степени достойной такую материнскую привязанность. Вместе с тем ему нравились в Лилиан ее флегматичность, блуждающая улыбка и даже ее безразличие ко всему на свете, временами, впрочем, напускное, объяснявшееся в первую очередь ее умиротворением и обеспеченностью. Какими разными людьми они были! Свое второе замужество она восприняла точно так же, как и первое, – для нее это было серьезное событие, исключавшее всякую возможность каких бы то ни было колебаний в мыслях и чувствах. Что же касается Фрэнка, то он вращался в шумном мире, который, по крайней мере в финансовом отношении, весь состоял из перемен, внезапных и поразительных превратностей. Фрэнк начал временами присматриваться к жене – не слишком критически, ибо он любил ее, но стараясь правильно оценить ее сущность. Он знал Лилиан уже больше пяти лет. Но что, собственно, он знал о ней? Юношеский пыл в первые годы их совместной жизни заставлял его на многое закрывать глаза, но теперь, когда она уже безраздельно принадлежала ему…
В эту пору медленно надвигалась и наконец была объявлена война между Севером и Югом, вызвавшая такое возбуждение умов, что все, казалось, были поглощены только ею одной. Вначале творилось нечто невообразимое. Затем начались митинги, многолюдные и бурные; уличные беспорядки; инцидент с останками Джона Брауна[10]; прибытие Линкольна, этого великого народного трибуна, в Филадельфию, проездом из Спрингфилда (штат Иллинойс) в Вашингтон, где он должен был принести присягу и вступить на пост президента; битва при Булл-Рэне; битва при Виксберге; битва при Геттисберге и так далее и так далее. Каупервуд был в это время двадцатипятилетним молодым человеком, хладнокровным и целеустремленным; он считал, что пропаганда против рабства, с точки зрения человеческой, может быть и вполне обоснованна, даже несомненно так, но для коммерции крайне опасна. Он желал победы Северу, но знал, что и ему, и другим финансистам может прийтись очень туго. Сам он не имел охоты воевать – нелепое занятие для человека с ярко выраженной индивидуальностью. Пусть воюют другие, на свете достаточно бедняков, простаков и недоумков, готовых подставить свою грудь под пули: они только и годятся на то, чтобы ими командовали и посылали их на смерть. Что касается его, то свою жизнь он считал священной и целиком принадлежащей семье и деловым интересам. Он помнил, как однажды, в час, когда рабочие идут домой с работы, по одной из улочек лихо промаршировал небольшой отряд вербовщиков в синих мундирах. Барабанный бой, развевающееся знамя Соединенных Штатов – все это, конечно, преследовало одну цель: потрясти душу доселе безразличного или колеблющегося гражданина, наэлектризовать его так, чтобы он утратил чувство меры и самосохранения и, памятуя лишь о том, что он нужен стране, позабыл все – жену, стариков, дом и детей – и присоединился бы к отряду. Фрэнк увидел, как один рабочий, который шел, слегка помахивая обеденным котелком, и, по-видимому, отнюдь не помышлял о таком финале своего трудового дня, вдруг остановился и начал прислушиваться к топоту приближавшегося отряда, а когда солдаты поравнялись с ним, помедлил немного, проводил их ряды нерешительным и недоуменным взглядом и вдруг, пристроясь к хвосту, с торжественным выражением на лице зашагал к вербовочному пункту. «Что увлекло этого рабочего? – спрашивал себя Фрэнк. – Почему он так легко покорился чужой воле? Ведь он не собирался идти на войну». На его лице еще были следы масла и копоти; это был молодой человек лет двадцати пяти, по виду литейщик или слесарь. Фрэнк смотрел вслед маленькому отряду до тех пор, пока тот не скрылся за углом улочки.
Как странно это внезапное пробуждение воинственного духа! Фрэнку казалось, что люди ничего слышать не хотели, кроме барабанов и труб, ничего не хотели видеть, кроме тысяч солдат, следовавших на фронт с холодной сталью ружей на плечах, ничем другим не интересовались, кроме войны и военных новостей. Несомненно, это было волнующее чувство, даже величественное, но невыгодное для тех, кто его испытывал. Оно звало к самопожертвованию, а Фрэнк этого не понимал. Если он пойдет на войну, его могут убить, а тогда – что пользы от его возвышенных чувств? Нет, лучше он будет наживать деньги и заниматься делами политическими, общественными, финансовыми. Бедный глупец, последовавший за вербовочным отрядом, – нет, не глупец, он не станет его так называть! Просто растерявшийся бедняга, рабочий, – да сжалится над ним небо! Да сжалится небо над ними всеми! Воистину они не ведают, что творят!
Однажды ему довелось видеть Линкольна – этот неуклюже ступавший, долговязый, костлявый, с виду простоватый человек произвел на Фрэнка неизгладимое впечатление. Стояло холодное и ненастное февральское утро; великий президент военной эпохи только что закончил свое торжественное обращение к народу, в котором он говорил, что связующие узы между штатами могут быть натянуты до предела, но порваны они не должны быть. Когда он выходил из Дворца независимости[11], прославленного здания, где зародилась американская свобода, его лицо было грустным и задумчиво-спокойным. Каупервуд не спускал глаз с президента, покуда тот выходил из подъезда, окруженный штабными офицерами, представителями местной власти, сыщиками и любопытной, сочувственно настроенной толпой. Внимательно вглядываясь в необычные, грубо высеченные черты Линкольна, он проникался сознанием удивительной чистоты и внутреннего величия этой личности.
«Вот настоящий человек! – говорил себе Фрэнк. – Какая необыкновенная натура!» Каждый жест президента поражал его. Глядя, как Линкольн садится в экипаж, он думал: «Так вот он, этот сокрушитель устоев, этот бывший провинциальный адвокат! Ну что ж, в критические дни судьба избрала достойнейшего».
Образ Линкольна еще долго стоял перед глазами Фрэнка, и за время войны его мысли неоднократно возвращались к этому исключительному человеку. Он был убежден, что ему посчастливилось видеть одного из истинно великих мира сего. Война и государственная деятельность не привлекали Фрэнка, но он знал, как важно порой и то и другое.
Глава XI
Во время войны и после того, как стало очевидным, что это война затяжная, Каупервуду представилась возможность проявить свои способности финансиста в действительно крупном деле. Вся страна, штат, город испытывали в этот период острую нужду в деньгах. В июле 1861 года конгресс утвердил выпуск внутреннего займа на пятьдесят миллионов долларов в виде облигаций, подлежащих погашению в течение двадцати лет и приносящих держателям до семи процентов годовых; штат, в свою очередь, приблизительно на тех же условиях санкционировал выпуск займа на три миллиона. Реализацию первого займа производили бостонские, нью-йоркские и филадельфийские финансисты, второго – только филадельфийские. Каупервуд не принимал в этом участия. Он был еще недостаточно известен. В газетах он читал о заседаниях, на которых финансовые заправилы, знакомые ему лично или только по имени, «обсуждали наиболее целесообразные мероприятия по оказанию помощи стране или штату». Фрэнка они не приглашали. Меж тем он всей душой жаждал быть среди них. Он уже понял в то время, что для успеха дела часто бывает достаточно одного слова богатого человека, не надо ни денег, ни гарантий, ни конкретного обеспечения – ничего, только его слово. Если ходили слухи, что за кулисами какого-нибудь дела скрываются «Дрексель и К°», «Джей Кук и К°» или «Гульд и Фиск», оно уже считалось надежным! Джей Кук, молодой филадельфиец, провел замечательную операцию: он взял на себя, в компании с Дрекселем, реализацию выпущенного штатом займа и распродал его по номиналу. По общему мнению, заем мог быть распространен лишь по цене девяносто долларов за сто. Кук с этим мнением не согласился. Он считал, что гордость за свой штат и патриотизм граждан помогут реализации займа среди мелких банков и частных лиц, так что сумма подписки перекроет, возможно даже с избытком, сумму выпуска. Дальнейшие события подтвердили правильность расчетов Кука, и это упрочило его деловую репутацию. Каупервуду очень хотелось сделать что-либо подобное, но он был достаточно практичен, чтобы не испытывать зависти к Куку, – он всегда исходил из фактов и реальных возможностей.
Его время пришло через полгода, когда выяснилось, что Пенсильвании понадобится куда больше денег. Солдат, выставленных штатом по разверстке, нужно было обмундировать и содержать. Кроме того, необходимо было провести ряд оборонных мероприятий и вдобавок еще пополнить казну. Законодательное собрание после долгих обсуждений наконец разрешило выпуск внутреннего займа на сумму в двадцать три миллиона долларов. В финансовых кругах оживленно обсуждался вопрос о том, кому будет поручена реализация займа, – в первую очередь называли компании Дрекселя и Джея Кука.
Каупервуд много думал над этим. Если бы ему добиться полномочий на реализацию части этого огромного займа – едва ли он в состоянии был бы взять его на себя целиком, у него еще не было достаточных связей, – он значительно повысил бы свою репутацию биржевого маклера, и в то же время у него очистилось бы немало денег. Какую же сумму он может взять на себя? Вот в чем вопрос. Кто станет приобретать у него облигации? Отцовский банк? Весьма вероятно. «Уотермен и К°»? На небольшую сумму! Судья Китчен? Незначительную часть! Компания «Милс-Дэвид»? Да! Он стал перебирать в памяти предприятия и частных лиц, которые по тем или иным соображениям – из побуждения личной дружбы, в силу покладистого характера, признательности за услуги в прошлом и так далее – подписались бы через него на какое-то количество этих семипроцентных облигаций. Фрэнк подытожил свои возможности и обнаружил, что после некоторой предварительной обработки он, по всей вероятности, мог бы разместить облигаций на один миллион долларов, если бы влиятельные политические деятели Филадельфии поспособствовали предоставлению ему этой доли займа.
Наибольшие надежды Фрэнк возлагал на некоего Эдварда Мэлию Батлера, у которого были не бросающиеся в глаза, но весьма солидные связи в политическом мире. Батлер был подрядчиком, производившим работы по прокладке канализационных труб и водопроводов, по сооружению фундаментов, мощению улиц и т. д. В давно прошедшие дни, задолго до того как Каупервуд познакомился с ним, Батлер на свой страх и риск брал подряды на вывоз мусора. Город в то время еще не знал систематизированной уборки улиц, тем более на окраинах и в некоторых старых, населенных беднотою районах. Эдвард Батлер, тогда молодой бедняк-ирландец, начал с того, что бесплатно сгребал и убирал отбросы, которые шли на корм его свиньям и скоту. Позднее он обнаружил, что есть люди, готовые кое-что платить за эти услуги. А еще позднее один местный деятель, член муниципалитета и приятель Батлера – оба они были католиками, – взглянул на все это дело с совсем новой точки зрения. Отчего бы не назначить Батлера официальным подрядчиком по уборке мусора? Муниципалитет может выделить для этой цели ежегодные ассигнования. Батлеру будет дана возможность нанять несколько дюжин мусорных фургонов. Более того, никаких других мусорщиков в городе не останется. Сейчас они, конечно, существуют, но официальный договор между Батлером и муниципалитетом положит конец всякой конкуренции. Частью прибыли от этого весьма выгодного дела придется поступиться, чтобы ублажить и успокоить тех, кого обошли подрядом. Во время выборов надо будет ссужать деньгами некоторые организации и отдельных лиц, но это не беда, речь идет о небольших суммах. Итак, Батлер и член муниципалитета Патрик Гевин Комисский вступили в деловое соглашение (последний, конечно, тайно). Батлер больше уже не разъезжал сам с мусорным фургоном. Он нанял жившего по соседству расторопного ирландского парня по имени Джимми Шихен, и тот сделался его помощником, управляющим, конюхом, бухгалтером – словом, решительно всем. Вскоре Батлер стал зарабатывать от четырех до пяти тысяч в год – раньше он с трудом выгонял две тысячи, – переехал в кирпичный дом на южной окраине города и отдал детей в школу. Миссис Батлер бросила варить мыло и разводить свиней. Начиная с этого времени фортуна была неизменно благосклонна к Эдварду Батлеру.
Раньше он не умел ни читать, ни писать, но теперь, конечно, выучился грамоте. Из бесед с мистером Комисским он выяснил, что существуют и другие формы подрядов – например, на прокладку канализационных, водопроводных и газовых магистралей, мощение улиц и так далее. Кому же и взяться за них, как не Эдварду Батлеру? Он знаком со многими членами муниципалитета. Он встречался с ними в задних комнатках пивных, на пикниках, устраиваемых заправилами города в субботние и воскресные дни, на предвыборных совещаниях и заседаниях, ибо, вкушая от щедрот города, должен был помогать ему не только деньгами, но и советом. Любопытно, что Батлер вскоре обнаружил незаурядную политическую прозорливость. Ему достаточно было взглянуть на человека, чтобы сказать, пойдет ли тот в гору. Многие из его бухгалтеров, управляющих и табельщиков сделались членами муниципалитета или законодательного собрания. Кандидатуры, которые он выдвигал на выборах, обычно проходили с успехом. Сначала он приобрел влияние в районе, где баллотировался в муниципалитет его ставленник, затем в своем избирательном участке, потом на городских собраниях своей партии, конечно, вигов[12], и, наконец, его стали считать главою самостоятельной политической организации.
Какие-то таинственные силы работали на него в муниципалитете. Ему доставались крупные подряды, он участвовал во всех торгах. О мусороуборочных работах он и думать забыл. Старший сын мистера Батлера, Оуэн, был членом законодательного собрания и компаньоном отца. Второй сын, Кэлем, служил в отделе городского водоснабжения и тоже участвовал в делах отца. Старшая дочь, пятнадцатилетняя Эйлин, еще училась в монастырском пансионе Св. Агаты, в Джермантауне. Другая, тринадцатилетняя Нора, самая младшая в семье, была определена в частную школу, находившуюся в ведении католических монахинь. Семья Батлер переехала из южной части Филадельфии на Джирард-авеню, поближе к аристократическому кварталу; там уже зарождалась интенсивная «светская» жизнь. Батлеры не принадлежали к избранному кругу, но у главы семьи, пятидесятипятилетнего подрядчика, «стоившего» почти что полмиллиона, нашлось много друзей в мире политическом и финансовом. Да и сам он был уже не прежний «неотесанный детина», но плотный человек с красноватым, слегка обветренным лицом, седовласый, сероглазый, с широкими плечами и могучей грудью – типичный ирландец; богатый жизненный опыт придал его лицу спокойное, умудренное и непроницаемое выражение. Большие руки и ноги напоминали о днях, когда он еще не носил прекрасных костюмов английского сукна и желтых ботинок, но ничего простецкого в нем не осталось, напротив, держал он себя с большим достоинством. Правда, говорил Батлер по-прежнему с ирландским акцентом, но всегда живо, любезно и убедительно.
Он один из первых заинтересовался строительством конных железных дорог и, так же как Каупервуд и множество других, пришел к заключению, что это дело с большим будущим. Наилучшим доказательством служила прибыль, которую приносили купленные им акции и паи. Батлер действовал через маклеров, так как не успел вступить в эти предприятия в период их организации. Он скупал акции всех конно-железнодорожных компаний, считая, что перед любой из них открываются прекрасные перспективы, но больше всего ему хотелось целиком заполучить в свои руки контроль над одной или двумя линиями. В соответствии с этим замыслом он подыскивал надежного молодого человека, способного и честного, который действовал бы по его указаниям, делая все, что ему прикажут. Кто-то рекомендовал ему Каупервуда, и он вызвал его к себе письмом.
Каупервуд не замедлил откликнуться, так как много слышал о Батлере, его карьере, связях и влиянии. Однажды в феврале сухим морозным утром Фрэнк отправился к нему. Впоследствии он не раз вспоминал эту улицу – широкие кирпичные тротуары, мостовую, слегка припорошенную снегом, чахлые, оголенные деревца и фонарные столбы. Дом Батлера, хотя и не новый – он отремонтировал его после покупки, – был неплохим образцом архитектуры своего времени. Пятидесяти футов в длину, четырехэтажный, он был сложен из серого известняка; к парадной двери вели четыре широкие белые ступени. Окна с белыми наличниками имели форму широких арок. Изнутри они были завешаны кружевными гардинами, и красный плюш мебели, чуть просвечивавший сквозь кружево, выглядел как-то особенно уютно с холодной и заснеженной улицы.
Нарядная горничная-ирландка открыла дверь Каупервуду; он вошел и дал ей свою визитную карточку.
– Мистер Батлер дома?
– Не могу сказать, сэр. Я сейчас узнаю. Возможно, он вышел.
Через несколько минут Фрэнка провели наверх. Батлер принял его в комнате, несколько напоминавшей контору. Там стояли письменный стол, деревянное кресло, кое-какая кожаная мебель и книжный шкаф. Все эти предметы были разрознены и расставлены так, как не расставляют мебель ни в конторе, ни в жилой комнате. На стене висели картины: одна – написанная маслом, что-то совершенно невообразимое! – темная и мрачная; на другой – в розовых и расплывчато-зеленых тонах – изображался канал с плывущей по нему баржей и, наконец, несколько неплохих дагеротипов родных и друзей. Каупервуд обратил внимание на прекрасный, слегка подцвеченный портрет двух девочек. У одной волосы были рыжевато-золотые, у другой каштановые и, должно быть, шелковистые. Это были миловидные, здоровые и веселые девочки кельтского типа; их головки почти соприкасались, глаза в упор смотрели на зрителя. Фрэнк полюбовался ими и решил, что это, наверное, дочери хозяина дома.
– Мистер Каупервуд? – встретил его Батлер; он как-то странно растягивал гласные, да и вообще это был человек медлительный, важный, вдумчивый.
Фрэнк обратил внимание на его крепкую фигуру, могучую, как старый дуб, закаленный дождем и ветрами. Кожа на его лице была туго натянута, да и весь он был какой-то подтянутый и подобранный.
– Да, – ответил Фрэнк.
– У меня есть к вам дельце – насчет покупки акций, и я подумал, что лучше вам прийти сюда, чем мне ездить к вам в контору. Здесь мы можем поговорить с глазу на глаз, кроме того, и годы мои уже не те.
Он поглядел на гостя, чуть сощурив глаза.
Каупервуд улыбнулся.
– Я к вашим услугам, – учтиво отозвался он.
– В настоящее время я заинтересован в том, чтобы выловить на бирже акции некоторых конно-железных дорог. В подробности я вас посвящу позднее. Не выпьете ли чего-нибудь? Утро сегодня холодное.
– Благодарю вас, я никогда не пью.
– Никогда? Нешуточное слово, ежели речь идет о виски! Но так или иначе – это похвально. Мои сыновья тоже капли в рот не берут, и меня это очень радует. Так вот, я хочу выловить на бирже кое-какие акции, но, скажу вам правду, мне еще важнее найти смекалистого молодого человека, вроде вас, скажем, через которого я мог бы действовать. Вы же сами знаете, что одно дело всегда тянет за собой другое. – И Батлер посмотрел на своего гостя испытующим, но в то же время благожелательным взглядом.
– Совершенно верно, – согласился Каупервуд, приветливо улыбнувшись в ответ на взгляд хозяина дома.
– Н-да, – задумчиво произнес Батлер, обращаясь то ли к Каупервуду, то ли к самому себе, – толковый молодой человек мог бы быть мне очень полезен в делах. У меня двое сыновей, неглупые ребята, но я бы не хотел, чтобы они играли на бирже, да если бы и захотел, не знаю, может, они бы и не сумели. Но дело тут, собственно, не в этом. Я вообще очень занят, и, как я вам говорил, мои годы уже не те. Я теперь не так уж легок на подъем. А будь у меня подходящий молодой человек (кстати, я все разузнал о вашей работе), он мог бы выполнять для меня разные небольшие поручения по части паев и займов – они давали бы кое-что нам обоим. У меня частенько спрашивают совета по тому или иному вопросу молодые люди, которые желали бы вложить свой капитал в дело, так что…
Он замолчал и, как бы поддразнивая гостя, стал смотреть в окно, хорошо зная, что заинтересовал Каупервуда и что этот разговор о влиянии в деловом мире и о коммерческих связях еще больше его раззадорит. Батлер дал ему понять, что главное в этих делах – верность, такт, сметливость и соблюдение тайны.
– Что ж, если вы справлялись о моей работе… – заметил Фрэнк, сопровождая свои слова характерной для него мимолетной улыбкой и не договаривая фразы.
Батлер в этих немногих словах почувствовал силу и убедительность. Ему нравились выдержка и уравновешенность молодого человека. О Каупервуде он слышал от многих. (Теперь фирма называлась уже «Каупервуд и К°», причем «компания» была чисто фиктивная.) Он задал Фрэнку еще несколько вопросов относительно биржи и общего состояния рынка, осведомился, что ему известно насчет железных дорог, и, наконец, изложил свой план, заключавшийся в том, чтобы скупить как можно больше акций коночных линий Девятой, Десятой, Пятнадцатой и Шестнадцатой улиц, но, по возможности, исподволь и не вызывая шума. Действовать тут надо осторожно, скупая акции частью через биржу, частью же у отдельных держателей. Батлер умолчал о том, что он намерен оказать известное давление на законодательные органы и добиться разрешения на продолжение путей за теперешние конечные пункты, чтобы, когда наступит время приступить к работам, огорошить железнодорожные концерны известием, что крупнейшими их акционерами являются Батлеры, отец или сыновья, – дальновидный план, направленный на то, чтобы в конечном счете эти линии оказались целиком в руках семейства Батлер.
– Я буду счастлив сотрудничать с вами, мистер Батлер, любым угодным вам образом, – произнес Каупервуд. – Я не скажу, что у меня уже сейчас большое дело, это еще только первые шаги. Но связи у меня хорошие. Я приобрел собственное место на Нью-Йоркской и Филадельфийской биржах. Те, кому приходилось иметь со мной дело, по-моему, всегда оставались довольны результатами.
– О вашей работе мне кое-что уже известно, – повторил Батлер.
– Очень хорошо. Когда я вам понадоблюсь, вы, может быть, зайдете в мою контору или напишете мне, и я приду к вам. Я сообщу вам свой секретный код, так что все вами написанное останется в строжайшей тайне.
– Ладно, ладно! Сейчас мы больше не будем об этом говорить. Скоро мы вновь встретимся, и тогда в моем банке вам будет открыт кредит на определенную сумму.
Он встал и взглянул в окно. Каупервуд тоже поднялся.
– Кажется, отличная погода сегодня?
– Прекрасная!
– Ну, я уверен, что со временем мы с вами сойдемся ближе.
Он протянул Каупервуду руку.
– Я тоже надеюсь.
Каупервуд направился к выходу, и Батлер проводил его до парадной двери. В эту самую минуту с улицы вбежала румяная, голубоглазая девушка в ярко-красной пелерине с капюшоном, накинутым на рыжевато-золотистые волосы.
– Ах, папа, я чуть тебя с ног не сбила!
Она улыбнулась отцу, а заодно и Каупервуду сияющей, лучезарной и беззаботной улыбкой. Зубы у нее были блестящие и мелкие, а губы – как пунцовый бутон.
– Ты сегодня рано вернулась. Я полагал, что ты ушла на весь день.
– Я так и хотела, а потом передумала.
Она прошла дальше, размахивая руками.
– Итак, – продолжал Батлер, когда она скрылась, – подождем денек-другой. До свиданья!
– До свиданья!
Каупервуд спускался по лестнице, радуясь открывавшимся перед ним перспективам финансовой деятельности, и вдруг в его воображении возникла только что виденная им румяная девушка – живое воплощение юности. Какая она яркая, здоровая, жизнерадостная! В ее голосе звучала вся свежесть и бодрая сила пятнадцати или шестнадцати лет. Жизнь била в ней ключом. Лакомый кусочек, который со временем достанется какому-нибудь молодому человеку, и вдобавок ее отец еще обогатит его или по меньшей мере посодействует его обогащению.
Глава XII
К Эдварду Мэлии Батлеру и обратился Каупервуд почти два года спустя, когда подумал, что он мог бы достигнуть весьма влиятельного положения, если бы ему поручили распространить часть выпущенного займа. Возможно, Батлер и сам заинтересуется приобретением пакета облигаций, а не просто поможет ему, Фрэнку, разместить их. К этому временя Батлер уже проникся искренней симпатией к Каупервуду и в книгах последнего значился крупным держателем ценных бумаг. Каупервуду тоже нравился этот плотный, внушительный ирландец. Нравилась ему и вся история жизни Батлера. Он познакомился с его женой, очень полной и флегматичной ирландкой. Она была весьма неглупа, терпеть не могла ничего показного и до сих пор еще любила заходить на кухню и лично руководить стряпней. Фрэнк был уже знаком и с сыновьями Батлера – Оуэном и Кэлемом, и с дочерьми – Норой и Эйлин. Эйлин и была та самая девушка, с которой он столкнулся на лестнице во время первого своего визита к Батлеру позапрошлой зимой.
Когда Каупервуд вошел в своеобразный кабинет-контору Батлера, там уютно пылал камин. Близилась весна, но вечера были еще холодные. Батлер предложил гостю поудобнее устроиться в глубоком кожаном кресле возле огня и приготовился его слушать.
– Н-да, это не такая легкая штука! – произнес он, когда Каупервуд кончил. – Вы ведь лучше меня разбираетесь в этих вещах. Как вам известно, я не финансист, – и он улыбнулся, словно оправдываясь.
– Я знаю только, что это вопрос влияния и протекции, – продолжал Каупервуд. – «Дрексель и К°» и «Кук и К°» имеют связи в Гаррисберге. У них там есть свои люди, стоящие на страже их интересов. С главным прокурором и казначеем штата они в самых приятельских отношениях. Если я предложу свои услуги и даже докажу, что могу взять на себя размещение займа, мне это дело все равно не поручат. Так бывало уже не раз. Я должен заручиться поддержкой друзей, их влиянием. Вы же знаете, как устраиваются такие дела.
– Они устраиваются довольно легко, – сказал Батлер, – когда знаешь наверняка, к кому следует обратиться. Возьмем, к примеру, Джимми Оливера – он должен быть более или менее в курсе дела.
Джимми Оливер был тогда окружным прокурором и время от времени давал Батлеру ценные советы. По счастливой случайности он состоял еще и в дружбе с казначеем штата.
– На какую же часть займа вы метите?
– На пять миллионов.
– Пять миллионов! – Батлер выпрямился в своем кресле. – Да что вы, голубчик? Это ведь огромные деньги! Где же вы разместите такое количество облигаций?
– Я подам заявку на пять миллионов, – мягко успокоил его Каупервуд, – а получить хочу только миллион, но такая заявка подымет мой престиж, а престиж тоже котируется на рынке.
Батлер, облегченно вздохнув, откинулся на спинку кресла.
– Пять миллионов! Престиж! А хотите вы только один миллион? Ну что ж, тогда дело другое! Мыслишка-то, по правде сказать, неплохая. Такую сумму мы, пожалуй, сумеем раздобыть.
Он потер ладонью подбородок и уставился на огонь. Уходя в этот вечер от Батлера, Каупервуд не сомневался, что тот его не обманет и пустит в ход всю свою машину. Посему он ничуть не удивился и прекрасно понял, что это означает, когда несколько дней спустя его представили городскому казначею Джулиану Боуду, который в свою очередь обещал познакомить его с казначеем штата Ван-Нострендом и позаботиться о том, чтобы ходатайство Каупервуда было рассмотрено.
– Вы, конечно, знаете, – сказал он Каупервуду в присутствии Батлера, в чьем доме и происходило это свидание, – что банковская клика очень могущественна. Вам известно, кто ее возглавляет. Они не желают, чтобы в дело с выпуском займа совались посторонние. У меня был разговор с Тэренсом Рэлихеном, их представителем там, наверху (он подразумевал столицу штата Гаррисберг), который заявил, что они не потерпят никакого вмешательства в это дело с займом. Вы можете нажить себе немало неприятностей здесь, в Филадельфии, если добьетесь своего, – это ведь очень могущественные люди. А вы уже представляете себе, где вы разместите заем?
– Да, представляю, – отвечал Каупервуд.
– Ну что ж, по-моему, самое лучшее теперь – держать язык за зубами. Подавайте заявку – и дело с концом. Ван-Ностренд, с согласия губернатора, утвердит ее. С губернатором же, я думаю, мы сумеем столковаться. А когда вы добьетесь утверждения, с вами, вероятно, пожелают иметь крупный разговор, но это уж ваша забота.
Каупервуд улыбнулся своей непроницаемой улыбкой. Сколько всяких ходов и выходов в этом финансовом мире! Целый лабиринт подземных течений! Немного прозорливости, немного сметки, немного удачи – время и случай, – вот что по большей части решает дело. Взять хотя бы его самого: стоило ему ощутить честолюбивое желание сделать карьеру, только желание, ничего больше, – и вот у него уже установлена связь с казначеем штата и с губернатором. Они будут самолично разбирать его дело, потому что он этого потребовал. Другие дельцы, повлиятельнее его, имели точно такое же право на долю в займе, но они не сумели этим правом воспользоваться. Смелость, инициатива, предприимчивость – как много они значат, да еще везенье вдобавок.
Уходя, Фрэнк думал о том, как удивятся «Кук и К°», «Дрексель и К°», узнав, что он выступил в качестве их конкурента. Дома он поднялся на второй этаж, в маленькую комнату рядом со спальней, которую он приспособил под кабинет, там стояли письменный стол, несгораемый шкаф и кожаное кресло, и стал проверять свои ресурсы. Ему нужно было многое обдумать и взвесить. Он снова пересмотрел список лиц, с которыми уже договорился и на чью подписку мог смело рассчитывать. Проблема размещения облигаций на миллион долларов его не беспокоила; по его расчетам, он должен был заработать два процента с общей суммы, то есть двадцать тысяч долларов. Если дело выгорит, он решил купить особняк на Джирард-авеню, неподалеку от Батлеров, а может быть, еще лучше – приобрести участок и начать строиться. Деньги на постройку он раздобудет, заложив участок и дом. У отца дела идут весьма недурно. Возможно, и он захочет строиться рядом; тогда они будут жить бок о бок. Контора должна была дать в этом году, независимо от операции с займом, тысяч десять. Вложения Фрэнка в конку, достигавшие суммы в пятьдесят тысяч долларов, приносили шесть процентов годовых. Имущество жены, заключавшееся в их нынешнем доме, облигациях государственных займов и недвижимости в западной части Филадельфии, составляло еще сорок тысяч. Он был богатым человеком, но рассчитывал вскоре стать гораздо богаче. Теперь надо только действовать разумно и хладнокровно. Если операция с займом пройдет успешно, он сможет повторить ее, и даже в более крупном масштабе, ведь это не последний выпуск. Посидев еще немного, он погасил свет и ушел к жене, которая уже спала. Няня с детьми занимала комнату по другую сторону лестницы.
– Ну вот, Лилиан, – сказал он, когда она, проснувшись, повернулась к нему, – мне кажется, что дело с займом, о котором я тебе рассказывал, теперь на мази. Один миллион для размещения я, видимо, получу. Это принесет двадцать тысяч прибыли. Если все пройдет успешно, мы выстроим себе дом на Джирард-авеню. Со временем она станет одной из лучших улиц. Колледж – прекрасное соседство.
– Это будет замечательно, Фрэнк! – сказала она и погладила его руку, когда он присел на край кровати. Но в тоне ее слышалось легкое сомнение.
– Нам нужно быть повнимательнее к Батлерам. Он очень мило со мной обошелся и, конечно, будет нам полезен и впредь. Он приглашал нас с тобой как-нибудь зайти к ним, не следует пренебрегать этим приглашением. Будь поласковее с его женой. Он может при желании очень многое для меня сделать. У него, между прочим, две дочери. Надо будет пригласить их к нам всей семьей.
– Мы устроим для них обед, – с готовностью откликнулась Лилиан. – Я на днях заеду к миссис Батлер и предложу ей покататься со мной.
Лилиан уже успела узнать, что Батлеры – во всяком случае младшее поколение – любят показной шик, что они весьма чувствительны к разговорам о своем происхождении и что деньги, по их понятиям, искупают решительно все недостатки.
– Старик Батлер – человек весьма респектабельный, – заметил как-то Каупервуд, – но миссис Батлер… да и она, собственно, ничего, но уж очень простовата. Впрочем, это женщина добрая и сердечная.
Фрэнк просил еще жену полюбезней обходиться с Эйлин и Норой, так как отец и мать Батлеры пуще всего гордятся своими дочерьми.
Лилиан в ту пору было тридцать два года, Фрэнку – двадцать семь. Рождение двух детей и заботы о них до некоторой степени изменили ее внешность. Она утратила прежнее обольстительное изящество и стала несколько сухопарой. Лицо ее с ввалившимися щеками напоминало лица женщин с картин Россетти и Бёрн-Джонса[13]. Здоровье было подорвано: уход за двумя детьми и обнаружившиеся в последнее время признаки катара желудка отняли у нее много сил. Нервная система ее расстроилась, и временами она страдала приступами меланхолии. Каупервуд все это замечал. Он старался быть с ней по-прежнему ласковым и внимательным, но, обладая умом утилитарным и практическим, не мог не понимать, что рано или поздно у него на руках окажется больная жена. Сочувствие и привязанность, конечно, великое дело, но страсть и влечение должны сохраняться – слишком уж горька бывает их утрата. Теперь Фрэнк часто засматривался на молодых девушек, жизнерадостных и пышущих здоровьем. Разумеется, похвально, благоразумно и выгодно блюсти добродетель, согласно правилам общепринятого кодекса морали, но если у тебя больная жена?.. Да и вообще, разве человек прикован к своей жене? Неужто ему уж ни на одну женщину и взглянуть нельзя? А что, если по сердцу ему пришлась другая? Фрэнк в свободное время немало размышлял над подобными вопросами и пришел к заключению, что все это не так уж страшно. Если не рискуешь быть разоблаченным, тогда все в порядке. Надо только соблюдать сугубую осмотрительность. Сейчас, когда он сидел на краю жениной кровати, эти мысли вновь пришли ему в голову, ибо днем он видел Эйлин Батлер: она пела, аккомпанируя себе на рояле, когда он проходил через гостиную. Эйлин была похожа на птичку в ярком оперении и дышала здоровьем и радостью. Олицетворенная юность!
«Странно устроен мир!» – подумал Фрэнк. Но эти мысли он глубоко таил в себе и никому не собирался их поверять.
Операция с займом привела к довольно любопытным результатам: правда, Фрэнк выручил свои двадцать тысяч, даже несколько больше, и вдобавок привлек к себе внимание финансового мира Филадельфии и штата Пенсильвания, но распространять заем ему так и не пришлось. У него состоялось свидание с казначеем штата в конторе одного знаменитого филадельфийского юриста, где казначей обычно занимался делами во время своих наездов в Филадельфию. Он был весьма любезен с Каупервудом – ничего другого ему не оставалось – и объяснил, как в Гаррисберге устраиваются такие дела. Средства для предвыборных кампаний добываются у крупных финансистов. У тех имеются свои ставленники в палате и в сенате штата. Губернатор и казначей, конечно, свободны в своих действиях, но им приходится помнить о существовании таких факторов, как престиж, дружба, общественное влияние и политическое честолюбие. Крупные дельцы нередко образуют замкнутую корпорацию – факт, разумеется, не совсем благовидный. Но, с другой стороны, они как-никак являются законными поручителями при выпуске крупных займов. Штат вынужден поддерживать с ними добрые отношения, особенно в такое время, как сейчас. Поскольку мистер Каупервуд располагает прекрасными возможностями для размещения облигаций на один миллион – кажется, именно на такую сумму он претендует, – его просьбу следует удовлетворить. Но Ван-Ностренд хочет сделать ему другое предложение. Не согласится ли Каупервуд – если этого пожелает группа финансистов, реализующая заем, – после утверждения его заявки уступить им за известную компенсацию (равную той прибыли, на которую он рассчитывал) свою долю в размещении займа? Таково желание некоторых финансистов. Сопротивляться им было бы опасно. Они отнюдь не возражают против заявки на пять миллионов, которая должна поднять престиж Каупервуда. Пусть даже считается, что он разместил один миллион, они и против этого ничего не имеют. Но они хотят взять на себя нераздельно реализацию всех двадцати трех миллионов долларов одним кушем: так оно будет внушительнее. При этом вовсе незачем кричать во всеуслышание, что Каупервуд отказался от участия в распространении займа. Они согласны дать ему пожать лавры, которые ожидали бы его, если бы он завершил начатое дело. Беда только в том, что это может послужить дурным примером. Найдутся и другие, желающие пойти по его стопам. Но если в узких финансовых кругах из частных источников распространится слух, что на него было оказано давление и он, получив отступные, отказался от участия в размещении займа, то в будущем это удержит других от подобного шага. Если же Каупервуд не согласится на предложенные ему условия, ему могут причинить всевозможные неприятности. Например: потребовать погашения его онкольных ссуд. Во многих банках с ним в дальнейшем будут менее предупредительны. Его клиентуру могут тем или иным путем отпугнуть.
Каупервуд понял. И… согласился. Поставить на колени стольких сильных мира сего – одно это уже кое-чего стоит! Итак, о нем прослышали, поняли, что он такое. Очень хорошо, превосходно! Он возьмет свои двадцать тысяч долларов или около того и ретируется. Казначей тоже был в восторге. Это позволяло ему выйти из весьма щекотливого положения.
– Я рад, что повидался с вами, – сказал он, – рад, что мы вообще встретились. Когда я снова буду в этих краях, я загляну к вам, и мы вместе позавтракаем.
Казначей почуял, что имеет дело с человеком, который даст ему возможность подработать. У Каупервуда был на редкость проницательный взгляд, а его лицо свидетельствовало о живом и гибком уме. Вернувшись к себе, он рассказал о молодом финансисте губернатору и некоторым знакомым дельцам.
Распределение займа для реализации было наконец утверждено. После секретных переговоров с заправилами фирмы «Дрексель и К°» Каупервуд получил от них двадцать тысяч долларов и передал им свое право на участие в этом деле. Теперь в его конторе время от времени стали показываться новые лица, среди них Ван-Ностренд и уже упомянутый нами Тэренс Рэлихен, представитель другой политической группы в Гаррисберге. Однажды за завтраком в ресторане Фрэнка познакомили с губернатором. Его имя стало упоминаться в газетах, он быстро вырастал в глазах общества.
Фрэнк вместе с молодым Элсуортом незамедлительно принялся за разработку проекта своего нового дома. Будет построено нечто исключительное, заявил он жене. Теперь им придется устраивать большие приемы. Фронт-стрит для них уже слишком тихая улица. Фрэнк дал объявление о продаже старого дома, посоветовался с отцом и выяснил, что и тот не прочь переехать. Успех сына благоприятно отозвался и на карьере отца. Директора банка день ото дня становились с ним любезнее. В следующем году председатель правления банка Кугель собирался выйти в отставку. Старого Каупервуда благодаря блестящей финансовой операции, проведенной его сыном, а также долголетней службе прочили на этот пост. Фрэнк делал крупные займы в его банке, а следовательно, был и крупным вкладчиком. Весьма положительно оценивалась и его деловая связь с Эдвардом Батлером. Фрэнк снабжал заправил банка сведениями, которых без него они не могли бы добыть. Городской казначей и казначей штата стали интересоваться этим банком. Каупервуду-старшему уже мерещился двадцатитысячный оклад председателя правления, и в значительной мере он был обязан этим сыну. Отношения между обеими семьями теперь не оставляли желать ничего лучшего. Анна (ей уже исполнился двадцать один год), Эдвард и Джозеф часто проводили вечера в доме брата. Лилиан почти ежедневно навещала его мать. Каупервуды оживленно обменивались семейными новостями, и наконец решено было строиться рядом. Каупервуд-старший купил участок в пятьдесят футов рядом с тридцатифутовым участком сына, и они вместе приступили к постройке двух красивых и удобных домов, которые должны были соединиться между собою галереей, так называемой перголой, открытой летом и застекленной зимой.
Для облицовки фасада был выбран зеленый гранит, широко распространенный в Филадельфии, но мистер Элсуорт обещал придать этому камню вид, особенно приятный для глаза. Каупервуд-старший решил, что может позволить себе истратить на постройку семьдесят пять тысяч долларов (его состояние уже оценивалось в двести пятьдесят тысяч), а Фрэнк собирался рискнуть пятьюдесятью тысячами, получив эту сумму по закладной. В то же время он намеревался перевести свою контору в отдельное здание на той же Третьей улице, но южнее. Ему стало известно, что там продается дом с фасадом в двадцать пять футов длиною, правда, старый, но если облицевать его темным камнем, то он приобретет весьма внушительный вид. Мысленному взору Фрэнка уже рисовалось красивое здание с огромным зеркальным окном, сквозь которое видна деревянная обшивка внутренних стен, а на дверях или сбоку от них бронзовыми буквами значится: «Каупервуд и К°». Смутно, но уже различимо, подобно розоватому облачку на горизонте, виделось ему его будущее. Он будет богат, очень, очень богат!
Глава XIII
В то время как Каупервуд неуклонно продвигался вперед по пути жизненных успехов, великая война против восставшего Юга близилась к концу. Стоял октябрь 1864 года. Взятие Мобиля и «битва в лесных дебрях»[14] были еще свежи в памяти всех. Грант стоял уже на подступах к Питерсбергу, а доблестный генерал южан Ли предпринимал последние блестящие и безнадежные попытки спасти положение, используя все свои способности стратега и воина. Иногда, например, в ту томительно долгую пору, когда вся страна ждала падения Виксберга или победоносного наступления армии, стоявшей на реке Потомак, а Ли меж тем вторгся в Пенсильванию, акции стремительно понижались в цене и рынок приходил в состояние крайнего упадка. В такие минуты Каупервуд призывал на помощь всю свою изворотливость; ему приходилось каждое мгновение быть начеку, чтобы все нажитое им не пошло прахом из-за каких-нибудь непредвиденных и пагубных вестей.
Личное его отношение к войне – независимо от его патриотических чувств, требовавших сохранения целостности Союза[15], – сводилось к мнению, что это разрушительное и дорогостоящее предприятие. Он не был настолько чужд национальной гордости, чтобы не сознавать, что Соединенными Штатами, которые теперь раскинулись от Атлантического океана до Тихого и от снегов Канады до Мексиканского залива, нельзя не дорожить. Родившись в 1837 году, Каупервуд был свидетелем того, как страна добивалась территориальной целостности (если не считать Аляски). В дни его юности США обогатились купленной у испанцев Флоридой; Мексика, после несправедливой войны, уступила в 1848 году Техас и территорию к западу от него, уладились наконец пограничные споры между Англией и Соединенными Штатами на далеком северо-западе. Человек с широкими взглядами на социальные и финансовые вопросы не мог не понимать всего значения этих фактов. Во всяком случае, они внушали Каупервуду сознание неограниченных коммерческих возможностей, таившихся в таком обширном государстве. Он не принадлежал к разряду финансовых авантюристов или прожектеров, усматривавших источники беспредельной наживы в каждом неисследованном ручье, в каждой пяди прерии; но уже сами размеры страны говорили о гигантских возможностях, которые, как надеялся Фрэнк, можно будет оградить от каких бы то ни было посягательств. Территория, простирающаяся от океана до океана, таила в себе потенциальные богатства, которые были бы утрачены, если бы южные штаты отделились от северных.
В то же время проблема освобождения негров не казалась Каупервуду существенной. Он с детства наблюдал за представителями этой расы, подмечал их достоинства и недостатки, которые считал врожденными, и полагал, что этим-то и обусловлена их судьба.
Так, например, он вовсе не был уверен, что неграм может быть предназначена бо́льшая роль, чем та, которую они играли. Во всяком случае, им предстоит еще долгая и трудная борьба, исхода которой не узнают ближайшие поколения. У него не было особых возражений против теории, требовавшей для них свободы, но он не видел и причин, по которым южане не должны были бы всеми силами противиться посягательствам на их достояние и экономический строй. Очень жаль, конечно, что в некоторых случаях с черными невольниками обращаются плохо. Он считал, что этот вопрос следует пересмотреть, но не видел никаких серьезных этических оснований для той борьбы, которую вели покровители чернокожих. Он сознавал, что положение огромного большинства мужчин в женщин мало чем отличается от положения рабов, несмотря на то что их будто бы защищает конституция страны. Ведь существовало духовное рабство, рабство слабых духом в слабых телом. Каупервуд с живым интересом следил за выступлениями Сэмнера, Гаррисона, Филиппса и Бичера[16], но никогда не считал эту проблему жизненно важной для себя. Он не имел охоты быть солдатом или командовать солдатами и не обладал полемическим даром; по самому складу своего ума он не принадлежал к любителям дискуссии даже в области финансов. Его интересовало лишь то, что могло оказаться выгодным для него, и выгоде были посвящены все его помыслы. Братоубийственная война на его родине не могла принести ему пользы. По его мнению, она только мешала стране окрепнуть в торговом и финансовом отношении, и он надеялся на скорый конец этой войны. Он не предавался горьким сетованиям на высокие военные налоги, хотя знал, что для многих это тяжелое испытание. Рассказы о смертях и несчастьях очень трогали его, но, увы, таковы превратности человеческой жизни, и не в его силах что-либо изменить в ней! Так шел он своим путем, изо дня в день наблюдая за приходом и уходом воинских отрядов, на каждом шагу встречая кучки грязных, исхудалых, оборванных и полубольных людей, возвращавшихся с поля битвы или из лазаретов; ему оставалось лишь жалеть их. Эта война была не для него. Он не принимал в ней участия и знал только, что будет очень рад ее окончанию – не как патриот, а как финансист. Она была разорительной, трагической, несчастливой.
Дни шли за днями. За это время состоялись выборы в местные органы власти и сменились городской казначей, налоговый уполномоченный и мэр. Но Эдвард Мэлия Батлер, видимо, продолжал пользоваться прежним влиянием. Между Батлерами и Каупервудами установилась тесная дружба. Миссис Батлер была очень расположена к Лилиан, хотя они исповедовали разную веру; обе женщины вместе катались в экипаже, вместе ходили по магазинам; правда, миссис Каупервуд относилась к своей старшей приятельнице несколько критически и слегка стыдилась ее малограмотной речи, ирландского выговора и вульгарных вкусов, точно сама она происходила не из такой же плебейской семьи. Но, с другой стороны, она не могла не признать, что эта женщина очень добра и сердечна. Живя в большом достатке, она любила делать людям приятное, задаривала и ласкала Лилиан и ее детей.
«Ну, вы смотрите беспременно приходите отобедать с нами!» (Батлеры достигли уже той степени благосостояния, когда принято обедать поздно.) Или: «Вы должны покататься со мною завтра!»
«Эйлин, дай ей бог здоровья, славная девушка!» Или: «Норе, бедняжке, нынче чего-то неможется».
Однако Эйлин, с ее капризами, задорным нравом, требованием внимания к себе и тщеславием, раздражала, а порой даже возмущала миссис Каупервуд. Эйлин теперь уже было восемнадцать лет, и во всем ее облике сквозила какая-то коварная соблазнительность. Манеры у нее были мальчишеские, порой она любила пошалить и, несмотря на свое монастырское воспитание, восставала против малейшего стеснения ее свободы. Но при этом в голубых глазах Эйлин светился мягкий огонек, говоривший об отзывчивом и добром сердце.
Стремясь воспитать дочь, как они выражались, «доброй католичкой», родители Эйлин в свое время выбрали для нее церковь Св. Тимофея и монастырскую школу в Джермантауне. Эйлин познакомилась там с католическими догматами и обрядами, но ничего не поняла в них. Зато в ее воображении глубоко запечатлелись: храм, с его тускло поблескивающими окнами, высокий белый алтарь и по обе стороны от него статуи св. Иосифа и Девы Марии в голубых, усыпанных золотыми звездами одеяниях, с нимбами вокруг голов и скипетрами в руках. Храм вообще, а любой католический храм тем более, радует глаз и умиротворяет дух. Алтарь, во время мессы залитый светом пятидесяти, а то и больше свечей, кажущийся еще более величественным и великолепным благодаря богатым кружевным облачениям священников и служек, прекрасные вышивки и яркая расцветка риз, ораря и нарукавников нравились девушке и пленяли ее воображение. Надо сказать, что в ней всегда жила тяга к великолепию, любовь к ярким краскам и «любовь к любви». Эйлин с малых лет чувствовала себя женщиной. Она никогда не стремилась вникать в суть вещей, не интересовалась точными знаниями. Таковы почти все чувственные люди. Они нежатся в лучах солнца, упиваются красками, роскошью, внешним великолепием и дальше этого не идут. Точность представлений нужна душам воинственным, собственническим, и в них она перерождается в стремление к стяжательству. Властная чувственность, целиком завладевающая человеком, не свойственна ни активным, ни педантичным натурам.
Сказанное выше необходимо пояснить применительно к Эйлин. Несправедливо было бы утверждать, что в то время она уже была явно чувственной натурой. Все это еще дремало в ней. Зерно не скоро дает урожай. Исповедальня, полумрак в субботние вечера, когда церковь освещалась лишь несколькими лампадами, увещания патера, налагаемая им епитимья и отпущение грехов, нашептываемые через решетчатое окошко, смутно волновало ее. Грехов своих она не страшилась. Ад, ожидающий грешников, не пугал Эйлин. Угрызения совести ее не терзали. Старики и старухи, которые ковыляли в церковь и, бормоча слова молитвы, перебирали четки, для нее мало чем отличались от фигур в своеобразном строе деревянных идолов, призванных подчеркивать святость креста. Ей нравилось, особенно в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет, исповедоваться, прислушиваясь к голосу духовника, все свои наставления начинавшего словами: «Так вот, возлюбленное дитя мое…» Один старенький патер-француз, исповедовавший воспитанниц монастырского пансиона, своей добротой и мягкостью особенно трогал Эйлин. Его благословения звучали искренне, куда искренней, чем ее молитвы, которые она читала торопливо и невнимательно. Позднее ее воображением завладел молодой патер церкви Св. Тимофея, отец Давид, румяный здоровяк с завитком черных волос на лбу, не без щегольства носивший свой пастырский головной убор; по воскресеньям он проходил меж скамьями, решительными, величественными взмахами руки кропя паству святой водой. Он принимал исповедь, и Эйлин любила иногда шепотом поверять ему приходившие ей в голову греховные мысли, стараясь при этом угадать, что думает о ней духовник. Как бы она того ни желала, она не могла видеть в нем представителя божественной власти. Он был слишком молодым, слишком обыкновенным человеком. И в ее манере с упоением рассказывать о себе, а потом смиренно, с видом кающейся грешницы, направляться к выходу было что-то коварное, задорное и поддразнивающее. В школе Св. Агаты она считалась «трудной» воспитанницей, ибо, как вскоре заметили добрые сестры, была слишком жизнерадостна, слишком полна энергии, чтобы подчиняться чужой воле.
– Эта мисс Батлер, – сказала однажды мать настоятельница сестре Семпронии, непосредственной наставнице Эйлин, – очень бойкая девица. Вы наживете с ней немало хлопот, если не проявите достаточно такта. По-моему, вам надо пойти на мелкие уступки. Так вы, пожалуй, большего от нее добьетесь.
С тех пор сестра Семпрония старалась угадывать желания Эйлин, а временами даже им попустительствовала. Но и это не всегда удавалось монахине – девушка была преисполнена сознанием отцовского богатства и своего превосходства над другими. Правда, иногда у нее вдруг являлось желание съездить домой, или же она просила у сестры наставницы разрешения поносить ее четки из крупных бус с крестом черного дерева и серебряной фигурой Христа – в пансионе это считалось большим почетом. Подобные преимущества, а также и другие – разрешение прогуливаться в субботу вечером по монастырским землям, рвать сколько угодно цветов, иметь несколько лишних платьев, носить украшения – предлагались ей в награду, лишь бы она тихо вела себя в классе, тихо ходила и тихо разговаривала (насколько это было в ее силах!), не забиралась в дортуары к другим девушкам после того, как гасили свет, и, внезапно проникнувшись нежностью к той или иной сестре воспитательнице, не душила ее в объятиях. Эйлин любила музыку и очень хотела заниматься живописью, хотя никаких способностей к живописи у нее не было. Книги, главным образом романы, тоже интересовали ее, но достать их было негде. Все остальное – грамматику, правописание, рукоделие, закон божий и всеобщую историю – она ненавидела. Правила хорошего тона – это, пожалуй, еще было интересно. Ей нравились вычурные реверансы, которым ее учили, и она часто думала о том, как будет приветствовать ими гостей, вернувшись в родительский дом.
Как только Эйлин вступила в жизнь, все тонкие различия в положении отдельных слоев местного общества начали ее волновать; она страстно желала, чтобы отец построил хороший особняк вроде тех, какие она видела у других, и открыл ей дорогу в общество. Желание это не сбылось, и тогда все ее помыслы обратились на драгоценности, верховых лошадей, экипажи и, конечно, множество нарядов – все, что она могла иметь взамен. Дом, в котором они жили, не позволял устраивать большие приемы, и Эйлин уже в восемнадцать лет познала муки уязвленного самолюбия. Она жаждала другой жизни! Но как ей было осуществить свои мечты?
Комната Эйлин, полная нарядов, красивых безделушек, драгоценностей, надевать которые Эйлин случалось лишь изредка, туфель, чулок, белья и кружев, могла бы служить образцом для изучения слабостей нетерпеливой и тщеславной натуры. Эйлин знала все марки духов и косметики (хотя в последней она ничуть не нуждалась) и в изобилии накупала то и другое. Аккуратность не была ее отличительной чертой, а показную роскошь она очень любила. Пышное нагромождение портьер, занавесей, безделушек и картин в ее комнате плохо сочеталось со всем остальным убранством дома.
Эйлин всегда вызывала у Каупервуда представление о невзнузданной норовистой лошадке. Он нередко встречал ее, когда она ходила с матерью по магазинам или же каталась с отцом, и его неизменно смешил и забавлял скучающий тон, какой она напускала на себя в разговоре с ним.
– О господи боже мой! Как скучно жить на свете! – говорила она, тогда как на самом деле каждое мгновение жизни для нее было исполнено трепетной радости. Каупервуд точно охарактеризовал ее духовную сущность: девушка, в которой жизнь бьет ключом, романтичная, увлеченная мыслями о любви и обо всем, что несет с собой любовь. Когда он смотрел на нее, ему казалось, что он видит полнейшее совершенство, какое могла бы создать природа, если бы попыталась сотворить нечто физически идеальное. У него мелькнула мысль, что в скором времени какой-нибудь счастливчик женится на ней и увезет ее с собой. Но тот, кому она достанется, вынужден будет удерживать ее обожанием, тонкой лестью и неослабным вниманием.
– Это маленькое ничтожество (меньше всего она была ничтожеством) воображает, что весь свет в кармане у ее отца, – заметила однажды Лилиан в разговоре с мужем. – Послушать ее, так можно подумать, что Батлеры ведут свой род от ирландских королей! А ее деланый интерес к музыке и к искусству просто смешон.
– Ну, не будь уж слишком строга к ней! – дипломатично успокаивал ее Каупервуд (в то время Эйлин уже очень нравилась ему). – Она хорошо играет, и у нее приятный голос.
– Это верно, но она лишена настоящего вкуса. Да и откуда ему взяться? Достаточно посмотреть на ее отца и мать!
– Я лично, право же, не вижу в ней ничего плохого, – стоял на своем Каупервуд. – У нее веселый нрав, и она хороша собой. Конечно, она еще совсем ребенок и немного тщеславна, но это у нее пройдет. К тому же она неглупа и энергична.
Эйлин – он это знал – была очень расположена к нему. Он ей нравился. Она любила играть на рояле и петь, бывая у него в доме, причем пела только в его присутствии. Его уверенная, твердая походка, сильное тело и красивая голова – все привлекало ее. Несмотря на свою суетность и свой эгоцентризм, она временами несколько робела перед ним. Но, как правило, в его присутствии становилась особенно весела и обворожительна.
Самое безнадежное дело на свете – пытаться точно определить характер человека. Каждая личность – это клубок противоречий, а тем более личность одаренная.
Поэтому невозможно исчерпывающе описать Эйлин Батлер. Умом она, несомненно, обладала, хотя неотточенным и примитивным, а также силой характера, временами обуздываемой воззрениями и условностями современного ей общества, временами же проявлявшейся стихийно и скорее положительно, чем отрицательно. Ей только что исполнилось восемнадцать лет, и такому человеку, как Фрэнк Каупервуд, она казалась очаровательной. Все ее существо было проникнуто тем, чего он раньше не встречал ни в одной женщине и никогда ни от одной из них сознательно не требовал, – живостью и жизнерадостностью. Но ведь ни одна девушка или женщина из тех, кого он когда-либо знал, не обладала этой врожденной жизненной силой. Ее волосы, рыжевато-золотистые – собственно, цвета червонного золота с чуть заметным рыжеватым отливом – волнами подымались надо лбом и узлом спадали на затылок. У нее был безукоризненной формы нос, прямой, с маленькими ноздрями, и глаза, большие, с волнующим и чувственным блеском. Каупервуду нравился их голубовато-серый – ближе к голубому – оттенок. Ее туалеты невольно вызывали в памяти запястья, ножные браслеты, серьги и нагрудные чаши одалисок, хотя ничего подобного она, конечно, не носила. Много лет спустя Эйлин призналась ему, что с удовольствием выкрасила бы ногти и ладони в карминный цвет. Здоровая и сильная, она всегда интересовалась, что думают о ней мужчины и какой она кажется им в сравнении с другими женщинами.
Разъезжать в экипажах, жить в красивом особняке на Джирард-авеню, бывать в таких домах, как дом Каупервудов, – все это значило для нее очень много; но уже и в те годы она понимала, что смысл жизни не только в этих привилегиях. Живут же люди и не имея их.
И все же богатство и превосходство над другими кружили ей голову. Сидя за роялем, катаясь, гуляя или стоя перед зеркалом, она была преисполнена сознанием своей красоты, обворожительности, сознанием того, что это значит для мужчин и какую зависть внушает женщинам. Временами при виде бедных, плоскогрудых и некрасивых девушек она проникалась жалостью; временами в ней вспыхивала необъяснимая приязнь к какой-нибудь девице или женщине, дерзнувшей соперничать с ней красотою или положением в обществе. Случалось, что дочери из видных семейств, встретившись с Эйлин в роскошных магазинах на Честнат-стрит или на прогулке в парке, верхом или в экипаже, задирали носы в доказательство того, что они лучше воспитаны и что это им известно. При таких встречах обе стороны обменивались уничтожающими взглядами. Эйлин страстно желала проникнуть в высшее общество, хотя хлыщеватые джентльмены из этого круга нимало не привлекали ее. Она мечтала о настоящем мужчине. Время от времени ей на глаза попадался молодой человек «вроде как подходящий», но обычно это были знакомые ее отца, мелкие политические деятели или члены местного законодательного собрания, стоявшие не выше ее на социальной лестнице, поэтому они быстро утрачивали для нее всякий интерес и надоедали ей. Старик Батлер не знал никого из подлинно избранного общества. Но мистер Каупервуд… он казался таким изысканным, сильным и сдержанным; глядя на миссис Каупервуд, Эйлин часто думала, как должна быть счастлива его жена.
Глава XIV
Быстрое продвижение Каупервуда, главы фирмы «Каупервуд и К°», последовавшее за блестящей операцией с займом, привело его в конце концов к встрече с человеком, весьма значительно повлиявшим на его жизнь в моральном, финансовом и во многих других отношениях. Это был Джордж Стинер, новый городской казначей, игрушка в руках других, который и сделался-то важной персоной именно по причине своего слабоволия. До назначения на этот пост Стинер работал мелким страховым агентом и комиссионером по продаже недвижимого имущества. Такие люди, как он, встречаются тысячами на каждом шагу – без малейшей прозорливости, без подлинной тонкости ума, без изобретательности. Без каких бы то ни было дарований. За всю свою жизнь он не высказал ни единой свежей мысли. Правда, никто не мог бы назвать его плохим человеком. Наружность у него была какая-то тоскливая, серая, безнадежно обыденная, но объяснялось это не столько его внешним, сколько духовным обликом. Голубовато-серые, водянистые глаза, жидкие светлые волосы, безвольные, невыразительные губы. Стинер был довольно высок, почти шести футов ростом, довольно плечист, но весь какой-то нескладный. Он имел привычку слегка сутулиться, а брюшко у него немного выдавалось вперед. Речь его состояла из сплошных общих мест – газетная и обывательская болтовня да коммерческие сплетни. Знакомые и соседи относились к нему неплохо. Его считали честным и добрым, да таким он, пожалуй, и был. Жена его и четверо детей были тусклы и ничтожны, какими обычно бывают жены и дети подобных людей.
Вопреки всему этому – а с точки зрения политики, пожалуй, именно благодаря этому – Джордж Стинер временно оказался в центре общественного внимания, чему способствовали известные политические методы, уже с полсотни лет практиковавшиеся в Филадельфии. Во-первых, Стинер держался тех же политических взглядов, что и господствующая партия; члены городского совета и заправилы его округа знали его как верного человека, к тому же весьма полезного при сборе голосов во время предвыборных кампаний. Во-вторых, хотя он никуда не годился как оратор, ибо не мог выжать из себя ни одной оригинальной мысли, его можно было посылать из дома в дом разузнавать настроения бакалейщиков, кузнецов или мясников; он со всеми заводил дружбу и в результате мог довольно точно предсказать исход выборов. Более того, его можно было «начинить» несколькими избитыми фразами, которые он и твердил изо дня в день, к примеру: «Республиканская партия (партия только что возникшая, но уже стоявшая у власти в Филадельфии) нуждается в вашем голосе. Нельзя допустить к управлению штатом этих мошенников-демократов». Почему нельзя – Стинер уже вряд ли мог бы объяснить. Они отстаивают рабство. Ратуют за свободу торговли[17]. Ему никогда и в голову не приходило, что все это не имеет ни малейшего касательства к исполнительным и финансовым органам города Филадельфии. Повинны демократы в этих грехах или неповинны – что от этого изменялось?
Политическими судьбами города в те времена заправляли некий Марк Симпсон, сенатор Соединенных Штатов, Эдвард Мэлия Батлер и Генри Молленхауэр, богатый торговец углем и финансовый воротила. У них был целый штат агентов, приспешников, доносчиков и подставных лиц. Среди этих людей числился и Стинер – мелкое колесико в бесшумно работавшей машине их политических интриг.
Едва ли такой человек мог быть избран казначеем в другом городе, но население Филадельфии отличалось поразительным равнодушием ко всему на свете, кроме своих обывательских дел. Подавляющее большинство жителей, за редким исключением, не имело собственных политических взглядов. Политика была отдана на откуп клике дельцов. Должности распределялись между теми или иными лицами, теми или иными группами в награду за оказанные услуги. Ну, да кто не знает, как вершится такая «политика»!
Итак, с течением времени Джордж Стинер сделался persona grata[18] в глазах Эдварда Стробика, который стал сперва членом муниципалитета, потом заправилой своего округа и, наконец, председателем муниципалитета, а в частной жизни – владельцем каменоломни и кирпичного завода. Стробик был прихвостнем Генри Молленхауэра, самого матерого и хищного из этой тройки политических лидеров. Когда Молленхауэр своекорыстно добивался чего-нибудь от муниципалитета, Стробик служил покорным орудием в его руках. По указке Молленхауэра Стинер был избран в муниципалитет, а так как он послушно отдал свой голос за того, за кого ему приказали, то его сделали помощником заведующего дорожным управлением.
Здесь он попал в поле зрения Эдварда Мэлии Батлера и начал оказывать ему небольшие услуги. Несколько позднее политический комитет республиканской партии с Батлером во главе решил, что на посту городского казначея нужен человек мягкий, послушный и в то же время, безусловно, преданный; таким образом имя Стинера попало в избирательный бюллетень. Стинер слабо разбирался в финансовых вопросах, хотя и был превосходным бухгалтером: но разве юрисконсульт Риган – такое же бессловесное орудие в руках всемогущего триумвирата – не мог в любое время подать ему полезный совет? Конечно, мог. Итак, проведение кандидатуры Стинера трудностей не представило. Попасть в список кандидатов было уже равносильно избранию. И после нескольких недель утомительных публичных выступлений, когда он, запинаясь, лепетал избитые фразы о том, что Филадельфии прежде всего необходимо честное городское самоуправление, Стинера официально ввели в должность. Вот и все.
Вопрос о том, насколько административные и финансовые способности Джорджа Стинера соответствовали этой должности, не играл бы, вообще говоря, никакой роли, если бы Филадельфия – как ни один другой город – не страдала в тот период от крайне неудачной финансовой системы или, вернее, от полного отсутствия таковой. Дело в том, что налоговому уполномоченному и казначею предоставлялось право накапливать и хранить принадлежащие городу средства вне городских сейфов, причем никто с них даже не требовал, чтобы эти деньги приносили доход городу. Упомянутым должностным лицам вменялось в обязанность ко времени ухода с поста возвратить только основной капитал.
Нигде на предусматривалось, чтобы средства, накопленные таким образом или полученные из любого другого источника, хранились в неприкосновенности в сейфах городского казначейства. Эти деньги могли быть отданы в рост, депонированы в банках или использованы для финансирования частных предприятий, лишь бы был возвращен основной капитал. Разумеется, подобная финансовая политика не была официально санкционирована, но о ней знали и политические круги, и пресса, и крупные финансисты. Так как же можно было положить этому конец?
Вступив в деловой контакт с Эдвардом Мэлией Батлером, Каупервуд, помимо своей воли и сам того, в сущности, не сознавая, оказался вовлеченным в круг порочных и недостойных махинаций. Семь лет назад, уходя из конторы «Тай и К°», он дал зарок никогда больше не заниматься игрой на бирже. Теперь же он снова ей предался, только с еще большей страстностью, ибо работал уже на самого себя, на фирму «Каупервуд и К°», и горел желанием удовлетворить своих новых клиентов – представителей могущественного мира, которые все чаще и чаще прибегали к его услугам. У всех этих людей водились деньги, пусть даже небольшие. Все они раздобывали закулисную информацию и поручали Каупервуду покупать для них те или иные акции под залог, так как его имя было знакомо многим политическим деятелям и он считался весьма надежным человеком. Да таким он и был. До этого времени он не спекулировал и не играл на бирже за собственный счет. Он даже часто успокаивал себя мыслью, что за все эти годы ни разу не выступал на бирже от своего имени, строго придерживаясь поставленного себе правила ограничиваться исполнением чужих поручений. И вот теперь к нему явился Джордж Стинер с предложением, которое нельзя было вполне отождествлять с биржевой игрой, хотя, по существу, оно ничем от нее не отличалось.
Необходимо тут же пояснить, что еще задолго до Гражданской войны и во время ее в Филадельфии практиковался обычай при недостаточности наличных средств в казначействе выпускать так называемые городские обязательства, иначе говоря, те же векселя, из шести процентов годовых, срок которых истекал иногда через месяц, иногда через три, иногда через шесть, в зависимости от суммы и от того, когда, по мнению казначея, город сможет выкупить и погасить эти обязательства. Это был обычный способ расплаты и с мелкими торговцами, и с крупными подрядчиками. Но первым – поставщикам городских учреждений – в случае нужды в наличных деньгах приходилось учитывать эти векселя обычно из расчета девяносто за сто, тогда как вторые имели возможность выждать и попридержать таковые до истечения срока. Подобная система была, конечно, явно убыточна для мелкого торгового люда, но зато очень выгодна для крупных подрядчиков и банкирских контор, ибо сомнений в том, что город в свое время уплатит по этим обязательствам, быть не могло, а при такой абсолютной их надежности шесть процентов годовых были отличной ставкой. Скупая обязательства у мелких торговцев по девяносто центов за доллар, банки и маклеры, если только они имели возможность выждать, в конечном итоге загребали крупные куши.
Первоначально городской казначей, вероятно, не намеревался вводить в убыток кого-либо из своих сограждан – возможно, что тогда в казначействе действительно не было наличных средств для выплаты. Однако впоследствии выпуск этих обязательств уже ничем не оправдывался, ибо городское хозяйство могло бы вестись экономнее. Но к тому времени эти обязательства, как легко можно себе представить, уже сделались источником больших барышей для владельцев маклерских контор, банкиров и крупных спекулянтов, и посему выпуск их неизменно предусматривался финансовой политикой города.
Однако и в этом деле имелась своя оборотная сторона. Чтобы использовать создавшееся положение с наибольшей для себя выгодой, крупный банкир, держатель обязательств, должен был быть еще и «своим человеком», то есть находиться в добрых отношениях с политическими заправилами города; иначе, когда у него появлялась потребность в наличных деньгах и он приходил со своими обязательствами к городскому казначею, то оказывалось, что расчет по ним произведен быть не может. Но стоило ему передать их какому-нибудь банкиру или маклеру, близко стоящему к правящей клике, тогда деле другое! Городское казначейство немедленно изыскивало средства для их оплаты. Или же, если это устраивало маклера или банкира – разумеется, своего, – срок действия векселей, выданных на три месяца и уже подлежащих выкупу, пролонгировался еще на многие годы, и по ним по-прежнему выплачивалось шесть процентов годовых, хотя бы город и располагал средствами для их погашения. Так шло тайное и преступное ограбление городской кассы. «Нет денег!» – эта формула покрывала все махинации. Широкая публика ничего не знала. Да и откуда ей было знать? Газеты не проявляли достаточной бдительности, так как многие из них были на откупе у той же правящей клики. Из людей, имевших хоть какой-то политический вес, не выдвигались настойчивые и убежденные борцы против этих злоупотреблений. За время войны общая сумма непогашенных городских обязательств с выплатой шести процентов годовых выросла до двух с лишним миллионов долларов, и дело стало принимать скандальный оборот. Кроме того, некоторые из вкладчиков вздумали требовать свои деньги обратно.
И вот для покрытия этой просроченной задолженности и для того, чтобы все снова было шито-крыто, городские власти решили выпустить заем примерно на два миллиона долларов – особой точности в сумме не требовалось – в виде процентных сертификатов[19] номиналом по сто долларов, подлежавших выкупу частями, через шесть, двенадцать и восемнадцать месяцев. Сертификаты, для выкупа которых выделялся амортизационный фонд[20], поступали в открытую продажу, а на вырученные за них деньги предполагалось выкупить давно просроченные обязательства, в последнее время вызывавшие столько нежелательных толков.
Совершенно очевидно, что вся эта комбинация сводилась к тому, чтобы отнять у одного и уплатить другому. Фактически ни о каком выкупе просроченных обязательств не могло быть и речи. Весь замысел сводился к тому, чтобы финансисты из той же клики по-прежнему могли потрошить городскую казну: сертификаты продавались «кому следует» по девяносто за сто и даже ниже, под тем предлогом, что на открытом рынке для них нет сбыта из-за малой кредитоспособности города. Отчасти так оно и было. Война только что кончилась. Деньги были в цене. Капиталисты могли где угодно получить более высокие проценты, если им не предоставить сертификатов городского займа по девяносто долларов. Но небольшая группа политиканов, не причастных к городской администрации и настороженно относившихся к ее деятельности, а также ряд газет и некоторые финансисты, стоявшие в стороне от политики, под влиянием общего подъема патриотизма в стране настаивали на размещении займа альпари. Поэтому в постановление о выпуске займа пришлось включить соответствующий пункт.
Само собой разумеется, что это обстоятельство расстроило тайный сговор политиков и финансистов, чаявших получить сертификаты займа по девяносто долларов. Надо было так или иначе выцарапывать свои денежки, застрявшие в просроченных обязательствах города, который не выкупал их за недостатком средств. Оставался один выход – найти маклера, сведущего во всех тонкостях биржи. Этот маклер, взявшись за распространение нового городского займа, придал бы ему видимость выгодного капиталовложения и таким образом сбыл бы сертификаты на сторону по сто долларов за штуку. В дальнейшем же, если бы заем упал в цене – а это было неизбежно, – они могли скупить сколько угодно сертификатов и при первом удобном случае предъявить их городу к оплате по номинальной стоимости.
Джордж Стинер, вступивший в это самое время на пост городского казначея и не обладавший достаточными финансовыми способностями для разрешения столь сложной проблемы, переживал немалую тревогу. Генри Молленхауэр, держатель множества старых городских обязательств, который желал теперь получить свои деньги для вложения их в многообещающие предприятия на Западе, нанес визит Стинеру, а также мэру города. Вместе с Симпсоном и Батлером он входил в состав «большой тройки».
– Я считаю, что пора уже как-то выпутываться из положения с этими просроченными обязательствами, – заявил он. – У меня их накопилось на огромную сумму, да и у других тоже. Мы долгое время помогали городу, не говоря ни слова, но теперь нужно наконец действовать. Мистер Батлер и мистер Симпсон придерживаются того же мнения. Нельзя ли пустить сертификаты нового займа в котировку на фондовой бирже и таким путем реализовать деньги? Ловкий маклер мог бы взвинтить их до паритета.
Стинер был чрезвычайно польщен визитом. Молленхауэр редко утруждал себя появлением на людях, и уж если делал это, то с расчетом на соответствующий эффект. Теперь он побывал еще у мэра города и у председателя городского совета, сохраняя в разговоре с ними, как и со Стинером, высокомерный, неприступный и непроницаемый вид. Разве не были они для него просто мальчиками на побегушках?
Для того чтобы уяснить себе, чем был вызван интерес Молленхауэра к Стинеру и сколь большое значение имели его визит к нему и последовавшие за этим действия казначея, необходимо бросить взгляд на политическую ситуацию, предшествовавшую описываемым событиям. Хотя Джордж Стинер и был до известной степени приспешником и ставленником Молленхауэра, но тот знал его лишь поверхностно. Правда, он несколько раз видел Стинера и кое-что слышал о нем, но на внесение его имени в кандидатский список согласился лишь в результате уговоров своих приближенных, уверявших, что Стинер – отличный малый – никогда не выйдет из повиновения, никому не причинит никаких хлопот и все прочее. Молленхауэр и прежде, при других местных властях, поддерживал связь с городским казначейством, но всегда настолько осторожно, что никто не мог его в этом уличить. Он был слишком видной фигурой и в политическом, и в финансовом мире. Тем не менее его нисколько не покоробил план, придуманный если не Батлером, то Симпсоном: при помощи подставных лиц из политического и коммерческого мира потихоньку, без скандала, выкачать все, что можно, из городской казны. Итак, уже за несколько лет до описываемых нами событий для этой цели была создана особая агентура: председатель городского совета Эдвард Стробик, тогдашний мэр города Эйса Конклин, олдермены Томас Уайкрофт, Джейкоб Хармон и многие другие. Они организовали ряд фирм под самыми разнообразными фиктивными названиями, торговавших всем, что могло понадобиться для городского хозяйства, – досками, камнем, железом, сталью, цементом и прочее и прочее, – разумеется, с огромной выгодой для тех, кто скрывался за этими вымышленными названиями. Это избавляло город от заботы искать честных и добросовестных поставщиков.
Поскольку дальнейший рассказ о Каупервуде будет связан по меньшей мере с тремя из этих «фирм», необходимо вкратце описать их деятельность. Возглавлял их Эдвард Стробик, один из наиболее энергичных приспешников Молленхауэра; это был юркий и пронырливый человек лет тридцати пяти, худой, черноволосый, черноглазый, с огромными черными усами. Одевался он щеголевато и вычурно – полосатые брюки, белый жилет, черная визитка и шелковый цилиндр. Ботинки необыкновенно вычурного фасона всегда были начищены до блеска. Своей безукоризненной внешностью он заслужил прозвище «пшюта». Вместе с тем это был довольно способный человек, и многие любили его.
Двое из коллег, мистеры Томас Уайкрофт и Хармон, не отличались столь приятной и блистательной внешностью. Хармон, в обществе на всех наводивший скуку, очень неплохо разбирался в финансовых вопросах. Долговязый и рыжеватый, с карими глазами, он, несмотря на свою меланхолическую наружность, был весьма неглуп и всегда готов пуститься в любую аферу не слишком крупного масштаба и достаточно безопасную с точки зрения Уголовного кодекса. Он не был особенно хитер, но во что бы то ни стало хотел выдвинуться.
Томас Уайкрофт, последний член этого полезного, но полупочтенного триумвирата, высокий сухопарый человек с изможденным, землистым лицом и глубоко сидящими глазами, несмотря на свою жалкую внешность, обладал недюжинным умом. По профессии литейщик, он попал в политические деятели случайно, как и Стинер, потому что сумел оказаться полезным. Ему удалось сколотить небольшое состояние благодаря участию в возглавляемом Стробиком триумвирате, занимавшемся многоразличными и довольно своеобразными делами, о которых будет рассказано ниже.
Фирмы, организованные подручными Молленхауэра еще при старом составе муниципалитета, торговали мясом, строительными материалами, фонарными столбами, щебнем – всем, что могло потребоваться городскому хозяйству. Подряд, сданный городом, не подлежит аннулированию, но, чтобы получить его, необходимо сперва «подмазать» кое-кого из членов городского самоуправления, а для этого нужны деньги. Фирма вовсе не обязана сама заниматься убоем скота или отливкой фонарных столбов. Она должна только организовать это дело, получить торговый патент, добиться от городского самоуправления подряда на поставку (о чем уж, конечно, позаботятся Стробик, Хармон и Уайкрофт), а потом передоверить подряд владельцам бойни или литейного завода, которые будут поставлять требуемое, выделив посреднической фирме соответствующую долю прибыли; доля эта, в свою очередь, будет разделена и частично передана Молленхауэру и Симпсону под видом доброхотного даяния на нужды возглавляемого ими политического клуба или объединения. Все это делалось очень просто и до известных пределов вполне законно. Владелец бойни или литейного завода не смел и мечтать о том, чтобы самому добиться подряда. Стинер или кто-либо другой, ведавший в данный момент городской кассой и за невысокие проценты дававший взаймы деньги, нужные владельцу бойни или литейного завода в обеспечение поставки или для выполнения подряда, получал не только свои один или два процента, которые клал в карман (ведь так поступали и его предшественники), но еще и изрядную долю прибылей. В качестве главного помощника Стинеру рекомендовали смирного и умевшего держать язык за зубами человека «из своих». Казначея нисколько не касалось, что Стробик, Хармон и Уайкрофт, действуя в интересах Молленхауэра, время от времени употребляли часть заимствованных у города средств совсем не на то, для чего они были взяты. Его дело было ссужать их деньгами.
Но посмотрим, что же дальше. Еще до того, как Стинер был намечен кандидатом в городские казначеи, Стробик – кстати сказать, один из его поручителей при соискании этой должности (что уже само по себе было противозаконно, так как, согласно конституции штата Пенсильвания, ни одно официальное должностное лицо не может быть поручителем за другое) – намекнул ему, что люди, содействующие его избранию, отнюдь не станут требовать от него чего-либо незаконного, но он должен быть покладист, не возражать против раздутых городских бюджетов, короче говоря, не кусать кормящую его руку. С не меньшей ясностью ему дали понять, что едва только он вступит в должность, кое-что начнет перепадать и ему. Как уже говорилось, Стинер всю свою жизнь бедствовал. Он видел, что люди, занимавшиеся политиканством, преуспевали материально, тогда как он, будучи агентом по страховым делам в продаже недвижимого имущества, едва сводил концы с концами. На его долю мелкого политического прихвостня выпадало много тяжелой работы. Другие политические деятели обзаводились прекрасными особняками в новых районах города. Устраивали увеселительные поездки в Нью-Йорк, Гаррисберг или Вашингтон. В летний сезон они развлекались в загородных отелях с женами или любовницами, а ему все еще был закрыт доступ в круг баловней судьбы. Вполне естественно, что все эти посулы увлекли его, и он был рад стараться. Наконец-то и он достигнет благосостояния.
Когда у него побывал Молленхауэр и высказался о необходимости взвинтить курс сертификатов городского займа до паритета – хотя этот разговор и не имел прямого касательства к отношениям, которые Молленхауэр поддерживал с казначеем через Стробика и других, – Стинер, услышав повелительный голос хозяина, поспешил расписаться в своем политическом раболепстве и ринулся к Стробику за более подробной информацией.
– Как бы вы поступили на моем месте? – спросил он Стробика, который уже знал о том, что Молленхауэр посетил казначея, но ждал, чтобы тот сам об этом заговорил. – Мистер Молленхауэр высказал пожелание, чтобы заем котировался на бирже и был доведен до паритета, то есть шел бы по сто долларов за сертификат!
Ни Стробик, ни Хармон, ни Уайкрофт не знали, как добиться того, чтобы сертификаты городского займа, расценивавшиеся на открытом рынке в девяносто долларов, на бирже продавались по сто, но секретарь Молленхауэра, некий Эбнер Сэнгстек, надоумил Стробика обратиться к молодому Каупервуду: как-никак с ним ведет дела Батлер, а Молленхауэр, видимо, не настаивает на привлечении к этому делу своего личного маклера, так отчего же не испробовать Каупервуда. Вот как случилось, что Фрэнк получил приглашение зайти к Стинеру. Очутившись у него в кабинете и еще не зная, что за его спиной скрываются Молленхауэр и Симпсон, он с первого взгляда на этого скуластого человека, так странно волочившего ногу, понял, что в финансовых делах казначей сущий младенец. О, если бы стать при нем советником, его единственным консультантом на все четыре года!
– Здравствуйте, мистер Стинер, – мягко и вкрадчиво сказал Каупервуд, когда тот протянул ему руку. – Очень рад с вами познакомиться. Я, разумеется, много слышал о вас.
Стинер стал долго и нудно излагать Каупервуду, в чем состоит затруднение. Приступив издалека, то и дело запинаясь, он объяснял, как страшат его предстоящие трудности.
– Главная задача, насколько я понимаю, заключается в том, чтобы добиться котировки этих сертификатов альпари. Я могу выпускать их любыми партиями и так часто, как вам будет желательно. В настоящее время я хочу выручить сумму, достаточную для погашения краткосрочных обязательств на двести тысяч долларов, а позднее – сколько удастся.
Каупервуд почувствовал себя в роли врача, выслушивающего пациента, который вовсе не болен, но страстно хочет, чтобы его успокоили, и сулит за это большой гонорар. Замысловатые хитрости фондовой биржи были для него ясны как день. Он знал, что если реализация займа безраздельно попадет в его руки, если ему удастся сохранить в тайне, что он действует в интересах города, и если, наконец, Стинер позволит ему орудовать на бирже в роли «быка», то есть скупать сертификаты для амортизационного фонда и в то же время умело продавать их при повышении курса, то он добьется блистательнейших результатов даже при самом крупном выпуске. Но он должен распоряжаться единолично и иметь собственных агентов. В голове его уже маячил план, как принудить неосмотрительных биржевиков играть на понижение: надо только заставить их поверить, что сертификатов этого займа в обращении сколько угодно и при желании они успеют скупить их. Потом они спохватятся и увидят, что достать их нельзя, что все сертификаты в руках у него, Каупервуда! Но он не сразу откроет свой секрет. О нет, ни в коем случае! Он начнет взвинчивать стоимость сертификатов до паритета, а потом пустит их в продажу. Уж тогда и он немало загребет на этом деле! Каупервуд был слишком сметлив, чтобы не догадаться, что за всем этим скрываются те же политические заправилы города и что за спиною Стинера стоят люди куда более умные и значительные. Но что с того? Как осторожно и хитро поступили они, обратившись к нему через Стинера! Возможно, что его, Каупервуда, имя начинает приобретать вес в местных политических кругах. А это немало сулит ему в будущем.
– Так вот, мистер Стинер, – произнес он, выслушав объяснения казначея и осведомившись, какую часть городского займа тот хотел бы реализовать в течение ближайшего года. – Я охотно возьмусь за это дело. Но мне нужен день или два, чтобы хорошенько все обмозговать.
– Разумеется, разумеется, мистер Каупервуд! – с готовностью согласился Стинер. – Спешить некуда. Но известите меня, как только вы придете к тому или иному решению. Кстати, какую вы взимаете комиссию?
– Видите ли, мистер Стинер, на фондовой бирже существует определенная ставка, которой мы, маклеры, обязаны придерживаться. Это четверть процента номинальной стоимости облигаций или обязательств. Правда, я могу оказаться вынужденным провести ряд фиктивных сделок – как, каких именно, я объясню вам позднее, – но с вас я за это ничего не возьму, если дело останется между нами. Я сделаю для вас все, что будет в моих силах, мистер Стинер, можете не сомневаться. Но дайте мне подумать день-другой.
Они пожали друг другу руку и расстались: Каупервуд – довольный тем, что ему предстояла крупная финансовая операция, Стинер – тем, что нашел человека, на которого можно положиться.
Глава XV
План, выработанный Каупервудом после нескольких дней размышления, будет вполне понятен каждому, кто сколько-нибудь смыслит в коммерческих и финансовых комбинациях, но останется туманным для непосвященного. Прежде всего казначей должен был депонировать городские средства в конторе Каупервуда. Далее фактически передать в распоряжение последнего или же занести в его кредит по своим книгам, с правом получения в любое время, определенные партии сертификатов городского займа, для начала – на двести тысяч долларов, так как именно такую сумму желательно было быстро реализовать, после чего Каупервуд обязывался пустить эти сертификаты в обращение и принять меры к тому, чтобы довести их до паритета. Тогда городской казначей немедленно обратится в комитет фондовой биржи с ходатайством о включении их в список котируемых ценностей, Каупервуд же употребит все свое влияние, чтобы ускорить рассмотрение этого ходатайства. После того как воспоследует соответствующее разрешение, Стинер реализует через него, и только через него, все сертификаты городского займа. Далее Стинер позволит ему покупать для амортизационного фонда столько сертификатов, сколько Каупервуд сочтет необходимым скупить, дабы повысить их цену до паритета. Чтобы добиться этого – после того как значительное количество сертификатов займа уже будет пущено в обращение, – может оказаться необходимым вновь скупить их значительными партиями и затем спустя некоторое время опять пустить в продажу. Законом, предписывающим продажу сертификатов только по номиналу, придется в известной мере пренебречь, а это значит, что фиктивные и предварительные сделки не будут приниматься в расчет, пока сертификаты не достигнут паритета.
Каупервуд дал понять Стинеру, что такой план имеет немало преимуществ. Ввиду того, что сертификаты в конечном итоге так или иначе поднимутся до паритета, ничто не мешает Стинеру, как и всякому другому, закупить их по дешевке в самом начале реализации займа и придержать, пока они не начнут повышаться в цене. Каупервуд с удовольствием откроет Стинеру кредит на любую сумму с тем, чтобы тот рассчитывался с ним в конце каждого месяца. При этом никто не потребует от него, чтобы он действительно покупал сертификаты. Каупервуд будет вести его счет на определенную умеренную маржу, скажем, до десяти пунктов, таким образом, Стинер может считать, что деньги уже у него в кармане. И это не говоря уже о том, что сертификаты для амортизационного фонда можно будет закупить очень дешево, ибо Каупервуд, имея в своем распоряжении основной и резервный выпуски займа, будет выбрасывать их на рынок в нужном ему количестве как раз в такие моменты, когда решит покупать, и тем самым окажет давление на биржу. А позднее цены уже наверняка начнут подниматься. Если держать нераздельно в своих руках выпуск займа, что дает возможность произвольно вызывать на бирже повышение и понижение, то можно не сомневаться, что в конечном итоге город реализует весь свой заем альпари, причем благодаря таким искусственным колебаниям, очевидно, удастся еще и неплохо подработать. Каупервуд в смысле выгоды главные свои надежды возлагал именно на это обстоятельство. За все действительно проведенные им сделки по продаже сертификатов займа альпари город вознаградит его обычным куртажем[21] (это необходимо во избежание недоразумений с биржевым комитетом). Что же касается всего прочего, например, фиктивных сделок, к которым не раз придется прибегать, то он надеется сам вознаградить себя за труд, рассчитывая на свое знание биржевой игры. Если Стинеру угодно войти с ним в долю в его биржевых махинациях, он будет очень рад.
Подобная комбинация, туманная для человека непосвященного, совершенно ясна опытному биржевику. Самые разнообразные уловки искони практиковались на бирже, когда дело касалось ценностей, находящихся под нераздельным контролем одного человека или определенной группы людей. Эта комбинация ничем не отличалась от того, что позднее проделывалось с акциями «Ири», «Стандард ойл», «медными», «сахарными», «пшеничными» и всякими другими. Каупервуд одним из первых – в бытность свою еще молодым биржевиком – понял, как устраиваются такие дела. Ко времени его первой встречи со Стинером ему было двадцать восемь лет. Когда он в последний раз «сотрудничал» с ним, ему минуло тридцать четыре.
Постройка домов для семейств старого и молодого Каупервудов и переделка фасада банкирской конторы «Каупервуд и К°» быстро подвигались вперед. Фасад конторы был выдержан в раннем флорентийском стиле: с окнами, суживающимися кверху, с узорчатой кованой дверью между изящными резными колонками и карнизом из бурого известняка. На середине этой невысокой, но изящной и внушительной двери была искусно вычеканена тонкая, нежная рука с вознесенным пылающим факелом. Элсуорт объяснил Каупервуду, что в старину в Венеции такую руку изображали на вывесках меняльных лавок, но теперь первоначальное значение этой эмблемы позабылось.
Внутри помещение было отделано полированным деревом, узор которого воспроизводил древесный лишай. Окна сверкали множеством мелких граненых стекол – овальных, продолговатых, квадратных и круглых, расположенных по определенному, приятному для глаза, рисунку. Газовые рожки были сделаны по образцу римских светильников, а конторский сейф, как это ни странно, служил украшением: он стоял в глубине конторы на мраморном постаменте, и по его лакированной серебристо-серой поверхности было золотом выгравировано: «Каупервуд и К°». Все помещение, выдержанное в благородно-строгом вкусе, в то же время свидетельствовало о процветании, солидности и надежности. Когда здание было готово, Каупервуд осмотрел его и с довольным видом похвалил Элсуорта:
– Мне нравится! Это очень красиво! Работать здесь – одно удовольствие. Если особняки получатся такие – это будет великолепно!
– Подождите еще хвалить, пока они не окончены! Впрочем, думаю, что вы останетесь довольны, мистер Каупервуд. Мне пришлось немало поломать себе голову над вашим домом из-за его небольших размеров. Дом вашего отца дается мне значительно легче. Но ваш…
И он пустился в описание вестибюля и гостиных, большой и малой, которые он располагал и отделывал так, чтобы они выглядели более просторными в внушительными, чем позволяли их скромные размеры.
Когда строительство было закончено, оказалось, что оба дома и в самом деле весьма эффектны, оригинальны и нисколько не похожи на заурядные особняки по соседству. Их разделяла зеленая лужайка футов в двадцать шириною. Архитектор, позаимствовав кое-что от школы Тюдоров, отказался от той вычурности, которая стала позднее отличать многие особняки Филадельфии и других американских городов. Особенно хороши были двери, расположенные в широких, низких, скупо орнаментированных арках, и три застекленных фонаря необычайной формы, один – во втором этаже у Фрэнка, два – внизу, на фасаде отцовского дома. Над фронтонами обоих домов виднелись коньки крыш: два у Фрэнка, четыре у его отца. Каждый фасад имел в первом этаже по окну в глубокой нише, образованной выступами наружной стены. Эти окна были защищены со стороны улицы низеньким парапетом, вернее балюстрадой. На ней можно было поставить горшки с вьющимися растениями и цветами, что и было сделано впоследствии, так что с улицы окна, утопающие в зелени, выглядели особенно приятно. В глубине ниш Каупервуды расставили стулья.
В нижнем этаже обоих домов были устроены зимние сады – один напротив другого, а посреди общего дворика – белый мраморный фонтан восьми футов диаметром, с мраморным купидоном, на которого ниспадали струи воды. Этот дворик, обнесенный высокой, с просветами, оградой из зеленовато-серого кирпича, специально обожженного в тон граниту, из которого был сложен дом, облицованный поверху белым мрамором, был весь засеян зеленой бархатистой травой и производил впечатление мягкого зеленого ковра. Оба дома, как это и было намечено с самого начала, соединялись галереей из зеленых колонок, застеклявшейся на зиму.
Теперь Элсуорт уже начал постепенно отделывать и обставлять комнаты в стиле разных эпох, что сыграло большую роль в развитии художественного вкуса Фрэнка Каупервуда и расширило его представление о великом мире искусств. Весьма поучительны и ценны в этом отношении были для него долгие беседы с Элсуортом о стилях и типах архитектуры и мебели, о различных породах дерева, о применении орнаментов, о добротности тканей, о правильном использовании занавесей и портьер, о фанеровке мебели и всевозможных видах паркета. Элсуорт наряду с архитектурой изучал также декоративное искусство и много размышлял над вопросом о художественном вкусе американского народа: вкус этот, как он полагал, должен будет очень развиться с течением времени. Молодому архитектору до смерти надоело преобладавшее в ту пору романское сочетание загородной виллы с особняком. Настало время для чего-то нового. Он и сам еще не знал, каково будет это новое, но пока что радовался уже и тому, что спроектированные им для Каупервудов дома были оригинальны, просты и приятны для глаза. Благодаря этим качествам они выгодно выделялись на фоне архитектуры всей остальной улицы. В доме Фрэнка, по замыслу Элсуорта, в нижнем этаже помещались столовая, зал, зимний сад и буфетная, а также главный вестибюль, внутренняя лестница и гардеробная под нею; во втором – библиотека, большая и малая гостиные, рабочий кабинет Каупервуда и будуар Лилиан, соединявшийся с туалетной и ванной.
В третьем этаже, искусно спланированном и оборудованном ванными и гардеробными комнатами, находились детская, помещения для прислуги и несколько комнат для гостей.
Элсуорт знакомил Каупервуда с эскизами мебели, портьер, горок, шкафчиков, тумбочек и роялей самых изысканных форм. Они вдвоем обсуждали различные способы обработки дерева – жакоб, маркетри, буль и всевозможные его сорта: розовое, красное, орех, английский дуб, клен, «птичий глаз». Элсуорт объяснял, какого мастерства требует изготовление мебели буль и как нецелесообразна она в Филадельфии: бронзовые или черепаховые инкрустации коробятся от жары и сырости, а потом начинают пузыриться и трескаться. Рассказывал он и о сложности и дороговизне некоторых видов отделки и в конце концов предложил золоченую мебель для большой гостиной, гобеленовые панно для малой, французской, ренессанс для столовой и библиотеки, а для остальных комнат – «птичий глаз» (кое-где голубого цвета, кое-где естественной окраски), а также легкую мебель из резного ореха. Портьеры, обои и ковры, по его словам, должны были гармонировать с обивкой мебели, но не точно совпадать с нею по тонам. Рояль и нотный шкафчик в малой гостиной, а также горки, шкафчики, тумбы в зале он рекомендовал, если Фрэнка не отпугнет дороговизна, все-таки отведать в стиле буль или маркетри.
Элсуорт советовал еще заказать рояль треугольной формы, так как четырехугольный наводит уныние. Каупервуд слушал его как зачарованный. Ему уже рисовался дом, благородный, уютный, изящный. Картины – если он пожелает обзавестись таковыми – должны быть оправлены в массивные резные золоченые рамы; а если он решит устроить целую картинную галерею, то под нее можно приспособить библиотеку, а книги разместить в большой гостиной на втором этаже, расположенной между библиотекой и малой гостиной. Позднее, когда у Фрэнка развилась подлинная любовь к живописи, он осуществил эту мысль.
С этого времени в нем пробудился живой интерес к произведениям искусства и к художественным изделиям – картинам, бронзе, резным безделушкам и статуэткам, которыми он заполнял шкафчики, тумбы, столики и этажерки своего нового дома. В Филадельфии вообще трудно было достать подлинно изящные вещи такого рода, а в магазинах они и вовсе отсутствовали. Правда, многие частные дома изобиловали очаровательными безделушками, привезенными из дальних путешествий, но у Каупервуда пока что было мало связей с «лучшими семьями» города. В те времена славились два американских скульптора: Пауэрс и Хосмер – у Фрэнка имелись их произведения, – но, по словам Элсуорта, это было далеко не последнее слово в искусстве, и он советовал приобрести копию какой-нибудь античной статуи. В конце концов Каупервуду удалось купить голову Давида работы Торвальдсена, которая приводила его в восторг, и несколько пейзажей Хэнта, Сюлли и Харта, в какой-то мере передававших дух современности.
Такой дом, несомненно, налагает отпечаток на своих обитателей. Мы почитаем себя индивидуумами, стоящими вне и даже выше влияния наших жилищ и вещей; но между ними и нами существует едва уловимая связь, в силу которой вещи в такой же степени отражают вас, в какой мы отражаем их. Люди и вещи взаимно сообщают друг другу свое достоинство, свою утонченность и силу: красота или ее противоположность, словно челнок на ткацком станке, снуют от одних к другим. Попробуйте перерезать нить, отделить человека от того, что по праву принадлежит ему, что уже стало для него характерным, и перед вами возникает нелепая фигура то ли счастливца, то ли неудачника – паук без паутины, который уже не станет самим собою до тех пор, покуда ему не будут возвращены его права и привилегии.
Глядя, как растет его новый дом, Каупервуд проникался сознанием своей значимости, а отношения, неожиданно завязавшиеся у него с городским казначеем, были как широко распахнутые двери в елисейские поля удачи. Он разъезжал по городу на паре горячих гнедых, чьи лоснящиеся крупы и до блеска начищенная сбруя свидетельствовали о заботливом попечении конюха и кучера. Элсуорт уже строил просторную конюшню в переулке, позади новых домов, для общего пользования обеих семей. Фрэнк обещал жене, как только они обоснуются в своем новом жилище, купить ей «викторию» – так назывался в те времена открытый и низкий четырехколесный экипаж, – ведь им придется много выезжать. Они будут давать вечера, говорил он, так как ему необходимо расширять круг своих знакомств. Вместе с сестрой Анной и братьями Джозефом и Эдвардом они будут пользоваться для приемов обоими домами. Почему бы Анне не сделать блестящую партию? Надо надеяться, что Джо и Эд тоже сумеют выгодно жениться, так как уже теперь ясно, что в коммерции они многого не достигнут. Во всяком случае, они могут попытаться.
– Разве тебе самой все это не по душе? – спросил Фрэнк после разговора о приемах.
Лилиан вяло улыбнулась.
– Я привыкну, – отвечала она.
Глава XVI
Вскоре после соглашения между казначеем Стинером и Каупервудом сложная политико-финансовая машина заработала с целью осуществления их замыслов. Двести тысяч долларов в шестипроцентных сертификатах, подлежащих погашению за десять лет, были записаны по книгам городского самоуправления на счет банкирской конторы «Каупервуд и К°». Каупервуд начал предлагать заем небольшими партиями по цене, превышающей девяносто долларов, при этом он всеми способами внушал людям, что такое помещение капитала сулит большие выгоды. Курс сертификатов постепенно повышался, и Фрэнк сбывал их все в большем количестве, пока наконец они не поднялись до ста долларов и весь выпуск на сумму в двести тысяч долларов – две тысячи сертификатов – не разошелся мелкими партиями. Стинер был доволен. Двести сертификатов, числившиеся за ним и проданные по сто долларов за штуку, принесли ему две тысячи долларов барыша. Это был барыш незаконный, нажитый нечестным путем, но совесть не слишком мучила Стинера. Да вряд ли она и была у него. Стинеру грезилась счастливая будущность.
Трудно с полной ясностью объяснить, какая невидимая, но могучая сила сосредоточилась таким образом в руках Каупервуда. Надо не забывать, что ему шел только двадцать девятый год. Вообразите себе человека, от природы одаренного талантом финансиста и манипулирующего огромными суммами под видом акций, сертификатов, облигаций и наличных денег так же свободно, как другой манипулирует шашками или шахматами на доске. А еще лучше представьте себе мастера, овладевшего всеми тайнами шахматной игры, – прославленного шахматиста из тех, что, сидя спиной к доске, играют одновременно с четырнадцатью партнерами, поочередно объявляют ходы, помнят положение всех фигур на всех досках и неизменно выигрывают. Конечно, сравнение вполне допустимо. Чутье подсказывало ему, как поступать с деньгами – он умел депонировать их в одном месте наличными и в то же время использовать их для кредита и как базу для оборотных чеков во многих других местах. В результате обдуманного, последовательного проведения подобных операций он уже располагал покупательной способностью, раз в десять, а то и в двенадцать превышавшей первоначальную сумму, поступившую в его распоряжение. Каупервуд инстинктивно усвоил принципы игры на повышение и на понижение. Он не только в точности знал, какими способами изо дня в день, из года в год он будет подчинять своей воле снижение и повышение курса городских сертификатов – разумеется, если ему удастся сохранить свое влияние на казначея, – но также, как с помощью этого займа заручиться в банках таким кредитом, какой ему раньше и не снился. Одним из первых воспользовался создавшейся ситуацией банк его отца и расширил кредит Фрэнку. Местные политические заправилы и дельцы – Молленхауэр, Батлер, Симпсон и прочие, – убедившись в его успехах, начали спекулировать городским займом. Каупервуд стал известен Молленхауэру и Симпсону если не лично, то как человек, сумевший весьма успешно провести дело с выпуском городского займа. Говорили, что Стинер поступил очень умно, обратившись к Каупервуду. Правила фондовой биржи требовали, чтобы все сделки подытоживались к концу дня и балансировались к концу следующего; но договоренность с новым казначеем избавляла Каупервуда от соблюдения этого правила, и в его распоряжении всегда было время до первого числа следующего месяца, то есть иногда целых тридцать дней, для того чтобы отчитаться во всех сделках, связанных с выпуском займа.
Более того, это, в сущности, нельзя было даже назвать отчетом, ибо все бумаги оставались у него на руках. Поскольку размер займа был очень значителен, то значительны были и суммы, находившиеся в распоряжении Каупервуда, а так называемые трансферты[22] и балансовые сводки к концу месяца оставались простой формальностью. Фрэнк имел полную возможность пользоваться сертификатами городского займа для спекулятивных целей, депонировать их как собственные в любом банке в обеспечение ссуд и таким образом получать под них наличными до семидесяти процентов их номинальной стоимости, что он и проделывал без зазрения совести. Добытые таким путем деньги, в которых он отчитывался лишь в конце месяца, Каупервуд мог употреблять на другие биржевые операции, кроме того, они давали ему возможность занимать все новые суммы. Ресурсы его расширились теперь безгранично – пределом им служили только время да его собственные энергия и находчивость. Политические заправилы города не имели даже представления, каким золотым дном стало для Каупервуда это предприятие, ибо не подозревали всей изощренности его ума. Когда Стинер, предварительно переговорив с мэром города Стробиком и другими, сказал Каупервуду, что в течение года переведет на его имя по книгам городского самоуправления все два миллиона займа, Каупервуд не отвечал ни слова – восторг сомкнул его уста. Два миллиона! И он будет распоряжаться ими по своему усмотрению! Его пригласили финансовым консультантом, он дал совет, и этот совет был принят! Прекрасно! Каупервуд не принадлежал к людям, склонным терзаться угрызениями совести. Он по-прежнему считал себя честным финансистом. Ведь он был не более жесток и беспощаден, чем был бы всякий другой на его месте.
Необходимо оговорить, что маневры Стинера с городскими средствами не имели никакого отношения к позиции, которую местные воротилы занимали в вопросе о контроле над конными железными дорогами; этот вопрос представлял собою новую и волнующую ступень в финансовой жизни города. В нем были заинтересованы многие из ведущих финансистов и политиков, например, Молленхауэр, Батлер и Симпсон, действовавшие здесь поодиночке, каждый на свой страх и риск. На сей раз между ними не существовало сговора. Правда, поглубже вникнув в этот вопрос, они, наверное, решили бы не допускать вмешательства постороннего лица. Но тогда в Филадельфии конно-железнодорожных линий было еще так мало, что никому не приходило на ум создать крупное объединение конных железных дорог, как это было сделано позже. Тем не менее, прознав о соглашении между Стинером и Каупервудом, Стробик явился к Стинеру и изложил ему свой новый замысел. Все они немало наживутся благодаря Каупервуду, и прежде всего сам Стробик и Стинер. Что же в таком случае мешает ему и Стинеру вместе с Каупервудом в качестве их представителя – вернее, тайного представителя Стинера, ибо Стробик не имел смелости открыто участвовать в этом деле, – скупить побольше акций одной из линий конной железной дороги и обеспечить себе контроль над нею? А потом если он, Стробик, сумеет добиться от муниципалитета разрешения на прокладку новых линий, то эти новые линии, как ни верти, окажутся в их руках. Правда, Стробик надеялся впоследствии вытеснить Стинера. Ну, да там видно будет. А пока что нужно ведь кому-нибудь провести подготовительную работу, и почему, собственно, этого не может сделать Стинер? В то же время Стробик понимал, что такая «работа» требует сугубой осмотрительности, ибо его шефы, конечно, всегда начеку, и, если они обнаружат, что он впутался в подобное дело ради личной выгоды, они лишат его возможности продолжать политическую деятельность, благодаря которой он только и мог наживаться. Не следует забывать, что любая организация, например, компания, владеющая одной из уже действующих городских линий, имела право ходатайствовать перед муниципалитетом о разрешении удлинять пути. Это шло на пользу благоустройству города, и потому ходатайство подлежало удовлетворению. Вдобавок Стробик не может одновременно являться акционером конной железной дороги и мэром города. Иное дело, когда Каупервуд частным порядком действует в интересах Стинера!
Примечательно, что этот план, который Стинер от имени Стробика излагал Каупервуду, в корне видоизменял позицию последнего по отношению к городским властям. Несмотря на то что с Эдвардом Батлером Каупервуд вел дела лишь частным порядком, как его агент, и несмотря также на то, что он ни разу не виделся ни с Молленхауэром, ни с Симпсоном, он все же догадывался, что, оперируя с городским займом, фактически работает на них. С другой стороны, когда Стинер явился к нему и предложил исподволь скупать акции конных железных дорог, Фрэнк по его поведению сразу понял, что тут дело нечисто и что Стинер и сам считает свою затею противозаконной.
– Скажите-ка, Каупервуд, – начал городской казначей в то утро, когда он впервые заговорил об этом деле (они сидели в кабинете Стинера в старом здании ратуши, на углу улиц Шестой и Честнат, и казначей, предвидя огромные барыши, пребывал в благодушнейшем настроении), – нет ли в обращении бумаг какой-нибудь конной железной дороги, которые можно было бы скупить, чтобы впоследствии, при наличии достаточного капитала, прибрать к рукам эту дорогу?
Каупервуд знал, что такие бумаги имеются. Его быстрый ум давно уже учуял, какие возможности кроются в них. Омнибусы мало-помалу исчезали. Лучшие маршруты конки были уже захвачены. Тем не менее улиц оставалось еще достаточно, а город разрастался не по дням, а по часам. Прирост населения сулил в будущем большие перспективы. Можно было рискнуть и заплатить любую сумму за уже существующие короткие линии, если имелась возможность выждать и впоследствии удлинить их, проложив пути в более оживленных и богатых районах. В голове Каупервуда уже зародилась теория «бесконечной цепи», или «приемлемой формулы», как это было названо впоследствии, заключавшейся в следующем: скупив то или иное имущество с большой рассрочкой платежа, выпустить акции или облигации на сумму, достаточную не только для того, чтобы удовлетворить продавца, но и для того, чтобы вознаградить себя за труды, не говоря уже о приобретении таким путем избытка средств, которые можно будет вложить в другие подобные же предприятия, затем, базируясь на них, выпустить новые акции, и так далее до бесконечности! Позднее это стало обычным деловым приемом, но в ту пору было новинкой, и Каупервуд хранил свою идею в тайне. Тем не менее он обрадовался, когда Стинер заговорил с ним, ибо финансирование конных железных дорог было его мечтой и он не сомневался, что, однажды прибрав их к рукам, в дальнейшем блестяще поведет это дело.
– Да, разумеется, Джордж, – сдержанно отвечал он, – есть две-три линии, на которых, имея деньги, можно со временем неплохо заработать. Я уже заметил, что на бирже кто-нибудь нет-нет да и предложит пакеты их акций. Нам следовало бы скупить эти акции, а там посмотрим: может быть, и еще кто-нибудь из держателей вздумает продать свой пакет. Наиболее интересным предложением мне сейчас кажутся линии Грин-стрит и Коутс-стрит. Будь у меня тысяч триста-четыреста, которые я мог бы постепенно вкладывать в это дело, я бы ими занялся. Для контроля над железной дорогой требуется каких-нибудь тридцать процентов акционерного капитала. Большинство акций распылено среди мелких держателей, которые никогда не бывают на общих собраниях и не принимают участия в голосовании. Тысяч двухсот или трехсот, по-моему, хватило бы на то, чтобы полностью забрать в свои руки контроль над дорогой.
Он назвал еще одну линию, которую со временем можно было бы захватить тем же способом.
Стинер задумался.
– Это очень большие деньги, – нерешительно произнес он. – Ну хорошо, мы еще поговорим в другой раз, – но тут же отправился советоваться со Стробиком.
Каупервуд знал, что у Стинера нет двухсот или трехсот тысяч, которые он мог бы вложить в дело. Раздобыть такие деньги он мог только одним путем, а именно: изъять их из городской казны, поступившись процентами. Но едва ли он в одиночку отважится на такое дело. Кто-нибудь стоит за его спиной – и кто же, как не Молленхауэр, Симпсон или, возможно, даже Батлер; насчет последнего у Каупервуда не было полной уверенности, если, конечно, и здесь втихомолку не орудует «триумвират». Да и что удивительного? Политические заправилы всегда черпали из городской казны, и Каупервуд сейчас думал лишь о том, как он должен вести себя в этом деле. Что, собственно, может угрожать ему, если авантюра Стинера увенчается успехом? А какие основания предполагать, что она провалится? Но даже и в этом случае ведь он, Каупервуд, действует только как агент! Вдобавок он понимал, что, манипулируя этими деньгами в интересах Стинера, он, при благоприятном стечении обстоятельств, сможет и сам для себя добиться контроля над несколькими линиями.
Больше всего он интересовался линией, недавно проложенной вблизи от его нового дома, – так называемой линией Семнадцатой и Девятнадцатой улиц. Каупервуду иногда случалось пользоваться ею, когда он поздно задерживался где-нибудь или не хотел ждать экипажа. Она проходила по двум оживленным улицам, застроенным красными кирпичными домами, и со временем, когда город разрастется, несомненно, должна была стать очень доходной. Но сейчас она еще слишком коротка. Вот если бы заполучить эту линию и связать ее с линиями Батлера, Молленхауэра или Симпсона – как только он закрепит их за ними, – тогда можно будет добиться от законодательного собрания разрешения на дальнейшее строительство. Фрэнку уже мерещился концерн, в который входят Батлер, Молленхауэр, Симпсон и он сам. В таком составе они смогут добиться чего угодно. Но Батлер не филантроп. Для того чтобы разговаривать с ним, надо иметь солидный козырь на руках. Он должен воочию убедиться в заманчивости подобной комбинации. Кроме того, Каупервуд был агентом Батлера по скупке акций конных железных дорог, и если именно эта линия сулила такие барыши, Батлер, естественно, мог заинтересоваться, почему акции ее не были предложены прежде всего ему. Лучше подождать, решил Фрэнк, пока дорога фактически не станет его, Каупервуда, собственностью. Тогда дело другое; тогда он будет разговаривать с Батлером как капиталист с капиталистом. В мечтах ему уже рисовалась целая сеть городских железных дорог, которую контролируют немногие дельцы, а еще лучше он один, Каупервуд.
Глава XVII
С течением времени Фрэнк Каупервуд и Эйлин Батлер ближе узнали друг друга. Вечно занятый своими делами, круг которых все расширялся, он не мог уделять ей столько внимания, сколько ему хотелось, но в истекшем году часто ее видел. Эйлин минуло уже девятнадцать лет, она повзрослела, и взгляды ее сделались более самостоятельными. Так, например, она стала различать хороший и дурной вкус в устройстве и убранстве дома.
– Папа, неужели мы всегда будем жить в этом хлеву? – однажды вечером обратилась она к отцу, когда за обеденным столом собралась вся семья.
– А чем плох этот дом, любопытно узнать? – отозвался Батлер, который сидел, вплотную придвинувшись к столу и заткнув салфетку за ворот, что он всегда делал, когда за обедом не было посторонних. – Не вижу в нем ничего дурного. Нам с матерью здесь совсем неплохо живется.
– Ах, папа, это отвратительный дом, ты сам знаешь! – вмешалась Нора; ей исполнилось семнадцать лет, и она была такой же бойкой, как ее сестра, но только еще меньше знала жизнь. – Все говорят это в один голос. Ты только посмотри, сколько чудесных домов вокруг.
– Все говорят! Все говорят! А кто эти «все», хотел бы я знать? – иронически, хотя и не без раздражения осведомился Батлер. – Мне, например, он нравится. Насильно здесь никого жить не заставляют. Кто они такие, эти «все», скажите на милость? И чем это так плох мой дом?
Вопрос о доме поднимался не впервые, и обсуждение его всякий раз либо сводилось к тому же самому, если только Батлер не отмалчивался, ограничиваясь своей иронической ирландской усмешкой. В этот вечер, однако, такой маневр ему не удался.
– Ты и сам прекрасно знаешь, папа, что дом никуда не годится, – решительно заявила Эйлин. – Так чего же ты сердишься? Дом старый, некрасивый, грязный! Мебель вся разваливается. А этот рояль – просто старая рухлядь, которую давно пора выбросить. Я больше на нем играть не стану. У Каупервудов, например…
– Дом старый? Вот как! – воскликнул Батлер, и его ирландский акцент стал еще резче под влиянием гнева, который он сам разжигал в себе. – Грязный, вот как! И какая это мебель у нас разваливается? Покажи, сделай милость, где она разваливается?
Он уже собирался придраться к ее попытке сравнять их с Каупервудами, но не успел, так как вмешалась миссис Батлер. Это была полная, широколицая ирландка, почти всегда улыбающаяся, с серыми глазами, теперь уже изрядно выцветшими, и рыжеватыми волосами, потускневшими от седины. На левой ее щеке, возле нижней губы, красовалась большая бородавка.
– Дети, дети, – воскликнула она (мистер Батлер, несмотря на все свои успехи в коммерции и политике, был для нее все тот же ребенок, – чтой-то вы ссоритесь! Хватит уж. Передайте отцу помидоры.
За обедом прислуживала горничная-ирландка, но блюда тем не менее передавались от одного к другому. Над столом низко висела аляповато разукрашенная люстра с шестнадцатью газовыми рожками в виде белых фарфоровых свечей – еще одно оскорбление для эстетического чувства Эйлин.
– Мама, сколько раз я просила тебя не говорить «чтой-то»! – умоляющим голосом произнесла Нора, которую очень огорчали ошибки в речи матери. – Помнишь, ты обещала последить за собой?
– А кто тебе позволил учить мать, как ей разговаривать! – вскипел Батлер от этой неожиданной дерзости. – Изволь зарубить себе на носу, что твоя мать говорила так, когда тебя еще и на свете не было. И ежели б она не работала всю жизнь как каторжная, у тебя не было бы изящных манер, которыми ты сейчас перед ней выхваляешься! Заруби это себе на носу, слышишь? Она в тысячу раз лучше всех твоих приятельниц, нахалка ты эдакая!
– Мама, слышишь, как он меня называет? – захныкала Нора, прячась за плечо матери и притворяясь испуганной и оскорбленной.
– Эдди! Эдди! – укоризненно обратилась миссис Батлер к мужу. – Нора, детка моя, ты ведь знаешь, что он этого не думает. Правда?
Она ласково погладила по голове свою «малышку». Выпад против ее малограмотного словечка нисколько ее не обидел.
Батлер уже и сам сожалел, что назвал свою младшую дочь нахалкой. Но эти дети – господи боже мой! – право же, они могут вывести из терпения. Ну чем, скажите на милость, нехорош для них этот дом?
– Не стоит, право же, поднимать такой шум за столом, – заметил Кэлем, довольно красивый юноша с черными, тщательно приглаженными, расчесанными на косой пробор волосами и короткими жесткими усиками. Нос у него был чуть вздернутый, уши немного оттопыривались, но в общем он был привлекателен в очень неглуп.
И он, и Оуэн – оба видели, что дом вправду плох и скверно обставлен, но отцу и матери все здесь нравилось, а потому благоразумие и забота о мире в семье предписывали им хранить молчание.
– А меня возмущает, что нам приходится жить в такой старой лачуге, когда люди куда беднее нас живут в прекрасных домах. Даже какие-то Каупервуды…
– Ну заладила – Каупервуды да Каупервуды! Чего ты привязалась к этим Каупервудам? – крикнул Батлер, повернув к сидевшей подле него Эйлин свое широкое побагровевшее лицо.
– Но ведь даже их дом намного лучше нашего, хотя Каупервуд всего только твой агент!
– Каупервуды! Каупервуды! Не желаю я о них слышать! Я не собираюсь идти на выучку к Каупервудам! Пускай у них невесть какой прекрасный дом! Мне-то что за дело? Мой дом – это мой дом! Я желаю жить здесь! Я слишком долго жил в этом доме, чтобы вдруг, за здорово живешь, съезжать отсюда! Если тебе здесь не нравится, ты прекрасно знаешь, что я тебя задерживать не стану! Переезжай куда тебе угодно! А я отсюда не тронусь!
Когда в семье происходили такие перепалки, разгоравшиеся по самому пустячному поводу, Батлер имел обыкновение угрожающе размахивать руками под самым носом у жены и детей.
– Ну уж будь уверен, я скоро уберусь отсюда! – отвечала Эйлин. – Слава тебе господи, мне не придется здесь век вековать!
В ее воображении промелькнули прекрасная гостиная, библиотека и будуары в домах у Каупервудов, отделка которых, по словам Анны, уже приближалась к концу. А какой у Каупервудов очаровательный треугольный рояль, отделанный золотом и покрытый розовым и голубым лаком! Почему бы им не иметь таких же прекрасных вещей? Они, наверно, раз в десять богаче. Но ее отец, которого она любила всем сердцем, был человек старого закала. Правильно говорят о нем люди – неотесанный ирландец-подрядчик. Никакого проку от его богатства! Вот это-то и бесило Эйлин: почему бы ему не быть богатым и в то же время современным и утонченным? Тогда они могли бы… Ах, да что пользы расстраиваться! Пока она зависит от отца и матери, ее жизнь будет идти по-старому. Остается только ждать. Выходом из положения было бы замужество – хорошая партия. Но за кого же ей выйти замуж?
– Ну, я думаю, на сегодня хватит препирательств! – примирительно заметила миссис Батлер, невозмутимая и терпеливая, как сама судьба. Она отлично знала, что́ так расстраивает Эйлин.
– Но почему бы нам не обзавестись хорошим домом? – настаивала та.
– Или хотя бы переделать этот, – шепнула Нора матери.
– Тсс! Помолчи! Всему свое время, – ответила миссис Батлер Норе. – Вот посмотришь, когда-нибудь мы так и сделаем. А теперь беги да садись за уроки. Хватит болтать!
Нора встала и вышла из комнаты. Эйлин затихла. Ее отец попросту упрямый, несносный человек. Но все-таки он славный! Она надула губки, чтобы заставить его пожалеть о своих словах.
– Ну, полно, – сказал Батлер, когда все вышли из-за стола; он понимал, что дочь сердита на него и что нужно ее чем-нибудь задобрить. – Сыграй-ка мне на рояле, да только что-нибудь хорошенькое!
Он предпочитал шумные, бравурные пьесы, в которых проявлялись талант и техника дочери, приводившие его в изумление. Вот, значит, что дало ей воспитание: как быстро и искусно играет она эти трудные вещи!
– Можешь купить себе новый рояль, если хочешь. Сходи в магазин и выбери. По мне, и этот хорош, но раз тебе он не нравится, делай как знаешь.
Эйлин слегка сжала его руку. К чему спорить с отцом? Что даст новый рояль, если изменения требует весь дом, вся семейная атмосфера? Все же она стала играть Шумана, Шуберта, Оффенбаха, Шопена, а старик расхаживал по комнате и задумчиво улыбался. Некоторые вещи Эйлин исполняла с подлинной страстностью и проникновением, ибо, несмотря на свою физическую силу, избыток энергии и задор, она умела тонко чувствовать. Но отец ничего этого не замечал. Он смотрел на нее, на свою блестящую, здоровую, обворожительно красивую дочь, и думал о том, как сложится ее жизнь. Какой-нибудь богатый человек женится на ней – благовоспитанный, очень богатый молодой человек с задатками дельца, – а он, отец, оставит ей кучу денег.
По случаю новоселья у Каупервудов устроили большой прием: сначала гости должны были собраться у Фрэнка, а позднее, для танцев, перейти в дом старого Каупервуда, более роскошный и обширный. В нижнем этаже его помещались большая и малая гостиные, комната, где стоял рояль, и зимний сад. Элсуорт так спланировал эти помещения, что их можно было превратить в один зал, достаточно просторный для концертов, танцев или променадов в перерывах между танцами, – одним словом, для любой цели, в какой может возникнуть надобность при большом стечении гостей. Молодой и старый Каупервуды с самого начала строительства предполагали совместно пользоваться обоими домами. Обе семьи обслуживали те же прачки, горничные и садовник. Фрэнк пригласил к своим детям гувернантку. Однако не все было поставлено на широкую ногу: дворецкий, например, совмещал свои обязанности с обязанностями камердинера Генри Каупервуда, он нарезал мясо во время обеда, руководил другими слугами и работал по мере надобности то в одном, то в другом доме. Общая конюшня находилась под присмотром конюха и кучера, а когда требовались два экипажа одновременно, оба они садились на козлы. В общем, это была удобная и экономная система хозяйства.
Приготовления к приему рассматривались Каупервудом как вопрос чрезвычайной важности, ибо из деловых соображений необходимо было пригласить избранное общество. Поэтому после долгих размышлений на прием в доме Фрэнка – с последующим переходом в дом старого Каупервуда – решено было пригласить всех заранее занесенных в список, где значились мистер и миссис Тай, Стинеры, Батлеры, Молленхауэры и представители более избранных кругов, как, например, Артур Рабверс, миссис Сенека Дэвис, Тренор Дрейк с женой, молодые Дрексели и Кларки, с которыми был знаком Фрэнк. Каупервуды не очень надеялись, что эти светские люди соблаговолят пожаловать, но приглашения им все же следовало послать. Позднее вечером предполагался съезд еще более почтенной публики; этот второй список предусматривал знакомых Анны, миссис Каупервуд, Эдварда и Джозефа и всех, кого наметил Фрэнк. Второй список считался главным. Сливки общества, цвет молодежи, все, на кого только можно было воздействовать просьбой, нажимом или уговором, должны были откликнуться на приглашение.
Нельзя было не пригласить Батлеров, родителей и детей, и на дневной, и на вечерний приемы, поскольку Фрэнк явно симпатизировал им, хотя присутствие стариков Батлеров и было очень нежелательно. Даже Эйлин, как правильно думал Фрэнк, казалась Анне и Лилиан не совсем подходящей для собиравшегося у них общества: обсуждая список, они много говорили о ней.
– Она какая-то шалая, – заметила Анна невестке, дойдя до имени Эйлин. – Бог знает что о себе воображает, а между тем не умеет даже как следует держаться. А ее отец! Да-а!.. С таким папашей я бы была тише воды ниже травы!
Миссис Каупервуд, сидевшая за письменным столиком в своем новом будуаре, слегка приподняла брови и сказала:
– Поверь, Анна, я иногда очень сожалею, что дела Фрэнка вынуждают меня общаться с такими людьми. Миссис Батлер… боже, какая это скука! Сердце у нее доброе, но до чего же она невежественна! А Эйлин просто неотесанная девчонка. И развязна до невозможности. Она приходит к нам и тотчас садится за рояль, особенно когда дома Фрэнк. Мне, в конце концов, безразлично, как она себя ведет, но Фрэнка это, по-моему, раздражает. И пьесы она выбирает какие-то бравурные. Никогда не исполнит ничего изящного и серьезного.
– Мне очень не по душе ее манера одеваться, – в тон ей отозвалась Анна. – И охота же нацеплять на себя такие экстравагантные вещи! На днях я встретила ее, когда она каталась и сама правила. Ах, я жалею, что ты не видела этой картины! Вообрази только: пунцовый жакет «зуав» с широкой черной каймой и шляпа с огромным пунцовым пером и пунцовыми лентами почти до талии. Подходящий наряд для катания! И какой самоуверенный вид. А руки! Посмотрела бы ты, как она держала руки, – вот так, слегка согнув в кистях!.. – Анна показала, как Эйлин это делала. – Длинные желтые перчатки, в одной руке вожжи, а в другой кнут. Между прочим, когда она сама правит лошадью, то мчится сломя голову, а слуга Уильям только подскакивает на запятках! Нет, я жалею, что ты не видела ее! Бог ты мой, как много она о себе воображает! – Анна хихикнула презрительно и насмешливо.
– И все же нам придется пригласить ее; я не вижу, как этого избежать. Но я заранее представляю себе ее поведение: будет расхаживать по комнатам, задирая нос и позируя!
– Право, не понимаю, как можно так держать себя, – подхватила Анна. – Вот Нора мне нравится! Она куда симпатичнее. И ничего особенного о себе не воображает.
– Мне тоже нравится Нора, – подтвердила миссис Каупервуд. – Она очень мила, и, на мой взгляд, ее спокойная красота куда более привлекательна.
– О, разумеется! Я вполне согласна с тобой!
Интересно, однако, что именно Эйлин приковывала к себе все их внимание и возбуждала любопытство своими экстравагантностями. В какой-то мере они судили о ней справедливо, что, впрочем, не мешало Эйлин быть действительно красивой, а умом и силой характера значительно превосходить окружающих. Эйлин, безмерно честолюбивая, обращала на себя внимание – а многих и раздражала – тем, что бравировала недостатками, которые внутренне старалась побороть в себе. Девушку эту возмущало, что люди считают ее родителей – и не без основания – недостойными избранного общества и что это распространяется и на нее. Нет, она ни в чем никому не уступает! Вот, например, Каупервуд, такой способный, быстро выдвигающийся в обществе человек, понимает это. С течением времени Эйлин сблизилась с ним. Он всегда мило обходился с нею и охотно разговаривал. Когда бы он ни появлялся у них или ни встречал ее у себя в доме, он находил случай обменяться с ней несколькими словами. Обычно он близко подходил к ней и смотрел на нее весело и дружелюбно.
– Ну, как поживаете, Эйлин? – спрашивал он, и она ловила устремленный на нее ласковый взгляд. – Как отец, как мама? Катались верхом? Это хорошо. Я вас сегодня видел. Вы были обворожительны.
– О, что вы, мистер Каупервуд!
– Право, вы были чудо как хороши! Вам очень идет амазонка. А ваши золотистые волосы я узнаю издалека.
– Нет, вы не должны говорить мне этого! Вы сделаете меня тщеславной, а родители и без того корят меня тщеславием.
– Не слушайте их! Я вам говорю, что вы были очаровательны, и это правда. Впрочем, вы всегда очаровательны.
– О!
Счастливый вздох вырвался у нее из груди. Краска залила ей щеки. Мистер Каупервуд знает, что говорит. Он все знает, и он такой сильный человек! Многие восхищаются им, в том числе ее отец, мать и, как она слыхала, даже мистер Молленхауэр и мистер Симпсон. А какой у него красивый дом, какая прекрасная контора! Но главное: его спокойная целеустремленность уравновешивала мятущуюся в ней силу.
Итак, Эйлин с сестрой получили приглашение, а папаше и мамаше Батлер в самой деликатной форме дали понять, что бал по окончании приема устраивается преимущественно для молодежи.
К Каупервудам съехалось множество народу. Гостей то и дело представляли друг другу. Хозяева с должной скромностью объясняли, как удалось Элсуорту разрешить стоявшие перед ним трудные задачи. Общество прогуливалось по крытой галерее и рассматривало оба дома. Многие из приглашенных были давно знакомы между собой. Они мило беседовали в библиотеках и столовых. Кто-то острил, кто-то похлопывал по плечу приятеля, в другой группе рассказывали забавные анекдоты, а когда день сменился вечером, гости разъехались по домам.
Эйлин в костюме из синего шелка с бархатной пелеринкой такого же цвета и замысловатой отделкой из складочек и рюшей имела большой успех. Синяя бархатная шляпа с высокой тульей, украшенная темно-красной искусственной орхидеей, придавала ей несколько необычный и задорный вид. Ее рыжевато-золотистые волосы были уложены под шляпой в огромный шиньон, а один локон ниспадал на плечо. Эйлин от природы вовсе не была такой вызывающе смелой, какой она казалась, но ей нравилось, чтобы люди именно так думали о ней.
– Вы сегодня изумительны, – сказал Каупервуд, когда она проходила мимо.
– Вечером я буду еще лучше! – последовал ответ.
Легкой, горделивой походкой она прошла в столовую и скрылась за дверью. Нора с матерью задержались, разговаривая с миссис Каупервуд.
– Ах, до чего же у вас красиво! – восхищалась миссис Батлер. – Ух и счастливы вы будете здесь, помяните мое слово! Когда мой Эдди купил дом, где мы сейчас живем, я так и выложила ему напрямик: «Знаешь, Эдди, этот дом уж больно хорош для нас, ей-богу!» А как вы думаете, что он мне ответил? «Нора, – говорит, – ни на этом, ни на том свете нет ничего слишком хорошего для тебя!» Сказал – и чмок меня в губы! Вы только подумайте, такой верзила, а ведет себя, как малый ребенок!
– По-моему, это премило, миссис Батлер, – отозвалась миссис Каупервуд, нервно оглядываясь, как бы их кто-нибудь не услышал.
– Мама очень любит рассказывать такие истории, – вмешалась Нора. – Пойдем, мама, посмотрим столовую!
– Ну, дай вам бог счастья в новом доме. Я вот всю жизнь была счастлива в своем. И вам того же желаю, от всей души!
И миссис Батлер, добродушно улыбаясь, вперевалочку вышла из комнаты.
Между семью и восемью часами вечера Каупервуды наспех пообедали в семейном кругу.
В девять снова начали съезжаться гости, но теперь это была яркая и пестрая толпа: девушки в сиреневых, кремовых, розовых и серебристо-серых платьях торопливо сбрасывали кружевные шали и просторные доломаны на руки кавалеров, одетых в строгие черные костюмы. На холодной улице то и дело хлопали дверцы подъезжавших экипажей. Миссис Каупервуд с мужем и Анна встречали гостей у двери зала, а старые Каупервуды с сыновьями Джозефом и Эдвардом приветствовали их на другом его конце. Лилиан выглядела очаровательной в платье цвета увядающей розы со шлейфом и глубоким четырехугольным вырезом на шее, из-под которого выглядывала прелестная кружевная блузка. Ее лицо и фигура все еще были красивы, но она уже утратила ту свежесть и нежность, которые несколько лет назад пленили Фрэнка. Анна Каупервуд не была хороша собой, хотя ее нельзя было назвать и некрасивой – маленькая, смуглая, со вздернутым носиком и живыми черными глазами. Лицо ее выражало независимость, настойчивость, ум и – увы – несколько заносчивое отношение к людям. Одета она была с большим вкусом. Черное платье, усыпанное сверкающими блестками, очень шло ей, несмотря на ее смуглую кожу, так же как и красная роза в волосах. У Анны были нежные, приятно округлые руки и плечи. Лукавые глаза, бойкие манеры, остроумие и находчивость в разговоре придавали ей известную обаятельность, хотя, как она сама говаривала, все это было ни к чему: «Мужчинам нравятся куклы!»
Вместе со всей этой толпой молодежи явились и сестры Батлер – Эйлин и Нора. Эйлин сбросила на руки своему брату Оуэну тонкую шаль из черных кружев и черный шелковый доломан. Нору сопровождал Кэлем – стройный, подтянутый, улыбающийся молодой ирландец, весь вид которого говорил о том, что он способен сделать отличную карьеру. На Норе было еще сравнительно короткое, едва закрывавшее щиколотки воздушное платье из белого шелка с бледно-сиреневым узором и крохотными, сиреневыми же, бантиками на кружевных воланах кринолина. Широкая лиловая лента стягивала ее талию, волосы были схвачены таким же бантом. Возбужденная, с сияющими глазами, Нора выглядела прелестно.