Король в Желтом бесплатное чтение
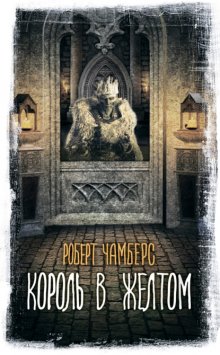
© Перевод. Г. Эрли, 2022
© Перевод, стихи. Н. Сидемон-Эристави, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2023
Моему брату
- Шторм бьет о скалы вал за валом,
- И в озеро два солнца пали,
- Часы теней уже настали
- В далекой, далекой Каркозе.
- Черны и странны в небе звезды
- И странны луны ночью поздней,
- Но их странней лик мрачный, грозный
- Потерянной древней Каркозы.
- О песнь Хиадеса, что зреет,
- Где Короля отрепья реют,
- Умрешь ты, прозвучать не смея,
- Неслышная, в мрачной Каркозе.
- Душа, умолкни, – петь нет мочи.
- И слез не изольют уж очи, –
- Иссохнут, сгинут скорбной ночью
- В утраченной темной Каркозе.
Реставратор репутации
I
Не смейтесь над безумцем. Его сумашествие длится дольше, чем наше… В этом вся разница.
К концу 1920[2] года правительство Соединенных Штатов завершило программу, принятую в последние месяцы правления президента Уинтропа[3]. В стране было спокойно. Созданные профсоюзы разрешали вопросы оплаты труда. Война с Германией, захватившей остров Самоа, прошла без последствий для республики. Вторжение и оккупация Норфолка были забыты благодаря череде морских побед и окружению генерала фон Гартенлауба в штате Нью-Джерси. На сто процентов окупились инвестиции в Кубу и Гавайи. Самоа в качестве угольного придатка вполне оправдывала расходы. Оборону страны подняли на нужную высоту. Города на побережьях укрепили. Генеральный штаб организовал армию по прусской системе, ее численность увеличили до 300 000 человек, не считая миллиона резервных. Шесть новейших эскадр, оснащенных крейсерами и боевыми кораблями, патрулировали все морские акватории, и запаса пара хватало, чтобы не упускать из виду внутренние воды.
Властелины с Западного побережья наконец осознали, что одной любви к родине недостаточно, чтобы достойно представлять ее за границей, и что дипломатический колледж необходим так же, как юридические школы. Нация процветала. Чикаго, ненадолго парализованный вторым великим пожаром[4], восстал из руин во всем своем царственном блеске и стал лучше, чем белый город, восстановленный на скорую руку только к 1893 году. Повсюду трущобы сменялись роскошными зданиями, и даже в Нью-Йорке внезапная тяга к красоте выместила большую часть убогих архитектурных затей. Улицы расширили, вымостили, осветили, высадили деревья, разбили площади, снесли часть железных дорог, а вместо них проложили метро.
Новые правительственные здания и казармы в архитектурном представлении были безупречны. Каменные набережные, окаймлявшие остров, превратились в парки. Местное население восприняло это как благодать небес. Принесло свои плоды государственное финансирование театра и оперы. Национальная художественная академия Соединенных Штатов стала ничуть не хуже классических европейских школ.
От последних договоров с Францией и Англией мы только выиграли. Выдворение евреев-иностранцев в качестве превентивной меры, заселение нового независимого негритянского государства Суани, контроль за иммиграцией, новые законы, касающиеся натурализации, и постепенная централизация исполнительной и законодательной власти – все это способствовало национальному спокойствию и процветанию. Правительство решило проблему коренных американцев – индейские рейнджеры в туземных костюмах превратились в послушный инструмент министра лесного хозяйства, и нация вздохнула с облегчением. После созыва на конгресс всех религиозных организаций фанатизм и нетерпимость исчезли с лица земли, а доброта и милосердие сблизили враждующие течения, люди заговорили, что на свете наступило царствие Божье, по крайней мере на том свете, который назывался Новым.
Самосохранение превыше всего, так что Соединенные Штаты со стороны наблюдали, как Германия, Италия, Испания и Бельгия корчились в муках анархии, а Россия, затаившись за Кавказским хребтом, подминала под себя эти страны одну за другой. Лето 1899 года в Нью-Йорке знаменовалось демонтажом железных дорог. В 1900 году снесли статую Доджа. Следующей зимой открылась многолетняя кампания за отмену законов, запрещающих самоубийства. В апреле 1920 года она окончилась тем, что в Вашингтон-сквере открыли первые государственные Палаты смертников.
В тот день я по одному делу побывал у доктора Арчера на Мэдисон-авеню. Четыре года назад я упал с лошади, и с тех пор меня время от времени беспокоили боли в области шеи и затылка. А четыре месяца назад я наконец излечился от них, и в тот день доктор отослал меня со словами, что я совершенно здоров. По правде сказать, его гонорар был чересчур высок, но я заплатил ему сполна. Я не забыл, как четыре года назад доктор Арчер совершил врачебную ошибку. Меня в бессознательном состоянии подняли с тротуара и отнесли к нему домой. Кто-то из милосердия послал пулю в голову моей лошади. Доктор объявил, что мой мозг поврежден, поместил меня в свою частную клинику и принялся лечить как умалишенного. Наконец он признал меня выздоровевшим, и, хотя я всегда оставался в здравом уме и был не менее нормален, чем он, все же я «заплатил за науку», как он шутливо говорил, и после этого вышел из клиники. Тогда я сказал ему с усмешкой, что непременно поквитаюсь с ним за его ошибку, а он в ответ от души рассмеялся и попросил меня звонить ему время от времени. Я так и делал, надеясь когда-нибудь ему отплатить. Он не давал мне шанса сделать это, но я был терпелив, я умел ждать.
Падение с лошади, к счастью, не имело для меня дурных последствий, напротив: весь мой характер изменился к лучшему. Из ленивого молодого хлыща я стал активным, энергичным и во всем умеренным, но прежде всего… Прежде всего – честолюбивым. Только одна вещь доставляла мне беспокойство. Сколько я ни смеялся над собой, она продолжала меня тревожить.
Пока я лежал в клинике, впервые купил и прочел «Короля в желтом». Помню, после первого акта мне пришло в голову, что это напрасная трата времени. Я вскочил и зашвырнул книгу в камин. Том ударился о решетку и застрял на ней, раскрывшись. Если бы тогда мои глаза не упали на открытую страницу и не остановились на первой строке второго акта, я не вернулся бы к этой пьесе. Но я наклонился, чтобы подтолкнуть книгу в огонь, прочел и с криком ужаса или, быть может, острого наслаждения, пронизавшего все мое естество, выхватил ее из пламени и утащил в спальню. Там я читал и перечитывал ее без конца, плакал и смеялся, сотрясаясь от нервной дрожи. И теперь меня тревожит, что я никак не могу забыть Каркосу, где в небесах черные звезды, где тени человеческих мыслей удлиняются после полудня, когда два солнца опускаются в озеро Хали. Мой разум навсегда сохранил память о Бледной Маске. Я молюсь, чтобы Бог проклял драматурга, как драматург проклял мир этим неземным творением, ужасным в своей простоте, непреодолимым в истине – весь этот мир будет лежать во прахе перед Королем в желтом.
Когда французское правительство изъяло переведенные экземпляры, только что прибывшие в Париж, весь Лондон, конечно, хотел это прочесть. Известно, что книга распространялась, как эпидемия, из города в город, с континента на континент. Повсюду ее запрещали, конфисковывали, осуждали в прессе и в церкви, шельмовали даже самые авангардные литературные критики. Не то чтобы эти злые страницы нарушали табу, или обнародовали запретные доктрины, или возмущали чьи-то убеждения. Книга попросту не вписывалась ни в один канон, хотя было единодушно отмечено, что само Искусство было посрамлено в пьесе «Король в желтом», и все понимали, что человеческая природа не может выдержать такого накала и продолжать жить, осмыслив слова, скрывающие в себе чистейший яд. Наивная банальность первого акта только усиливала зловещие последствия дальнейшего чтения.
Но я отвлекся. В тот день 13 апреля 1920 года, когда я шел от доктора Арчера по Мэдисон-авеню, открылись первые правительственные Палаты смертников. С южной стороны Вашингтон-сквер, между Вустер-стрит и Пятой авеню. Квартал, который раньше состоял из множества обветшалых старых зданий, где были разбросаны кафе и ресторанчики для эмигрантов, был выкуплен правительством еще зимой 1898 года. Французские, итальянские кафе и рестораны снесли, весь квартал огородили позолоченной железной оградой и превратили в прекрасный сад с газонами, клумбами и фонтанами. В центре сада стояло небольшое белое здание строгой классической архитектуры, окруженное цветущими купинами. Шесть ионических колонн поддерживали крышу, а единственная входная дверь была отделана бронзой. Перед дверью установили скульптурную группу «Судеб» – работу молодого американского художника Бориса Ивейна, умершего в Париже, когда ему было всего двадцать три года.
Шла церемония открытия, когда я переходил Университетскую площадь и входил в сквер. Я пробрался сквозь молчаливую толпу зрителей, но на Четвертой авеню меня остановил кордон полиции. Драгунский полк выстроился буквой «п» вокруг Палат смертников. На трибуне, обращенной к Вашингтон-сквер, стоял губернатор штата Нью-Йорк. За ним переминались мэр Нью-Йорка и Бруклина; генеральный инспектор полиции; комендант правительственных войск; полковник Ливингстон – начальник гвардии президента Соединенных Штатов; генерал Блаунт – комендант острова Говернорс, командующий гарнизоном Нью-Йорка и Бруклина; адмирал Баффби, руководивший Северным флотом; генерал-лейтенант Лансефорд; персонал благотворительного национального госпиталя; сенаторы Вис и Франклин от Нью-Йорка и комиссар общественных работ. Трибуна была окружена эскадроном гусар национальной гвардии.
Губернатор заканчивал отвечать на короткую речь главного врача. Я услышал, как он сказал:
– Законы, запрещающие самоубийство и предусматривающие наказание за попытку самоуничтожения, отменены. Правительство сочло целесообразным признать право человека на прекращение существования, которое стало невыносимым из-за физических или психических страданий. Мы считаем, что изъятие таких людей из общества пойдет ему на пользу. После принятия закона количество самоубийств в США не возросло. Теперь, когда правительство решило создать Палаты смертников в каждом городе, поселке и деревне, нам предстоит выяснить, примет ли предоставленную помощь та часть человеческих существ, среди которых ежедневно появляются новые жертвы. – Он помолчал, обернувшись к белому зданию за трибуной. Вокруг воцарилась мертвая тишина. – Здесь безболезненная смерть ждет того, кто больше не в силах переносить жизненные страдания. Если вы ищете смерти, вы найдете ее, – затем, обратившись к начальнику гвардии президента, добавил: – Объявляю Палаты смертников открытыми, – и оглядев огромную толпу, еще раз отчетливо повторил: – Граждане Соединенных Штатов Америки, от имени правительства объявляю Палаты смертников открытыми.
Торжественность момента была нарушена резкой командой – гусарский эскадрон двинулся вслед за губернаторским экипажем, драгуны развернули строй и вытянулись вдоль Пятой авеню в ожидании командующего гарнизоном, конная полиция двинулась за ними.
Я оставил толпу смотреть на белые мраморные Палаты смертников с разинутыми ртами, пересек Пятую авеню и пошел по западной стороне к Бликер-стрит. Затем свернул направо и остановился перед темной лавкой с вывеской:
«Хауберк, оружейник»
В дверном проеме я увидел Хауберка. Он сидел в дальнем конце зала и, увидев меня, сердечно воскликнул:
– Входите, мистер Кастанье!
Его дочь Констанс поднялась мне навстречу, когда я переступил порог, протянула мне прелестную ручку. При этом я заметил на ее лице румянец разочарования и понял, что она ожидала другого Кастанье, моего кузена Луи. Я усмехнулся ее смущению и похвалил рукоделие – она вышивала на куске ткани, перенося на него рисунок с цветной тарелки.
Старый Хауберк клепал поножи от каких-то старинных доспехов. Тинг-тонг! Его молоток мелодично звенел в этой чудесной лавке. Затем он бросил молоток и принялся возиться с маленьким гаечным ключом. Мягкое бряцание кольчуги вызывало во мне дрожь удовольствия. Мне нравилось, как звенит сталь, ударяя по стали, нравилось, как молоток стучит о поножи и как бряцают кольчуги. И это была единственная причина, из-за которой я навещал Хауберка. Сам лично он никогда меня не интересовал, как и Констанс, если не считать того, что она была влюблена в Луи.
Иногда эти мысли не давали мне спать по ночам. В глубине души я был уверен, что все будет хорошо и что я должен устроить их будущее так же, как собирался позаботиться о добром докторе Джоне Арчере. Тем не менее я никогда не стал бы утруждать себя посещенями Хауберка, если бы, как я уже сказал, не был так очарован музыкой звенящего молотка. Я часами сидел, слушал и слушал, и, когда солнечный луч падал на инкрустированную сталь, это производило на меня нестерпимое впечатление. Мои глаза останавливались, расширяясь от удовольствия, каждый нерв натягивался как струна, пока движение старого оружейника не перекрывало доступ солнечного света. Затем, все еще глубоко взволнованный, я откидывался назад и вновь прислушивался к шороху полировальной ткани – шшшик! шшшик! – затирающей ржавчину на заклепках.
Констанс склонилась над вышивкой, держа ее на коленях, время от времени она останавливалась, чтобы лучше рассмотреть рисунок на цветной тарелке из Метрополитен-музея.
– Для кого это? – спросил я.
Хауберк объяснил, что его назначили ухаживать не только за драгоценными доспехами из Метрополитен-музея, но и заботиться о нескольких частных собраниях. Эти поножи они с клиентом обнаружили в маленьком парижском магазинчике на набережной Орсе. Хауберк лично вел переговоры о покупке, реставрировал их, и теперь доспехи полностью собраны. Он положил молоток и прочел мне лекцию по истории этих лат и о том, как они переходили от владельца к владельцу, начиная с 1450 года, пока их не приобрел Томас Стейнбридж. После распродажи его великолепной коллекции клиент Хауберка выкупил доспехи, но без поножей. Их искали до тех пор, пока почти случайно они не обнаружились в Париже.
– И вы настойчиво продолжали поиски, не зная наверняка, сохранились ли они? – удивился я.
– Разумеется, – невозмутимо ответил он.
Вот тогда я впервые заинтересовался Хауберком.
– Видимо, вам предложили хорошее вознаграждение? – предположил я.
– Нет, – смеясь, ответил он. – Сами поиски – вот моя награда.
– Разве вам не хочется разбогатеть? – с улыбкой спросил я.
– Единственная цель – стать лучшим из лучших в моем деле, – серьезно сказал он.
Констанс спросила, видел ли я открытие Палат смертников. Она заметила, как утром по Бродвею прошла кавалерия, и хотела посмотреть на церемонию, но отец попросил закончить рукоделие, и по его просьбе она осталась дома.
– Вы давно видели вашего кузена, мистер Кастанье? – спросила она, и ее мягкие ресницы при этом чуть дрогнули.
– Нет, – небрежно ответил я. – Полк Луи находится на маневрах в округе Вестчестер.
Я поднялся, взявшись за шляпу и трость.
– Пойдете наверх, к этому чокнутому? – покачал головой старый Хауберк.
Если бы он знал, как претит мне это слово, он бы никогда не использовал его в моем присутствии. Оно пробуждает во мне такие чувства, которые мне даже не хочется объяснять. Я спокойно ответил ему:
– Пожалуй, загляну к мистеру Уайльду на минутку-другую.
– Бедняжка, – сказала Констанс, покачивая головой, – должно быть, тяжко годами жить в одиночестве несчастному, искалеченному, полубезумному. Это очень любезно с вашей стороны, мистер Кастанье, навещать его так часто.
– Я думаю, что он великий грешник, – заметил Хауберк, вновь взявшись за молоток. Я прислушался к золотому звону пластины. Когда он закончил, я ответил:
– Нет, он не злодей и не сумасшедший. Его разум – удивительное хранилище, откуда можно извлечь такие сокровища, на приобретение которых нам с вами потребовались бы годы.
Хауберк засмеялся:
– Он знает историю, как никто другой. Ни одна, даже самая незначительная деталь от него не ускользнет, а его память настолько совершенна, настолько точна в мелочах, что если бы Нью-Йорк знал о существовании такого человека, то воздавал бы ему почести.
– Чушь, – пробормотал Хауберк и наклонился, чтобы найти заклепку на полу.
– Неужели? – сказал я, пытаясь подавить свою ярость. – Значит, это чепуха, что щитки и левый набедренник от эмалированных доспехов, известных как «Эмблема принца», можно найти среди кучи театральных декораций, сломанных плит и тряпья, сваленного на чердаке Пелл-стрит?
Хауберк выронил молоток на землю, наклонился за ним и нарочито спокойно спросил:
– Откуда вы знаете, что в «Эмблеме принца» недостает щитков и левого набедренника?
– Я не знал, пока мистер Уайльд не сказал мне об этом на днях. Он сказал, что эти предметы – на чердаке дома 998 по Пелл-стрит.
– Чушь! – воскликнул он, но я заметил, как дрожит его рука под кожаным передником.
– Значит, чепуха и то, что мистер Уайльд постоянно называет вас маркизом Эйвонширским, а мисс Констанс…
Я не закончил, потому что Констанс вскочила с места с нескрываемым ужасом. Хауберк посмотрел на меня и медленно разгладил кожаный передник.
– Это невозможно, – заметил он. – Мистер Уайльд может знать многое…
– Например, насчет «Эмблемы принца», – перебил я.
– Да, – медленно продолжал он. – Насчет доспехов тоже, может быть… Но он ошибается насчет маркиза Эйвонширского… Маркиз много лет назад убил человека, оклеветавшего его жену, и бежал в Австралию, где ненадолго пережил свою супругу.
– Мистер Уайльд ошибается, – пробормотала Констанс.
Губы ее побелели, но голос оставался нежным и спокойным.
– Как вам будет угодно. Предположим, что мистер Уайльд ошибается, – согласился я.
II
Я поднялся привычным путем по трем полуразрушенным лестничным пролетам и постучал в маленькую дверь в конце коридора. Мистер Уайльд открыл, и я вошел.
Он закрыл дверь на два замка и придвинул к ней тяжелый сундук. Только после этого подошел и уселся рядом со мной, глядя мне в лицо глубоко посаженными бесцветными глазами. Шесть новых царапин покрывали его нос и щеки, а серебряные проволочки, идущие к искусственным ушам, были смещены. Я подумал, что он никогда прежде не выглядел так чудаковато. Ушей у него не было. Взамен он цеплял себе искусственные уши, но теперь тонкая проволока, на которой они держались, чуть сдвинулась. Эти уши были его единственной слабостью. Выполненные из воска и окрашенные в розовый, по цвету они сильно отличались от его желтушного лица. Лучше бы он предоставил себе роскошь сделать протез для левой руки, на которой не было пальцев от рождения, но этот изъян, казалось, не доставлял ему никаких неудобств, а вот искусственными ушами он был вполне доволен. Маленького роста, едва ли выше десятилетнего ребенка, с великолепно развитыми руками и мощными, как у спортсмена, бедрами. Все же самое замечательное в мистере Уайльде было то, что у человека невероятного ума и образования может быть такая странная форма головы. Она была гладкой и вытянутой, как у тех несчастных, которые проводят всю жизнь в приютах для слабоумных. Многие считали его сумасшедшим, но я точно знал, что он обладает таким же здравым умом, как и я.
Я не отрицаю, что он был эксцентричен; его манеру держать кота и дразнить его до тех пор, пока тот в ярости не бросался ему в лицо, не назовешь иначе как эксцентричной. Я никогда не мог понять, почему он держал это существо и какое удовольствие находил, запираясь в комнате с этим угрюмым, злобным зверем. Помню как-то раз, изучая рукопись при свете сальной свечи, я взглянул на мистера Уайльда – тот взгромоздился на корточки на высоком стуле, и глаза его горели от возбуждения. Кот, лежавший дотоле у плиты, крался к нему. Прежде чем я успел шевельнуться, зверь прижался животом к земле, задрожал и прыгнул на хозяина. Подвывая и отплевываясь, они принялись кататься по полу, царапая и кусая друг друга, пока кот не издал душераздирающий вопль от боли и не скрылся под шкаф. Мистер Уайльд перевернулся на спину с поджатыми и скрюченными конечностями, похожими на лапки умирающего паука. Несомненно, он был эксцентричен.
Мистер Уайльд вскарабкался на свой высокий стул и, бросив на меня изучающий взгляд, открыл амбарную книгу с потрепанными уголками.
– «Генри Б. Мэттью, – прочел он. – Помощник бухгалтера в компании «Уисот, Уисот и Ко», торговля церковными украшениями. Обратился 3 апреля. Репутация пострадала из-за лошадиных бегов. Известен как мошенник. Репутацию вернуть к 1 августа. Гонорар пять долларов».
Он перевернул страницу и провел пальцем по мелко исписанным колонкам.
– «П. Грин Дюсенберри, священник евангелической церкви, Фейрбич, Нью-Джерси. Репутация пострадала в дешевых притонах. Вернуть срочно. Гонорар 100 долларов…»
Он откашлялся и продолжил:
– «…Обратился 6 апреля».
– Судя по всему, в деньгах вы не нуждаетесь, мистер Уайльд? – спросил я.
– Послушайте дальше. – Он снова откашлялся. – «Миссис К. Гамильтон Честер из Честер-парка, Нью-Йорк. Обратилась 7 апреля. Репутация пострадала в Дьеппе, Франция. Вернуть к 1 октября. Гонорар 500 долларов. Примечание. Капитан Гамильтон Честер, капитан корабля «Эвелэнч», возвращается в порт с эскадрилией Южного моря 1 октября».
– Что ж, – сказал я, – выходит, возвращать репутацию прибыльно.
Его водянистые глаза нашли мои.
– Я просто хотел показать, что был прав. Вы говорили, что в этом ремесле нельзя преуспеть, что даже если я добьюсь успеха в некоторых случаях, то мои расходы многократно превысят прибыль. Сегодня у меня на службе пятьсот человек, им платят мало, но работают они с энтузиазмом, который очевидно порождается страхом. Эти люди входят во все слои общества, некоторых можно назвать столпами самых причудливых социальных институтов, другие считаются опорой и гордостью финансового мира, третьи обладают влиянием среди творческой элиты. Я выбираю их на досуге из тех, кто откликается на мои объявления. Это совсем нетрудно, ибо все они трусы. Я могу утроить их число за двадцать дней, если захочу.
– Они могут ополчиться против вас, – заметил я.
Он потер большим пальцем свои изуродованные уши и поправил восковые накладки.
– Думаю, нет, – задумчиво пробормотал он. – Мне редко приходилось применять кнут, всего один раз. Кроме того, им нравится их жалование.
– И как же вы применяете кнут? – поинтересовался я.
Его лицо вдруг стало неприятным, а глаза превратились в пару зеленых искр.
– Я приглашаю их к себе немного поболтать, – объяснил он.
Стук в дверь прервал его, выражение лица его вновь стало дружелюбным.
– Кто там? – спросил он.
– Мистер Стейлетт, – раздалось за дверью.
– Приходите завтра, – ответил мистер Уайльд.
– Но это невозможно, – начал тот.
Лающий голос мистера Уайльда перебил его:
– Приходите завтра, – повторил он.
Мы услышали, как кто-то отошел от двери и свернул за угол к лестнице.
– Кто это?
– Арнольд Стейлетт, владелец и главный редактор великой «Нью-Йорк дейли».
Он забарабанил по амбарной книге обрубками пальцев и добавил:
– Я совсем мало ему плачу, но он вполне доволен нашей сделкой.
– Арнольд Стейтлетт! – повторил я в изумлении.
– Да, – самодовольно откашлявшись, сказал мистер Уайльд.
Кот, который тем временем вошел в комнату, поколебался, посмотрел на хозяина и зашипел. Мужчина спрыгнул со стула, присел на корточки на полу, взял животное на руки и приласкал. Кот перестал шипеть, и вскоре раздалось громкое мурлыканье, которое только усиливалось по мере того, как карлик его гладил.
– Где заметки? – спросил я.
Он указал на стол, и я в сотый раз взял в руки стопку рукописных листков, озаглавленных «Королевская династия Америки».
Один за другим перелистывал я зачитанные страницы, которые никто, кроме меня, не держал в руках. Я все это знал наизусть. «Каркоса, Гиады, Хастур, Альдебаран». «Кастанье, Луи де Кальвадос, родился 19 декабря 1877». – Я вчитывался в записи с напряженным вниманием, останавливаясь, чтобы повторить вслух, особенно упирая на «Хилдред де Кальвадос, единственный сын Хилдреда Кастанье и Эдит Ланд Кастанье, первый из рода», и так далее, и так далее. Когда я окончил, мистер Уайльд кивнул и прокашлялся.
– Кстати, о ваших законных притязаниях, – сказал он, – как поживают Констанс и Луи?
– Она любит его, – просто ответил я.
Кот на коленях вдруг повернулся и вцепился ему в глаза. Он сбросил его и устроился на стуле напротив меня.
– А как доктор Арчер? Впрочем, этот вопрос вы можете решить в любое время, – добавил он.
– Доктор Арчер подождет, а я тем временем повидаюсь с кузеном Луи.
– Время пришло, – сказал он, затем взял со стола еще одну книгу и пробежался по страницам. – Сейчас у нас десять тысяч человек, – пробормотал он. – Через двадцать восемь часов мы можем рассчитывать на сто тысяч человек, а через сорок восемь часов поднимется вся страна. Штат за штатом. А та часть страны, которая этого не сделает, я имею в виду Калифорнию и Северо-Запад, лучше бы никогда и не заселялась. Я даже не стану посылать им желтый знак.
Кровь бросилась мне в голову, но я ответил:
– Новая метла по-новому метет.
– Честолюбие Цезаря и Наполеона меркнет перед гордыней того, кто не успокоится, пока не овладеет умами людей и даже их нерожденными мыслями, – сказал мистер Уайльд.
– Вы говорите о Короле в желтом, – простонал я с содроганием.
– Он король, которому служили императоры.
– Я готов служить ему, – сказал я.
Мистер Уайльд сидел, потирая уши искалеченной рукой.
– Может быть, Констанс его и не любит, – предположил он.
Я открыл рот, чтобы ответить, но внезапные звуки военного оркестра с улицы заглушили мой голос. Двадцатый драгунский полк, ранее расквартированный на горе Сент-Винсент, возвращался с маневров в графстве Вестчестер в свои новые казармы на восточной стороне Вашингтон-сквер. Это был полк моего кузена. Лощеные драгуны в бледно-голубых облегающих мундирах с яркими киверами. Одетые в белые бриджи с двойным желтым лампасом, казалось, они были созданы для верховой езды. Каждый второй эскадрон был вооружен копьями, с металлических наконечников свисали белые и желтые вымпелы. Оркестр прошел, играя полковой марш, затем следовал командир полка со штабом. О мостовую стучали лошадиные копыта, головы животных раскачивались в унисон, развевались вымпелы на концах копий. Всадники ехали в прекрасных английских седлах, возвращаясь из своего бескровного похода по фермам Вестчестера. Музыка сабель, хлопающих по стременам, звон шпор и карабинов восхищали меня. Я видел Луи, который ехал со своим эскадроном. Он был самым красивым офицером из всех, кого я когда-либо видел. Господин Уайльд, который сидел на стуле у окна, тоже видел его, но ничего не сказал. Луи повернулся и взглянул прямо на лавку Хауберка, и его загорелые щеки покрылись румянцем. Я думаю, Констанс стояла у окна. Когда последние всадники проехали мимо и последние вымпелы исчезли с Пятой авеню, мистер Уайльд слез со стула и оттащил сундук от двери.
– Да, вам пришло время повидаться с кузеном Луи.
Он открыл дверь, я поднял шляпу и трость и вышел в коридор. На лестнице было темно. Спускаясь ощупью, я наступил на что-то мягкое. Оно зашипело и заурчало, я прицелился ударить кота, но рука задрожала, и трость разлетелась на куски, ударившись о перила, а зверь метнулся в комнату мистера Уайльда.
Проходя мимо двери Хауберка, я вновь увидел, как он трудится над доспехами, но не остановился. Выйдя на Бликер-стрит, прошел до Вустера, обогнул Палаты смертников и, пересекая Вашингтон-сквер, направился в свои апартаменты в «Бенедик». Здесь я с комфортом отобедал, прочел «Геральд» и «Метеор», а после этого подошел к стальному сейфу в своей спальне и установил таймер. Три минуты сорок пять секунд нужно ждать, пока комбинация цифр не сработает, – для меня это золотые минуты. С того момента, как я поворачивал рычаг, до того момента, как открывал стальную дверцу, я жил в экстатическом ожидании. Так должен чувствовать себя человек в раю. Я знаю, что в безопасности хранится в надежном сейфе. Эта вещь моя, и только моя. Изысканное блаженство предвкушения усиливается, когда он открывается, и я поднимаю с бархатной подушки корону из чистейшего золота, сверкающую бриллиантами. Я делаю это каждый день, и все же радость ожидания от прикосновения к короне только возрастает со временем. Это корона царя царей, императора императоров. Король в желтом, может быть, не стал бы ее носить, но она годится для его слуги.
Я держал корону в руках, пока не зазвенела сигнализация в сейфе, затем с нежной гордостью вернул ее назад и закрыл стальную дверцу. Медленно вернувшись в кабинет, окнами выходивший на Вашингтон-сквер, я приблизился к подоконнику и облокотился на него. Послеполуденное солнце слепило глаза, легкий ветер шевелил ветви вязов и кленов, тронутые зеленью только что раскрывшихся почек. Вокруг колокольни мемориальной церкви[5] кружила стая голубей, время от времени приземляясь на красную черепичную крышу или слетая к фонтану Лотоса перед мраморной аркой. Садовники ухаживали за клумбами вокруг фонтана, и свежевскопанная земля пряно и сладко благоухала. Газонокосилка, запряженная тучной белой лошадью, позвякивала, двигаясь по зеленому газону, вода из поливалок дождем брызгала на асфальт. Вокруг статуи Питера Стайвесанта[6], которая заменила в 1897 году чудовищный памятник Гарибальди, под весенним солнцем играли дети. Няньки катили затейливые детские коляски с безрассудным пренебрежением к малышам, что объяснялось присутствием здесь полудюжины молодцеватых драгун, млеющих на скамейках. Сквозь деревья на солнце сияла серебром вашингтонская мемориальная арка, а за ней с восточного края площади серели каменные драгунские казармы и виднелись артиллерийские конюшни, отделанные белым гранитом.
Я перевел взгляд на Палаты смертников в противоположном углу площади. Несколько любопытствующих все еще топтались у позолоченной железной ограды, но внутри двора тропинки были пустынны. Я полюбовался, как в той стороне сверкают и пульсируют водой фонтаны, их уже облюбовали воробьи – на поверхности бассейнов плавали серые перья. По лужайкам выступали два или три белых павлина, а на руке одной из «Судеб» неподвижно замер серовато-рябой голубь, как будто слившись со скульптурой.
Стоило мне отвернуться, как вдруг любопытствующие оживились, чем вновь привлекли мое внимание. По гравийной дорожке, ведущей к бронзовым дверям Палат смертников, пошатываясь, шел молодой человек. Он приостановился на мгновение у «Судеб», всматриваясь в их таинственные лица, и тут голубь поднялся со своего мраморного насеста, покружился и полетел на восток. Молодой человек прижал руку к лицу, а затем, словно решившись, взбежал по мраморным ступеням. Бронзовые двери закрылись за ним. Через полчаса зеваки разбрелись по домам, а вспугнутый голубь вернулся на свое место в руку «Судьбы».
Я надел шляпу и вышел в парк, чтобы пройтись перед ужином. Когда я пересекал центральную аллею, мимо проходила группа офицеров, один из них выкрикнул: «Привет, Хилдред!» – и двинулся ко мне, чтобы пожать руку. Это был мой двоюродный брат Луи. Он стоял с улыбкой и постукивал хлыстом по своими пришпоренным сапогам.
– Только что из Вестчестера! – сказал он. – Буколическая идиллия. Молоко и творог, румяные пастушки, которые говорят «че?» и «та ну вас!», когда делаешь им комплимент. Я смертельно соскучился по еде из «Дельмонико»[7]. А у тебя какие новости?
– Никаких, – приветливо ответил я. – Я видел сегодня утром, как ваш полк входит в город.
– Неужели? Я тебя не заметил. Где ты стоял?
– В окне мистера Уайльда.
– О черт! – скривился он. – У этого чокнутого. Не понимаю, почему ты…
Заметив, что мне неприятен этот выпад, он тут же извинился.
– В самом деле, старина, – продолжал он. – Я не хочу обсуждать симпатичного тебе человека, но, хоть убей, не понимаю, что у тебя с ним общего? Он не слишком воспитан, мягко говоря, к тому же уродец. Форма головы у него как у всех идиотов. Ты и сам знаешь, что он лежал в сумасшедшем доме…
– Я тоже, – спокойно перебил я.
Луи смутился на мгновение, но скоро пришел в себя и сердечно похлопал меня по плечу.
– Но ведь ты полностью выздоровел, – начал он.
Я снова его прервал:
– Наверное, ты имел в виду, что я никогда не был невменяемым, а был просто принят за душевнобольного.
– Конечно, я это и имел в виду, – замялся он.
Мне не понравился его принужденный смех, но я оживленно кивнул в ответ и спросил, куда он идет. Луи посматривал на своих однополчан, которые уже почти дошли до Бродвея.
– Мы собирались выпить по коктейлю «Брансуик», но, сказать по правде, я искал предлог, чтобы вместо этого сходить к Хауберку. Пойдем, я использую тебя как предлог, чтобы улизнуть.
Старика Хауберка мы нашли у дверей лавки. Он переоделся в чистый костюм и втягивал носом весенний воздух.
– Мы только что решили прогуляться с Констанс перед ужином, – отвечал он на нескончаемый поток вопросов Луи. – Собирались пройтись по парку вдоль Норт-Ривер[8].
В этот момент появилась Констанс. Она побледнела и тут же вспыхнула, когда Луи склонился над ее миниатюрными пальчиками в перчатках. Я попытался извиниться, сославшись, что у меня назначена встреча в пригороде, но Луи и Констанс не слушали моих отговорок, рассчитывая, что я отвлеку на себя старого Хауберка. Поскольку это было то же самое, что не спускать глаз с Луи, я согласился и, когда они окликнули извозчика на Спринг-стрит, вошел в экипаж вслед за ними и сел рядом с оружейником.
Красивейшую линию парков и набережных с видом на гавань Норт-Ривер начали благоустраивать в 1910 году и закончили осенью 1917 года, она стала одной из самых популярных в Нью-Йорке. Тянулась она до 190-й улицы вдоль реки, оттуда открывался прекрасный вид на залив Джерси и дальше на взгорье. Тут и там среди деревьев были разбросаны ресторанчики и кафе, дважды в неделю на эстрадах играли оркестры военного гарнизона.
Мы уселись на залитой солнцем скамейке у подножия конной статуи генерала Шеридана[9]. Констанс раскрыла зонт, чтобы защитить глаза, и они с Луи зашептали о чем-то, слова было невозможно уловить. Старый Хауберк, опираясь на свою трость из слоновой кости, закурил дорогую сигару, он предложил и мне, но я отказался с безмятежной улыбкой. Солнце склонилось над деревьями Статен-айленда, воды залива окрасились золотистыми отсветами, отражая нагретые паруса кораблей в гавани.
Бриги, шхуны, яхты, неуклюжие паромы с толпами людей на палубах. К железнодорожному терминалу подходили поезда с коричневыми, синими, белыми вагонами, слышались пароходные гудки, мимо проплывали каботажные суда, шаланды – и повсюду воду залива взбалтывали наглые маленькие буксиры, деловито свистя и выбрасывая в воздух клубы ядовитого дыма, – великое множество железных механизмов перемешивали океанскую воду с солечным светом повсюду, насколько хватало глаз.
Неподвижные белые корабли военно-морского флота, стоящие на рейде в середине залива, составляли контраст с суетой гражданских судов.
Веселый смех Констанс пробудил меня от задумчивости.
– На что это вы уставились? – спросила она.
– Так, ни на что… Корабли, – улыбнулся я.
Луи принялся рассказывать нам, что это за суда, по порядку указывая на каждый корабль, стоящий на рейде у острова Говернорс.
– Вот этот, похожий на веретено, называется торпедным катером, – объяснил он. – А вот эти четыре судна, что стоят рядом, – это «Тарпон», «Фэлкон», «Си Фокс» и «Октопус». За ними канонерки «Пристон», «Шамплейн», «Стил Вотер» и «Эри». Потом идут крейсеры «Фарагут» и «Лос-Анджелос», а дальше боевые корабли «Калифорния», «Дакота» и «Вашингтон». Последний – флагманский корабль. Вон те два железных корыта, которые стоят на якоре у Замка Уильямса, – это башенные мониторы «Террибл» и «Магнифисент», а за ними – таран «Оцеола».
Констанс слушала Луи с глубочайшим вниманием.
– Для солдата ты слишком много знаешь, – сказала она, и мы все присоединились к последовавшему за этим смеху.
Вскоре Луи, кивнув нам, поднялся и предложил руку Констанс. Они двинулись вдоль набережной. Хауберк проводил их взглядом, а затем повернулся ко мне.
– Мистер Уайльд был прав, – сказал он. – Я нашел недостающие щитки и набедренник от «Эмблемы принца» в гнусном старом притоне на Пелл-стрит.
– Дом 998? – усмехнулся я.
– Да.
– Мистер Уайльд – весьма проницательный человек, – заметил я.
– Я хочу отплатить ему за это невероятное открытие, – продолжал Хауберк. – И желаю обнародовать его участие в этом деле.
– За это он вам спасибо не скажет, – резко ответил я. – Пожалуйста, ничего никому не говорите.
– Вы знаете, сколько стоят эти вещи? – спросил Хауберк.
– Нет. Долларов пятьдесят, наверное.
– Они оцениваются в пятьсот долларов, но владелец «Эмблемы принца» выплатит две тысячи долларов тому, кто укомплектует доспехи. Это вознаграждение принадлежит мистеру Уайльду.
– Ему это не нужно! Он откажется! – сердито воскликнул я. – Что вы вообще знаете о мистере Уайльде? Ему не нужны деньги. Он и так богат или будет богаче всех, ныне живущих, кроме меня. К чему нам заботиться о деньгах, когда… Мы с ним… Когда…
– Когда что? – изумленно переспросил Хауберк.
– Скоро узнаете, – спохватился я.
Некоторое время он молча смотрел на меня, а потом деликатно спросил:
– Почему бы вам не забросить свои талмуды, мистер Кастанье, и не отправиться куда-нибудь в горы? Вы прежде любили рыбачить. Поезжайте в Рэнджели за форелью.
– Я разлюбил рыбалку, – ответил я без тени видимого раздражения в голосе.
– Прежде вам многое нравилось, – продолжал он. – Атлетика, яхты, охота, верховая езда…
– Ни разу не садился на лошадь с тех пор, как с нее упал, – тихо сказал я.
– Ах да, вы же падали, – повторил он, отводя глаза.
Я подумал, что этот бессмысленный разговор зашел слишком далеко, и вновь перевел беседу на мистера Уайльда, но Хауберк разглядывал мое лицо с какой-то беззастенчивой наглостью.
– Мистер Уайльд… Вы знаете, что он сегодня сделал? Спустился вниз и прибил табличку на дверь, рядом с моей. Она гласила: «Мистер Уайльд, реставратор репутации. Звонить трижды». Вы не знаете, что это значит?
– Знаю, – ответил я, с трудом подавляя гнев.
– Вот как, – пробормотал он.
Луи с Констанс прохаживались мимо нас и остановились, чтобы спросить, не присоединимся ли мы к ним. Хауберк взглянул на часы. В тот же миг из казематов Замка Уильяма вырвалось облачко дыма, и гул пушечного выстрела прокатился по воде, отражаясь эхом от холмов с другой стороны залива. Опустили флаг на флагштоке, белые палубы военных кораблей огласились звуками горна, и на набережной Джерси засияли первые электрические лампы.
Когда мы возвращались в город с Хауберком, я услышал, как Констанс что-то сказала Луи, и тот в ответ прошептал: «Дорогая». И потом, проходя с Хауберком по площади, я услышал, как Луи прожурчал: «Милая» и «Моя Констанс». Тогда я понял, что настало время обсудить с кузеном одно важное дело.
III
Ранним майским утром я стоял в спальне перед стальным сейфом, примеряя золотую корону. Каждое мое движение отражалось в зеркале вспышкой бриллиантов, тяжелое золото горело огнем вокруг моей головы. Я вспомнил мучительный крик Камиллы и ужасные слова, разносимые эхом по сумеречным улицам Каркосы. Это были последние строки из первого акта, и я не смел думать, что было дальше – не смел, стоя при свете солнца у себя в комнате, окруженный знакомыми предметами, убаюканный суетой улицы и голосами слуг в коридоре снаружи. Ибо эти отравленные ядом слова медленно капали в мое сердце, так смертный пот стекает на простыни и впитывается ими. Дрожа, я снял корону с головы и вытер лоб. Я подумал о Хастуре, о своих законных притязаниях и вспомнил мистера Уайльда, каким оставил его в последнюю встречу. Лицо, изорванное и окровавленное когтями этого дьявольского создания. Он тогда сказал… О боже, что он сказал…
В сейфе раздался назойливый, жужжащий сигнал. Я знал, что мое время истекло, но, не обращая на это внимания, вновь надел на голову сверкающий венец и демонстративно повернулся к зеркалу. Я долго разглядывал переменчивое выражение собственного лица. В зеркале оно виделось каким-то более бледным и худым, я едва узнавал его. И все время я повторял сквозь стиснутые зубы:
– День настал! День настал!
А тревожная сирена все жужжала и звенела в сейфе. Искрились бриллианты над моим лбом. Я услышал, как раскрылась дверь, но не обернулся. Только когда в зеркале из-за моего плеча появилось чужое лицо, я перевел на него взгляд и резко схватил длинный нож с туалетного столика. Мой кузен отскочил назад, сильно побледнев:
– Хилдред! Ради всего святого!
Когда моя рука опустилась, он продолжил:
– Это я, Луи. Разве ты меня не узнаешь?
Я не мог вымолвить ни слова. Он двинулся ко мне и осторожно вытащил нож из моей руки.
– Что это значит? – успокаивающе спросил он. – Ты не заболел?
– Нет, – ответил я, едва слышно. Я сомневался, что он услышал меня.
– Ну же, старина! – воскликнул он. – Снимай свою латунную корону, и пойдем в кабинет. Ты собираешься на маскарад? Что это за театральная бутафория?
Я был рад, что он принял золото за латунь, и в то же время мне это не понравилось. Я позволил ему снять с себя корону, зная, что с ним лучше не спорить. Он небрежно подбросил ее в воздух и, поймав, повернулся ко мне с усмешкой:
– Стоит не меньше пятидесяти центов. Зачем она тебе?
Я не ответил. Забрал корону, положил ее в сейф и закрыл массивную стальную дверцу. Тотчас же стихла тревожная сирена. Он с любопытством наблюдал за мной, но, кажется, ужасного визга сирены не заметил. О сейфе он заговорил, словно о коробке с печеньем. Опасаясь, что он рассмотрит комбинацию цифр, я поспешно двинулся в кабинет. Луи бросился на диван и щелкнул по мухе своим извечным хлыстом. Он был одет в свой мундир с позументом, с фуражкой на голове. Ботинки его были забрызганы красной глиной.
– Где ты был? – спросил я.
– Прыгал через канавы в Джерси, – сказал он. – У меня не было времени переодеться, я спешил к тебе. Налей-ка мне чего-нибудь. Я смертельно устал – в седле двадцать четыре часа.
Я налил ему бренди из аптечки, он выпил скривившись.
– Дрянь! – заметил он. – Я дам тебе адрес, где продают настоящий бренди.
– Для меня и этот сойдет, – безразлично сказал я. – Я растираю им грудь.
Он высмотрел другую муху и снова щелкнул кнутом.
– Послушай, старина, я хочу тебе кое-что предложить. Вот уже четыре года ты сидишь дома, как сова, не выходишь, не занимаешься спортом, ни черта не делаешь – только корпишь над своими бумажками у камина.
Он оглядел ряд полок.
– Наполеон, Наполеон, Наполеон! – читал он. – Ради бога, у тебя есть почитать про кого-нибудь еще?
– Ну вот тебе книга «Король в желтом». – Я посмотрел прямо ему в глаза. – Ты ее читал?
– Я? Нет, слава богу! Я не хочу стать сумасшедшим.
Я видел, что он пожалел о своих словах в тот момент, когда их произносил. Есть только одно слово, которое я ненавижу сильнее, чем слово «чокнутый». И это слово – сумасшедший. Но я сдержался и спросил, почему он считает «Короля в желтом» таким опасным.
– Не знаю, – поспешно сказал он. – Я помню, сколько вокруг него было шума, все эти выступления в прессе и с церковных кафедр. Кажется, автор застрелился, выпустив в мир это чудовище?
– Насколько я знаю, он жив, – ответил я.
– Ну, может быть, – пробормотал он. – Пуля дьявола не возьмет.
– Это книга великих откровений, – сказал я.
– Откровений, которые доводят людей до исступления и разрушают их жизни. Меня не волнует ее так называемая художественная ценность. Я считаю ее написание преступлением и никогда не перелистну ни одной страницы.
– Ты пришел, чтобы сообщить мне это? – спросил я.
– Нет, – ответил он. – Я пришел сказать, что собираюсь жениться.
Кажется, на мгновение мое сердце перестало биться, но я не отвел глаз от его лица.
– Да! На самой милой девушке на свете! – продолжал он со счастливой улыбкой.
– Констанс Хауберк, – машинально сказал я.
– Откуда ты знаешь? – изумленно воскликнул он. – Я сам не знал об этом до того вечера, когда мы прогуливались по набережной перед ужином.
– И когда свадьба? – спросил я.
– Мы собирались пожениться в сентябре, но час назад пришел приказ – наш полк отправляется в Пресидио, Сан-Франциско. Завтра в полдень мы уезжаем. Завтра, – повторил он. – Представляешь, Хилдред, завтра я буду самым счастливым человеком на свете, потому что Констанс согласилась поехать со мной.
Я протянул ему руку в знак поздравления, он схватил ее и пожал, добродушный глупец, – не знаю, был ли он таким или притворялся.
– В качестве свадебного подарка я получу под командование эскадрон, – кудахтал он. – Капитан и миссис Луи Кастанье, каково, а, Хилдред?
Затем он сказал, где и когда пройдет церемония, и заставил пообещать, что я буду его шафером. Я со стиснутыми зубами слушал его болтовню, ничем не выказывая, что нервы мои на пределе. Когда он вскочил, зазвенев шпорами, и сказал, что ему нужно идти, я не стал его задерживать.
– Я хочу кое о чем тебя попросить, – тихо сказал я.
– Разумеется, я обещаю, – засмеялся он.
– Я хочу, чтобы ты уделил мне минут пятнадцать сегодня ночью.
– Конечно, как скажешь, – согласился он, несколько озадаченный. – Где?
– Где угодно, можно в парке.
– Во сколько, Хилдред?
– В полночь.
– Ради всего святого, что… – начал он, но сдержался и со смехом согласился.
Я смотрел, как он торопливо спускается по лестнице, его сабля стучала при каждом шаге. Он свернул на Бликер-стрит, и я знал, что он встречается с Констанс. Через десять минут после его ухода я вышел вслед за ним, взяв с собой драгоценную корону и шелковую мантию, вышитую желтым знаком.
Свернув на Бликер-стрит, я вошел в дверь с табличкой «Мистер Уайльд. Реставратор репутации. Звонить трижды».
Старый Хауберк ходил по лавке, мне почудился голос Констанс в гостиной, но я миновал их обоих и поспешил по ветхой лестнице в квартиру мистера Уайльда. Постучал и вошел без церемоний. Мистер Уайльд лежал на полу, постанывая, его лицо было в крови, одежда разорвана в клочья. На изношенном и местами прорванном ковре виднелись пятна крови.
– Проклятый кот, – сказал он, прекратив стонать и повернув ко мне бесцветные глаза. – Напал на меня, пока я спал. Однажды он убъет меня.
Это было уже слишком. Поэтому я прошел на кухню, вытащил из кладовки топор и отправился с ним искать исчадие ада. Мои поиски были бесплодны. Через несколько минут я оставил их и вернулся к мистеру Уайльду, который сидел на высоком стуле у стола. Он уже умылся и переоделся. Кошачьи когти вспахали на его лице глубокие борозды, он заполнил их коллодионом[10], а рану на горле перевязал тряпицей. Я пообещал убить кота, когда наткнусь на него, но он только покачал головой и повернулся к раскрытой перед ним книге. Имя за именем он перечислял людей, которые приходили к нему, чтобы выкупить свою репутацию, и суммы, которые они приносили ему, были поразительными.
– Кое-кого пришлось как следует припугнуть, – объяснил он.
– Однажды один из этих людей вас убьет, – предсказал я.
– Вы так думаете? – сказал он, потирая изуродованные уши.
Спорить с ним было бесполезно, поэтому я достал рукопись, озаглавленную «Королевская династия Америки». В последний раз я читаю ее в кабинете мистера Уайльда. С волнением и трепетом я прочел ее до конца. После этого мистер Уайльд взял рукопись и, повернувшись к темному коридору, ведущему из кабинета в спальню, громко крикнул:
– Вэнс!
И тогда я впервые заметил человека, сидящего в тени.
Не могу представить, как я мог упустить его из виду во время поисков кота.
– Вэнс, выходите! – крикнул мистер Уайльд.
Фигура двинулась с места и заскользила к нам. Я никогда не забуду его лица, когда свет из окна упал на него.
– Вэнс, это мистер Кастанье, – сказал мистер Уайльд.
Не успел он закончить, как человек бросился на пол перед столом, крича и хватаясь за него:
– О боже! О боже мой! Прошу вас! Пощадите меня! Мистер Кастанье, держитесь подальше от этого человека. Вы не можете, не можете! Вы другой… Спасите меня! Я сломлен… Я вышел из сумасшедшего дома, и теперь, когда все наладилось, когда я забыл короля… Короля в желтом… Я снова сойду с ума! Я сойду с ума!
Он удушливо захрипел, потому что мистер Уайльд прыгнул на него и принялся душить. Когда Вэнс рухнул грудью на пол, мистер Уайльд отпустил его, проворно забрался на стол, потирая уши обрубком руки, повернулся ко мне и спросил передать амбарную книгу.
Я достал ее с полки. После недолгих поисков на страницах, исписанных красивым почерком, он самодовольно прокашлялся и указал на имя Вэнса.
– «Вэнс, – прочел он вслух. – Осгуд Освальд Вэнс».
При этом человек на полу поднял голову и повернул искаженное лицо к мистеру Уайльду. Белки глаз у него были налиты кровью, губы шевелились.
– «Обратился 28 апреля, – продолжал мистер Уайльд. – Кассир в Сифортском национальном банке, отбыл срок в Синг-Синге[11] за подделку документов, оттуда переведен в приют для душевнобольных преступников. Помилован губернатором Нью-Йорка и освобожден из приюта 19 января 1918 года. Репутация пострадала в Шипсхед-Бей[12]. Ходят слухи, что он живет не по средствам. Репутацию требует вернуть немедленно. Стоимость – 1500 долларов. Примечание: с 20 марта 1919 года присвоил 30 000 долларов и обеспечил себе нынешнее положение благодаря влиянию дяди. Отец – президент Сифортского банка».
Я посмотрел на мужчину, скорчившегося на полу.
– Встаньте, Вэнс, – ободряюще сказал мистер Уайльд. Вэнс поднялся, словно под гипнозом. – Он сделает так, как мы скажем.
С этими словами мистер Уайльд открыл рукопись и прочитал всю историю королевской династии Америки. Затем добрым, успокаивающим шепотом пробежал по важным пунктам с Вэнсом, который стоял, как громом пораженный. Его глаза были такими пустыми, что он стал похож на идиота. Я поделился своим наблюдением с мистером Уайльдом, но тот отмахнулся.
– Это не имеет значения.
Очень терпеливо мы объяснили Вэнсу, какая участь отведена ему в этом деле, и он, кажется, в конце концов нас понял. Мистер Уайльд объяснил содержание рукописи, подкрепил свои слова сведениями из нескольких томов по геральдике, чтобы обосновать результаты своих исследований. Так он рассказал о создании династии в Каркосе, об озерах, которые связывали Хастура, Альдебаран и тайну Гиад. Он говорил о Кассильде и Камилле, о сумрачных глубинах Демфа и озере Хали. «Ветхое рубище Короля в желтом навсегда сокрыто в Итиле», – пробормотал он, но я не уверен, что Вэнс его слышал. Мало-помалу мистер Уайльд перечислил ветви королевской семьи, идущие от Уохта и Тхали, от Наоталбы и Призрака истины к Алдонису, а потом, отбросив в сторону рукописи и заметки, он рассказал историю последнего короля. Очарованный и дрожащий, я наблюдал за Уайльдом. Он вскинул голову, гордо и властно вытянул сильные руки, глаза его горели в глубоких глазницах, как два изумруда. Вэнс слушал, совершенно ошеломленный. Что касается меня, то, когда мистер Уайльд наконец закончил, он указал на меня и воскликнул:
– Вот кузен короля.
Голова моя закружилась от возбуждения.
Контролируя себя огромным усилием воли, я объяснил Вэнсу, почему я один достоин короны и почему мой кузен должен быть изгнан или умерщвлен. Я дал ему понять, что мой брат не имеет права жениться на дочери маркиза Эйвоншира, даже если откажется от всех претензий на трон, – иначе Англия будет впутана в эту историю. Я показал ему список из тысяч имен, составленный мистером Уайльдом. Каждый человек, чье имя было в нем указано, получил желтый знак, которым никто не имеет права пренебречь. Город, страна, вся земля были готовы пасть ниц перед Бледной Маской. Время пришло. Людям должен открыться сын Хастура, и весь мир падет перед черной Звездой, которая стоит в небе над Каркосой.
Вэнс облокотился на стол, уткнувшись головой на сложенные руки. Мистер Уайльд нарисовал карандашом на полях вчерашнего «Геральда» черновой набросок. Это был план комнат Хауберка. Затем он выписал приказ и поставил печать, а я, дрожа, как паралитик, подписал свой первый приказ именем «Король Хилдред».
Мистер Уайльд сполз со стула на пол, отпер шкаф, снял с первой полки большую квадратную коробку, поставил ее на стол и открыл. Я вытащил оттуда завернутый в салфетку новый нож и передал его Вэнсу вместе с приказом и планом квартиры Хауберка. Затем мистер Уайльд разрешил Вэнсу уйти, и тот пошел, шатаясь, как бродяга из трущоб.
Некоторое время я наблюдал, как за квадратной колокольней церкви Джадсона меркнет дневной свет, затем собрал рукописи и заметки, взял шляпу и направился к двери. Мистер Уайльд молча смотрел мне вслед. В коридоре я оглянулся: запавшие глаза мистера Уайльда были все еще устремлены на меня. Позади него в сумеречном свете сгущались тени. Я закрыл дверь и вышел на темнеющие улицы.
Я не ел с утра, но не был голоден. Какой-то нищий на той стороне улицы смотрел на Палаты смертников, при виде меня он принялся стенать, перечисляя свои несчастья. Я дал ему денег, не знаю, почему, он даже не поблагодарил меня за это. Чуть погодя принялся выпрашивать милостыню еще один несчастный. У меня в кармане лежал чистый лист бумаги, на котором был начертан желтый знак, и я протянул его нищему. Тот тупо оглядел его, неуверенно зыркнув на меня, сложил с преувеличенной осторожностью и сунул себе за пазуху.
Среди деревьев светили электрические фонари, в небе над Палатами смертников сияла молодая луна. Ожидание на площади было утомительным. Я прошел от мраморной арки до артиллерийских конюшен и обратно к фонтану Лотоса. Цветы и трава источали тревожный аромат. Струя фонтана играла в лунном свете. Переплеск капель напомнил мне звон молотка в лавке Хауберка. Впрочем, тусклое мерцание лунного света на воде не приносило мне такого изысканного наслаждения, как игра солнца с полированнными латами на коленях Хауберка. Над струями фонтана метались летучие мыши, их стремительный полет растревожил меня, и я вновь побрел между деревьями без всякой цели.
У артиллерийских конюшен было темно, а в казарме ярко светились окна офицеров, в здании сновали усталые солдаты с соломой, сбруей, корзинами в руках. Дважды сменились конные часовые у ворот, пока я прохаживался по аллее. Я посмотрел на часы. Почти полночь. Огни в казармах гасли один за другим, закрывались зарешеченные окна, через боковую калитку выходили офицеры, и в ночном воздухе бряцало оружие и звенели шпоры. На площади все стихло. Полицейский прогнал последнего бездомного, Вустер-стрит опустела, и теперь слышалось только, как переступает копытами лошадь часового и звенит сабля о седло. В казармах еще горели окна офицеров, но теперь там мелькали только денщики. Часы церкви святого Франциска Ксавьера пробили полночь. С последним ударом печального колокола сквозь боковую калитку прошла еще одна фигура, ответила на приветствие часового и, перейдя улицу, двинулась в сторону Дома бенедиктинцев.
– Луи! – позвал я.
Мужчина повернулся на каблуках и направился ко мне.
– Это ты, Хилдред?
– Да. Ты вовремя.
Я взял его под руку, и мы направились в сторону Палат смертников. Он заговорил о своей свадьбе, о милой Констанс, о блестящих перспективах, привлекая мое внимание к капитанским погонам, тройной нашивке на рукаве и военной фуражке. Мне кажется, я слушал, как звенит его шпага, внимательнее, чем его детский лепет. Наконец мы остановились под вязами напротив Палат смертников. Он рассмеялся и спросил, что мне от него нужно. Я жестом показал ему на скамейку под электрическим фонарем и уселся рядом. Он окинул меня пытливым взглядом, который я так не люблю у врачей. Я был оскорблен, но он не догадывался об этом, потому что я старательно скрывал свои чувства.
– Ну, старина, чем могу быть полезен?
Я вынул из внутреннего кармана рукопись и заметки о королевской династии Америки и сказал, глядя ему в глаза:
– Я все тебе расскажу. Дай слово офицера, что прочитаешь это до конца, не задавая вопросов. Пообещай прочитать, а потом выслушать то, что я тебе скажу.
– Хорошо, обещаю, если ты так хочешь, – вежливо ответил он. – Давай записи, Хилдред.
Он начал читать, озадаченно поднимая брови, с таким скепсисом, что я задрожал от гнева. К концу чтения брови у него нахмурились, а губы как будто сами сложились в слово «вздор».
Он явно скучал, но сначала ради меня пытался выглядеть заинтересованным, а в конце концов и вовсе оставил эти попытки. Он начал с того, что на красиво исписанных страницах узнал свое имя, а когда дошел до моего, то резко оторвался от чтения и взглянул на меня. Вспомнив о своем обещании, он возобновил чтение, незаданный вопрос остался на его губах. Дойдя до конца и прочитав подпись мистера Уайльда, он аккуратно сложил бумаги и вернул их мне. Я передал ему записки. Он откинулся на спинку скамейки, надвинув на лоб фуражку мальчишеским жестом, который я хорошо запомнил еще со школьных времен. Я наблюдал за его лицом, пока он читал, а потом забрал у него заметки и сложил в карман. Затем развернул свиток с желтым знаком. Он, похоже, не узнал его, и я настойчиво привлек к листку его внимание.
– Ну, – сказал он. – Вижу. И что из этого?
– Это желтый знак, – сердито сказал я.
– Ах, вот как, – вкрадчивым тоном, точь-в-точь как доктор Арчер, сказал Луи. Он собирался продолжать в том же духе, но я его перебил со сдержанным гневом, как можно более уверенно:
– Послушай, ты дал слово!
– Я же слушаю, дружище, – успокаивающе проворковал он.
И я заговорил с преувеличенным спокойствием:
– Доктор Арчер каким-то образом овладел секретом престолонаследия и попытался лишить меня права на трон, утверждая, что из-за падения с лошади четыре года назад я превратился в умственно неполноценного. Он поместил меня под стражу в собственном доме, надеясь либо свести с ума, либо отравить. Я этого не забыл. Вчера вечером я навестил его и расставил все точки над «и».
Луи побледнел, но даже не пошевелился. Я торжествующе продолжил:
– Теперь в интересах мистера Уайльда и меня самого я должен переговорить еще с тремя людьми. Моим кузеном Луи, мистером Хауберком и его дочерью Констанс.
Луи вскочил на ноги, я тоже поднялся и бросил на землю бумагу с желтым знаком.
– Да мне и не нужно это, чтобы сказать тебе то, что должен! – торжествующе захохотал я. – Ты должен отказаться от короны в мою пользу, слышишь?
Луи был напуган, но, взяв себя в руки, ласково сказал:
– Разумеется, я откажусь. Но от чего я должен отказаться?
– От короны, – повторил я с раздражением.
– Конечно, я отказываюсь от нее. Пойдем, старина, я провожу тебя.
– Не пытайся обмануть меня своими врачебными уловками, – закричал я с яростью. – Не надо делать вид, что не считаешь меня сумасшедшим.
– Ну брось, пойдем, уже поздно, Хилдред.
– Нет! Ты выслушаешь меня. Ты должен выслушать. Ты не можешь жениться, я тебе запрещаю. Слышишь! Запрещаю. Ты отречешься от короны, и в награду я дарую тебе изгнание. Если ты откажешься, то умрешь.
Он попытался успокоить меня, но я был слишком возбужден и, выхватив длинный нож, преградил ему путь. Я сказал ему, что доктора Арчера скоро найдут в подвале с перерезанным горлом. И смеялся ему в лицо, потому что думал о Вэнсе, его ноже и приказе, который подписал сегодня.
– Сейчас король ты, – кричал я. – Но скоро им буду я. Кто ты такой, чтобы лишать меня власти над всей обитаемой землей? Пусть я родился двоюродным братом короля, но я стану королем!
Луи стоял передо мной, очень бледный и суровый. Внезапно на Четвертой авеню появился человек, он вбежал в ворота Палат смертников, не останавливаясь, проследовал к бронзовой двери и с безумным криком ворвался внутрь. Я хохотал до слез, потому что узнал Вэнса и понял, что Хауберк и его дочь больше не стоят на моем пути.
– Иди, – крикнул я Луи. – Ты перестал быть угрозой. Тебе никогда не жениться на Констанс. А если вздумаешь жениться в изгнании, то я навещу тебя, как своего доктора прошлой ночью. Мистер Уайльд завтра позаботится о тебе.
Затем я повернулся и бросился к Пятой авеню. С криком ужаса Луи выхватил оружие и пустился за мной. Я услышал, как он свернул за мной за угол Бликер-стрит и следом ворвался в дверь под вывеской Хауберка.
Он закричал:
– Стой, буду стрелять!
Но когда увидел, как я взлетаю по лестнице в лавке Хауберка, оставил меня и принялся тарабанить в дверь к оружейнику. Как будто мертвецов можно разбудить.
Дверь мистера Уайльда была открыта, и я ворвался к нему со словами:
– Все кончено! Все кончено! Пусть восстанут народы и встретят своего короля!
Хозяина квартиры нигде не было, поэтому я подошел к шкафу и вынул из него великолепную корону. Я надел белый шелковый халат, на котором был вышит желтый знак, и возложил корону себе на голову. Наконец-то я стал королем, королем Хастура по праву. Королем, потому что я знал тайну Гиад и потому что мои мысли звучали в глубинах озера Хали. Я был королем! С первыми проблесками рассвета поднимется буря, которая потрясет оба полушария земли. Я выпрямился, все мои нервы напряглись до предела, от радости и величия я едва не потерял сознание. В это время в темном коридоре застонал человек.
Я схватил сальную свечу и бросился туда. Мимо меня, словно демон, пронесся кот и затушил огонь, но мой длинный нож опередил его. Я слышал, как зверь кувыркается и падает во тьме, а когда он затих, я зажег свечу и поднял ее над головой. Мистер Уайльд лежал на полу с разорванным горлом. Сначала я подумал, что он мертв, но в его запавших глазах скользнула зеленая искорка, изуродованная рука задрожала, и судорога растянула рот от уха до уха. На мгновение ужас и безысходность уступили место надежде, но когда я склонился над ним, его глаза уже закатились и остекленели. Так я стоял над ним, охваченный яростью и отчаянием. Моя корона, моя империя, все надежды и стремления, вся моя жизнь была повержена во прах вместе с этим человеком.
Потом явились они. Схватили меня сзади и крепко связали руки, а я кричал, покуда не сорвал голоса. Я бушевал, истекая кровью, бесился, и не один полицейский почувствовал на себе мои острые зубы. Наконец они так скрутили меня, так что я не мог пошевелиться. Я увидел старого Хауберка, за ним страшное лицо моего кузена Луи. Еще дальше, в углу, тихо плакала Констанс.
– А, теперь я все понял! – захрипел я. – Вы захватили трон и королевство. Будьте прокляты! Горе вам за то, что увенчали себя короной Короля в желтом.
(Примечание редактора: Мистер Кастанье умер вчера в приюте для умалишенных преступников.)
Маска
Король в желтом. Акт I. Сцена 2
- Камилла: Снимите ж маску, сэр.
- Незнакомец: Пора ль?
- Кассильда: Пора.
- Лишь вы один не сбросили личину
- Из всех гостей.
- Незнакомец: Нет маски у меня.
- Камилла (в ужасе, Кассильде): Нет маски? Маски нет?!
I
Я ничего не знал о химии, но слушал, как зачарованный. Он взял лилию, которую Женевьева принесла утром из Нотр-Дам-де-Пари, и бросил ее в чашу. Жидкость мгновенно утратила кристальную чистоту. На секунду лилию окутала молочно-белая пена, а когда исчезла, в воде осталось опаловое свечение. Менялись местами оттенки оранжевого и малинового, а затем со дна, куда опустилась лилия, как будто пробился луч чистого солнечного света. В ту же секунду он опустил руку в чашу и вытащил цветок.
– Теперь это не опасно, – объяснил он. – Как только появилось золотое свечение, можно вынимать.
Он протянул лилию мне, я взял ее в руку – цветок превратился в камень, стал чистейшим мрамором.
– Видишь, в нем нет изъяна. Ни один скульптор не смог бы такого создать.
Мрамор был белым как снег, но в чашечке цветка прожилки были окрашены бледно-лазоревым, а самая сердцевина была розоватой.
– Не спрашивай меня, – улыбнулся он, заметив мое удивление. – Я понятия не имею, почему прожилки и сердцевина окрасились. Так бывает всегда. Вчера попробовал проделать это с золотой рыбкой Женевьевы. Вот она.
Рыбка выглядела мраморной статуэткой. Но если поднести ее к свету, то можно было заметить, что камень испещрен красивыми голубыми прожилками. Откуда-то изнутри исходил розово-опаловый цвет. Я заглянул в чашу.
– А если я опущу туда руку? – спросил я.
– Не знаю, но лучше не пробуй.
– Что меня гложет, – сказал я, – так это откуда взялся тот солнечный луч?
– Он просто похож на солнечный свет. Не знаю, но он всегда появляется, когда я погружаю в воду любое живое существо. Может быть, – продолжал он с улыбкой, – это душа, излетающая к источнику, который ее породил?
Я видел, что он шутит, и погрозил ему муштабелем. В ответ он рассмеялся и сменил тему.
– Останься обедать. Придет Женевьева.
– Я видел, что она ушла на раннюю мессу, – сказал я. – Такая же свежая, как та лилия, которую ты умертвил.
– Думаешь, умертвил? – серьезно сказал Борис.
– Умертвил или сохранил навечно, как посмотреть.
Мы сидели в углу студии рядом с его неоконченной группой «Судеб». Он откинулся на спинку дивана, вертя в руках долото и щурясь на свою работу.
– Между прочим, – сказал он, – я окончил Ариадну, ее придется выставить в салоне. Это все, что у меня есть в этом году, но после успеха «Мадонны» такую дешевку показывать стыдно.
«Мадонна», изысканная мраморная скульптура, для которой позировала Женевьева, была сенсацией прошлогоднего салона. Я взглянул на Ариадну. Технически она была совершенна, но я был согласен с Борисом – от него будут ожидать чего-то большего. Очевидно, что окончить великолепную и ужасную скульптурную группу до салона он не успеет. «Судьбам» придется подождать.
Мы гордились Борисом Ивейном. Мы считали его своим, как и он нас, поскольку он родился в Америке. Но его отец был французом, а мать – русской. Вся богема называла его Борисом, но было только двое людей, к которым он в ответ обращался так же запросто – Джек Скотт и я.
Возможно, моя любовь к Женевьеве была каким-то образом связана с его привязанностью ко мне, но мы с ним никогда этого не обсуждали. Когда наша короткая связь с Женевьевой закончилась, мы с ней все выяснили, и она со слезами на глазах призналась мне, что любит Бориса. Я отправился к нему домой и поздравил его. Искренняя сердечность моего поздравления не могла никого обмануть, но я надеялся, что хотя бы одному из нас после этого стало спокойнее. Они с Женевьевой не обсуждали того, что случилось между нами, и Борис ни о чем не знал.
Женевьева была красавицей. Чистота ее лица напоминала о Херувимской песне в «Мессе» Шарля Гуно. Но я всегда радовался, когда настроение у нее менялось, и тогда мы называли ее апрельским деньком. Она и была изменчивой, как апрельский день. По утрам – скорбной, величественной и ласковой, в полдень – неожиданно веселой и капризной. Я предпочитал видеть ее вторую грань, а не ту невозмутимую Мадонну, что бередила мне сердце. Мне грезилась Женевьева, когда Борис вновь заговорил.
– Так что ты думаешь о моем открытии?
– Оно ошеломительно.
– Я буду его использовать, только чтобы удовлетворить собственное любопытство, так что тайна умрет со мной.
– Это было бы смертью искусства скульптора, не так ли? Мы, художники, много потеряли от появления фотографии.
Борис кивнул, играя долотом.
– Это опасное открытие уничтожит мир искусства. Нет, я никогда никому не открою этой тайны, – медленно сказал он.
Трудно было найти человека, менее осведомленного, чем я. Конечно, я слышал, что существуют минеральные источники, настолько насыщенные оксидом кремния, что листья и ветки, попавшие в них, через некоторое время обращались в камень. Я смутно понимал процесс замещения кремнием органической материи – клетка за клеткой, так что в конце концов получалась каменная копия предмета. Признаюсь, это никогда меня особо не интересовало. А что касается древних окаменелостей, то они и вовсе вызывали во мне отвращение. Борис, наоборот, испытывал к ним любопытство, тщательно исследовал их и случайно наткнулся на реакцию, которая с неслыханной свирепостью охватывала погруженный в воду предмет и за секунды выполняла тысячелетнюю работу. Это все, что я сумел извлечь из его странных объяснений. После долгого молчания он снова заговорил.
– Я был напуган, когда понял, с чем имею дело. Ученые сошли бы с ума от этого открытия. Оно так элементарно, как будто напрашивалось само собой! Когда я думаю об этой формуле, о том, как этот новый элемент осаждается на металлических весах…
– Какой новый элемент?
– О, я не думал давать ему имени, не думаю, что когда-нибудь назову. И без того в мире полно драгоценных металлов, ради которых люди режут друг другу глотки.
Я навострил уши.
– Ты нашел золото, Борис?
– Нет, лучше… – вздрогнув, он рассмеялся. – Послушай, Алек! У нас с тобой есть все, чего можно пожелать в этом мире. Эй, у тебя сейчас такой зловещий, алчный взгляд…
Я пошутил, что, раз на меня напала золотая лихорадка, нам лучше сменить тему. Когда пришла Женевьева, мы перестали говорить об алхимии.
Она была одета в серебристо-серое с головы до ног. Свет переливался в ее золотистых волосах, когда она повернулась к Борису. Потом она заметила меня и ответила на приветствие. Прежде она никогда не запрещала мне целовать кончики своих белых пальцев, и я немедленно напомнил ей об этом. Она с улыбкой протянула мне руку и поскорее отняла, едва я успел ее коснуться. Потом сказала, глядя на Бориса:
– Пригласи Алека пообедать с нами.
В этом было что-то необычное. До сегодняшнего дня она всегда обращалась прямо ко мне.
– Уже пригласил, – коротко ответил Борис.
– Ты согласился, надеюсь? – Она повернулась ко мне с непринужденной улыбкой, как будто мы вчера с ней познакомились.
Я низко поклонился:
– С превеликой честью, сударыня.
Но она не приняла моего добродушного тона, вместо этого пробормотала какую-то гостеприимную банальность и исчезла. Мы с Борисом переглянулись.
– Может, мне лучше уйти? – спросил я.
– Даже не знаю, – откровенно ответил он.
Пока мы обсуждали целесообразность моего ухода, Женевьева появилась в дверях без шляпки. Она была потрясающе красива, хотя лицо ее потемнело, а прекрасные глаза опасно сияли. Она подошла и взяла меня под руку.
– Обед готов. Ты не обиделся, Алек? У меня болела голова, но сейчас уже нет. Пойдем, Борис. – И она просунула другую руку ему под локоть. – Алек знает, что я люблю его почти так же сильно, как тебя. Так что, если он обиделся, это нестрашно.
– Всегда пожалуйста, – воскликнул я. – Что за апрель без гроз?
– Ну так вперед! – пропел Борис. – Вперед!
Взявшись за руки, мы вбежали в столовую, чем шокировали слуг. Но не стоит винить нас за это. Женевьеве было восемнадцать. Борису двадцать три, а мне всего двадцать один.
II
Приблизительно в то время я занимался кое-каким делом, чтобы украсить будуар Женевьевы, и поэтому постоянно торчал в маленьком старинном отеле на улице Сент-Сесиль. Мы с Борисом много трудились, но все как-то урывками, а между работой все втроем вместе с Джеком Скоттом предавались безделью.
Однажды в тихий полдень я бродил по дому, рассматривая антикварные безделицы, заглядывая в темные уголки, вытаскивая из хитроумных тайников сладости и сигары, и наконец зашел в ванную. Борис отмывал руки от глины.
Комната была отделана розовым мрамором, только пол был выложен розовым и серым. В центре стоял квадратный бассейн, утопленный вровень с полом, вниз вели ступеньки, скульптурные колонны поддерживали расписной потолок. Чудесный мраморный купидон, казалось, только что приземлился на пьедестал у самого потолка. Весь интерьер мы с Борисом создали вместе. Борис в холстяной рабочей одежде соскребал со своих красивых рук следы глины и красного моделирующего воска, кокетничая с купидоном через плечо.
– Я все вижу, – сказал он. – Не пытайся отворачиваться и притворяться, что не смотришь на меня. Ты же знаешь, кто тебя сделал, маленький жулик!
В этих диалогах я всегда выступал за купидона и в этот раз ответил что-то такое, что Борис схватил меня за руку и потащил к бассейну, уверяя, что сейчас же меня утопит. Но в следующее мгновение он словно очнулся и отпрянул, отпустив мою руку.
– Боже милостивый! Я забыл, что бассейн наполнен реактивом.
Я слегка вздрогнул и сухо посоветовал ему запоминать, куда он выливает драгоценную жидкость.
– Во имя всего святого, зачем ты держишь здесь целое озеро с этой гадостью? – спросил я.
– Мне хочется произвести эксперимент над чем-нибудь большим, – ответил он.
– Надо мной, например?
– Не шути так. Я хочу посмотреть, как реактив будет действовать на высокоорганизованное живое тело. У меня есть белый кролик, – сказал он, выходя за мной в студию.
Пришел Джек Скотт, одетый в перепачканную краской куртку. Он выгреб все восточные сладости, до которых смог дотянуться, опустошил портсигар, и наконец они вдвоем с Борисом отправились в Люксембурскую галерею, где внимание всей художественной Франции было приковано к новой бронзовой статуе Родена и пейзажу Моне. Я вернулся в студию и возобновил работу. Я расписывал ширму в стиле Ренессанса, Борис привел уличного мальчишку, чтобы я нарисовал его для будуара Женевьевы. Но маленький натурщик сегодня был не настроен мне помогать, он не мог усидеть на месте, и в течение пяти минут я сделал пять разных набросков этого негодяя.
– Друг мой, ты позируешь или пляшешь? – спросил я.
– Как вам будет угодно, – с ангельской улыбкой отвечал он.
Я вынужден был отпустить его, заплатив за полный рабочий день. Вот так мы портим наших моделей.
После того как этот бесенок ушел, я сделал несколько небрежных мазков на холсте, но деловое настроение улетучилось. Поэтому я соскреб палитру, сунул кисти в миску с черным мылом и отправился в курительную комнату. На самом деле за исключением будуара Женевьевы только эта комната в доме не пропахла табаком. Она была набита всякой всячиной и увешана ветхими гобеленами. У окна стоял старинный, еще вполне добротный клавесин, на полках было развешано оружие, потертое, тусклое и современное, блестящее. Над каминной полкой висели индейское и турецкое вооружение, две-три неплохие картины и курительные трубки. Ради них мы и приходили в эту комнату. Кажется, здесь на стойках были собраны трубки на любой вкус. Мы выбирали какую-нибудь и шли курить в другое место, потому что курительная комната была самым мрачным и неприятным местом в доме. Но сегодня за окном начинались вечерние сумерки, ковры и шкуры на полу казались мягко-коричневыми и сонными, большой диван был завален подушками – я выбрал трубку и свернулся на нем калачиком, чтобы покурить здесь, в непривычном месте. Выбрав одну с длинным гибким мундштуком, я бессознательно зажег ее. Через некоторое время она погасла, но я даже не пошевелился. Я размечтался и вскоре заснул.
Проснулся я от самой грустной музыки, какую когда-либо слышал. В комнате было уже совсем темно. Я понятия не имел, который час. Серебристый лунный свет освещал край старинного спинета[13], и полированное дерево как будто выдыхало звуки, и они выплывали из коробки сандалового дерева. Кто-то поднялся в темноте и тихо заплакал, а я был настолько глуп, что выкрикнул: «Женевьева!»
Услышав голос, она упала без чувств, а я, проклиная себя на чем свет стоит, зажег свет и попытался поднять ее с пола. Она отшатнулась, как будто от боли и позвала Бориса. Я отнес ее на диван и отправился его искать, но дома Бориса не было, и слуги уже разошлись спать. Озадаченный и встревоженный, я поспешил вернуться к Женевьеве. Она лежала там, где я ее оставил, и казалась очень бледной.
– Я не нашел ни Бориса, ни слуг, – сказал я.
– Я знаю, – слабым голосом ответила она. – Борис уехал в Эпт с мистером Скоттом. Не помню, чтобы я тебя за ним посылала.
– Значит, он не вернется до завтрашнего дня и… Тебе больно? Ты испугалась, когда я тебя позвал? Какой я идиот, но я тогда не успел проснуться.
– Борис думал, что ты ушел домой до ужина. Прости, что мы не заметили тебя здесь.
– Я долго спал, – засмеялся я. – Так крепко, что сам не понял, сплю я или нет. А потом обнаружил тебя в комнате и позвал по имени. Ты опробовала старый спинет? Должно быть, ты тихо играла…
Я бы солгал еще тысячу раз, лишь бы увидеть облегчение на ее лице. Она очаровательно улыбнулась и сказала своим обычным голосом:
– Алек, я споткнулась о голову этого волка и, наверное, растянула лодыжку. Позови Мари, а потом можешь идти домой.
Я исполнил ее просьбу и покинул дом, когда вошла горничная.
III
На следующий день, когда я пришел, Борис беспокойно метался по студии.
– Женевьева спит, – сказал он мне. – Растяжение неопасно, но у нее очень высокая температура. Доктор не может объяснить, что с ней.
– У нее жар? – спросил я.
– Я же тебе сказал. И всю ночь кружилась голова. И знаешь, что я думаю… Маленькая беззаботная Женевьева твердит, что ее сердце разбито и что она хочет умереть!
Мое сердце замерло.
Борис прислонился к дверному косяку с руками в карманах, угрюмо глядя вниз. Его добрые, внимательные глаза затуманились, губы были тревожно сжаты. Горничная обещала позвать его, как только Женевьева откроет глаза. Мы ждали, Борис все бродил по комнате, хватаясь то за воск, то за глину. Наконец он двинулся в соседнюю комнату.
– Пойдем опробуем мой розовый бассейн, полный смерти.
– Смерти? – переспросил я.
– Жизнью это не назовешь, – ответил Борис.
С этими словами он схватил золотую рыбку, плавающую в сферическом аквариуме.
– Побросаем туда их все, – добавил он.
В его голосе было лихорадочное возбуждение. Тусклой дрожью были охвачены мои руки, ноги и мысли, когда я последовал за ним к розовому бассейну. Он бросил рыбку туда. В падении ее чешуя вспыхнула горячим оранжевым блеском, рыбка забилась всем тельцем, но, как только вошла в жидкость, замерла и тяжело опустилась на дно. Затем появилась молочная пена, причудливые оттенки зазмеились по поверхности, а после этого сноп чистого света прорвался, казалось, из бесконечных глубин. Борис погрузил туда ладонь и вытащил изящную мраморную вещицу – с синими прожилками, покрытую опалово-розовыми каплями.
– Баловство, – пробормотал он и устало, тоскливо взглянул на меня, но мне нечего было ему ответить.
Джек Скотт принялся «баловаться» с пылом. Нам ничего не оставалось, как опробовать эксперимент на белом кролике. Мне хотелось, чтобы Борис отвлекся от забот, но смотреть, как лишают жизни белое, теплое существо, я не мог. Взяв наугад книгу с полки, я уселся в студии и принялся читать. Увы! Я вытащил «Короля в желтом». Через несколько мгновений, которые показались мне вечностью, я с нервной дрожью поставил книгу на место, а Борис и Джек внесли в комнату мраморного кролика.
Наверху зазвенел колокольчик, из спальни больной донесся крик. Борис исчез, словно вспышка, и в следующий момент выкрикнул:
– Джек! Беги за доктором, приведи его. Алек, иди сюда!
Я подошел и остановился у двери в спальню. Встревоженная служанка выбежала за лекарством. Женевьева сидела, выпрямившись, с побагровевшим лицом и сверкающими глазами, она что-то невнятно бормотала и все пыталась отвести от себя руки Бориса. Он позвал меня на помощь. Как только я коснулся ее, она вздохнула и откинулась назад, закрыв глаза, а когда мы склонились над ней, вдруг прямо взглянула на Бориса – бедняжка, совсем обезумела от лихорадки! – и раскрыла наш секрет.
В тот же миг три наши жизни потекли по новому руслу. Узы, которые так долго удерживали нас вместе, были разорваны навсегда, а вместо них образовались новые, ибо она прошептала мое имя. Измученная лихорадкой, она сняла со своего сердца тяжесть тайной печали. Изумленный и немой, я склонил голову с пылающим лицом, я почти ничего не слышал от звона в ушах. Я не мог двигаться, не мог говорить, только слушал ее лихорадочный шепот, сгорая от стыда и печали. Я не мог заставить ее замолчать и не мог смотреть на Бориса. Потом я почувствовал на своем плече его руку. Борис повернул ко мне бескровное лицо.
– Ты ни в чем не виноват, Алек, не печалься, если она тебя любит…
Он не успел закончить, потому что в комнату вошел доктор со словами: «Это грипп!» Я схватил за руку Джека Скотта и поспешил с ним на улицу, выдавив из себя:
– Борису нужно побыть одному.
Мы разошлись по домам. В ту ночь, подозревая, что я тоже заболеваю, он послал за доктором. Последнее, что я отчетливо помню, были слова Джека:
– Ради бога, доктор, почему у него такое лицо?
В этот миг я думал о Короле в желтом и Бледной Маске.
Я был болен всерьез, потому что вырвалось наружу напряжение двух последних лет, копившееся с того рокового майского утра, когда Женевьева промолвила:
– Я люблю тебя, но, кажется, Бориса люблю сильнее.
Я не думал тогда, что мне будет так тяжело все это переносить. Внешне спокойный, я обманывал себя. Внутренняя битва бушевала ночь за ночью, и, лежа в своей комнате, я проклинал себя за подлые мысли, за свое предательство Бориса, за то, что был недостоин Женевьевы. Утро всегда приносило мне облегчение, и я возвращался к ним с чистым сердцем, что было оплакано и омыто ночным штормом. Никогда ни словом, ни делом, ни мыслью рядом с ними я не признавался в своем несчастье даже самому себе.
А потом я перестал носить маску самообмана – она стала частью меня самого. Ночь приподняла ее, обнажая задушенную правду, но некому было увидеть ее, кроме меня. На рассвете была сорвана окончательно. Эти мысли проносились в моем беспокойном разуме во время болезни, опутанные видениями белых сущностей, тяжелых, как камни Бориса, падающие на дно бассейна, – я видел оскаленную волчью голову на ковре, из пасти ее текла пена прямо на Женевьеву, которая лежала рядом и улыбалась. Я думал о Короле в желтом, вокруг которого в безветрии змеилось его изодранное рубище, и о горьком крике Кассильды: «Помилуй нас, король, помилуй нас!»
Я изо всех сил пытался избавиться от него, но вместо этого увидел озеро Хали, прозрачное и пустое. Ни ряби, ни ветерка. Я увидел башни Каркосы под луной. Альдебаран, Гиады, Алар, Хастур скользили меж облаков, и все это трепетало и хлопало, как змеистые лохмотья Короля в желтом. Мой рассудок цеплялся за единственную здравую мысль. Что бы ни происходило в моем изнуренном сознании, главной причиной моего бытия оставался долг перед Борисом и Женевьевой. Что это был за долг, какова была его природа, я не понимал. То ли я должен был защитить их, то ли поддержать во время великого перелома. Как бы то ни было, какое-то время только это имело значение, хотя никогда в жизни я не был так болен, так близок к смерти. Вокруг меня толпились какие-то лица, странные, я никого, кроме Бориса, среди них не узнавал. Потом мне говорили, что этого не могло быть. Но я-то знаю, что однажды он склонился надо мной. Это было одно прикосновение, слабое эхо его голоса, потом над моим рассудком вновь сгустились тучи, и Борис исчез. Но он определенно стоял надо мной, я точно знаю, это было, по крайней мере однажды.
Наконец однажы утром я проснулся и увидел солнечный луч, падающий на мою кровать. Джек Скотт читал рядом со мной. У меня не было сил, чтобы заговорить вслух, кончились мысли и память, но я сумел слабо улыбнуться Джеку. Он вскочил и нетерпеливо спросил, нужно ли мне что-нибудь. Я прошептал:
– Да. Борис…
Джек подошел к изголовью моей кровати и наклонился, чтобы поправить подушку. Я не видел его лица, но он сердечно сказал:
– Подожди, Алек, ты еще слишком слаб, чтобы встретиться с ним.
Я ждал. Я выздоравливал. Я готовился увидеться с ним. А тем временем думал и вспоминал. Когда прошлое прояснилось в моей голове, я не сомневался в том, что должен сделать. Я знал, что Борис поступил бы точно так же. Все случившееся касалось только меня одного, он должен был понять. Я не спрашивал, почему от него не приходило никаких вестей, почему целую неделю, пока я набирался сил, ни разу не произносили его имени. Занятый поисками правильного решения, я с переменным успехом боролся со своим отчаянием и поэтому смирился с молчанием Джека, считая само собой разумеющимся, что он избегает говорить о них. Я должен быть послушным и не настаивать на встрече с ними. Между тем снова и снова я повторял себе:
– Что будет, когда жизнь для всех нас начнется заново?
Останутся ли наши отношения такими же, как до болезни Женевьевы? Посмотрим ли мы с Борисом друг другу в глаза, как раньше, чтобы не было в них ни злобы, ни трусости, ни недоверия? Мне нужно побыть с ними какое-то время, а потом без всяких предлогов и объяснений исчезнуть из их жизни навсегда. Борис поймет, Женевьева… Единственное утешение, если она ничего не знает о том, что случилось. Обдумав все это, я решил, что теперь осознаю свой долг, о котором бредил все время болезни, и понимаю, как должен поступить. Итак, собравшись с духом, я подозвал Джека и сказал:
– Джек, мне нужно немедленно встретиться с Борисом, и передай Женевьеве мой самый искренний привет…
И тогда он наконец объяснил мне, что оба они мертвы.
Я впал в дикую ярость, которая вновь разрушила мои силы. Я бредил и проклинал себя и вышел из своей комнаты только через несколько недель. Мальчик двадцати одного года, который навсегда утратил молодость. Мне казалось, что я больше не в силах страдать. Поэтому, когда Джек вручил мне письмо и ключи от дома Бориса, я без дрожи взял их и попросил все мне рассказать. С моей стороны было жестоко просить его об этом, но я ничего не мог поделать. Он устало оперся на свои тонкие руки и вновь вскрыл себе рану, которая никогда не зарастет полностью. Он начал говорить очень тихо:
– Алек, ты, наверное, знаешь о том, что произошло, больше, чем я. Подозреваю, что тебе не следовало бы слышать всех подробностей, но этого не избежать, так что давай покончим с этим скорей. Бог свидетель, я совсем не хочу об этом говорить.
В тот день, когда я оставил тебя на попечении доктора и вернулся к Борису, он был занят работой над «Судьбами». Женевьева, по его словам, спала под воздействием снотворного. Он сказал, что она сошла с ума, и продолжил работу. Я молча наблюдал за ним. Вскоре третья фигура в скульптурной группе, та, что смотрела прямо перед собой, обрела его лицо, но не таким, каким ты его знал, а таким, каким он стал в те дни и до конца. Хотел бы я знать почему, но вряд ли когда-нибудь узнаю.
Он работал, я молча наблюдал, и так продолжалось до полуночи. Потом мы услышали, как резко открылась и захлопнулась дверь. Кто-то пробежал в соседнюю комнату. Борис бросился туда, я последовал за ним, но мы опоздали. Она лежала на дне бассейна с руками, сложенными на груди. И тогда Борис выстрелил себе в сердце.
Джек замолчал. Капли пота выступили у него на лбу, тонкая щека задергалась.
– Я отнес Бориса в его комнату, потом поднял пробку на цепочке и выпустил эту адскую жидкость из бассейна, смыл водой все до последней капли. Когда я осмелился спуститься по ступенькам, то обнаружил ее лежащей на дне и белой как снег. Тогда я пошел в лабораторию, спустил в трубу раствор из чаши, вылил содержимое из всех банок и бутылок. В камине лежали дрова. Я развел костер и сжег все бумаги, тетради и письма, которые нашел. Молотком из мастерской я разбил все пустые бутылки, погрузил их в тележку для угля, отнес в подвал и бросил в раскаленную печь. Мне пришлось шесть раз повторить все это, пока я не убедился, что не осталось никаких следов от формулы, которую открыл Борис. И только после этого позвал доктора. Он хороший человек. Мы вдвоем сделали все, чтобы скрыть подробности от общественности. Без него я бы не справился. Наконец мы расплатились со слугами и отправили их в деревню. Старый Розье кормит их выдумками о путешествии Бориса и Женевьевы в дальние страны, откуда они вернутся только через много лет. Бориса похоронили на маленьком кладбище Севра. Доктор – добрейшее существо. Он знает, что нужно пожалеть человека, который больше не в силах терпеть. Он выписал мне справку о болезни сердца и не задавал вопросов.
Наконец Джек выпрямился и сказал:
– Открой письмо, Алек, оно для нас обоих.
Я разорвал конверт. Оно было написано Борисом за год до всего случившегося. Он все завещал Женевьеве, а в случае если она умрет бездетной, то дом на улице Сент-Сесиль он оставлял на мое имя, Джеку Скотту передавал поместье в Эпте[14]. После нашей смерти наследство следовало передать семье его матери в России за исключением мраморных шариков. Их он оставлял мне.
Страницы письма размывались перед моими глазами. Джек отошел к окну, потом вернулся и уселся на место. Я боялся того, что он скажет, но слова его прозвучали просто и ясно:
– Женевьева лежит перед Мадонной у мраморного бассейна. Мадонна нежно склоняется над ней, а Женевьева улыбается ей в ответ, глядя на собственное лицо.
Голос его сорвался, но он схватил меня за руку и сказал:
– Держись, Алек.
На следующее утро он отправился в Эпт, чтобы оправдать возложенное на него доверие.
IV
В тот же вечер я взял ключ и вошел в хорошо знакомый мне дом. Все лежало на своих местах, только стояла ужасная тишина. Дважды я подходил к двери мраморной комнаты, но не мог заставить себя войти туда. Это было выше моих сил. Я вошел в курительную комнату и уселся перед спинетом. На клавишах лежал кружевной платочек, и я отвернулся, задохнувшись. Было ясно, что остаться в доме я не смогу, поэтому я запер все двери, окна, парадные и черные ворота и ушел. На следующее утро Элсид упаковал мой багаж. Оставив его следить за моей квартирой, я сел на Восточный экспресс и отправился в Константинополь. Два года я скитался по Востоку. Сначала в наших с Джеком письмах мы не упоминали о Женевьеве и Борисе, но постепенно их имена прокрались на страницы. Я хорошо помню отрывок из письма Джека, в котором он отвечал на одно из моих писем:
«Меня обеспокоило твое письмо. Ты писал, что видел Бориса, склонившегося над тобой, когда ты лежал в горячке, чувствовал его прикосновение к лицу, слышал его голос. Все это должно было происходить через две недели после его смерти. Я убеждаю себя, что ты просто бредил, но объяснение не удовлетворяет меня так же, как и тебя».
К концу второго года Джек прислал мне в Индию письмо, настолько непохожее на него, что я принял решение немедленно вернуться в Париж. Он писал:
«Я здоров. Продаю свои картины, как все художники, которые не нуждаются в деньгах. Но хотя у меня нет своих забот, я все же встревожен. Не могу избавиться от навязчивых мыслей о тебе. И это меня изматывает. Это не предчувствие, это какое-то затаенное ожидание… Чего? Бог знает! Говорю только, что оно изматывает меня. Ночами я вижу во сне тебя и Бориса, а утром не могу вспомнить, что мне снилось, но просыпаюсь с бьющимся сердцем, и весь день меня не отпускает тревога. Потом вновь наступает ночь, и все начинается сначала. Я очень устал и решил покончить с этим болезненным состоянием. Мне нужно тебя увидеть. Как быть? Мне ехать в Бомбей или тебе в Париж?»