Рцы слово твердо. Русская литература от Слова о полку Игореве до Эдуарда Лимонова бесплатное чтение
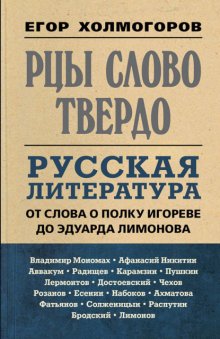
© Е.С. Холмогоров, 2020
© Книжный мир, 2020
От автора
В этой книге собраны и представлены на суд взыскательного читателя ряд сочинений по русской литературе и, несколько расширяя предмет, русской словесности – от алфавита и орфографии до историографии. Автор не является профессиональным литературоведом или, упаси Бог, литератором. Энциклопедии обычно определяют его как «публицист, политический деятель, консервативный идеолог, русский националист».
Эти четыре характеристики, пожалуй, исчерпывающе описывают тот взгляд на русскую литературу, который представлен в этих очерках. Это взгляд пристрастный, партийный, временами рассчитывающий на «первый-второй», стремящийся мобилизовать прошлое и настоящее великого русского слова на защиту русской национальной идентичности и призывающий писателей и поэтов на ту великую мировую войну между цветущей сложностью традиции, и слякотностью толерантного разложения, которая сегодня кипит от Миннеаполиса и Парижа до Киева и Минска.
Мой друг Дмитрий Ольшанский иногда упрекает меня в «комиссарском подходе» к культуре. Никакой однобокости или ущербности в таком взгляде на русскую литературу я не вижу. Напротив, абстрактный «эстетизм» и внепартийность являются, чаще всего, лишь дымовой завесой антинациональной и леволиберальной пропагандой с её неизбежными камланиями вокруг «Пушкина-негра».
Впрочем, автор надеется на то, что эти очерки доставят читателю не только политическое, но и, до известной степени, интеллектуальное и эстетическое удовольствие. Всегда, когда мог, я старался писать легко, обсуждая интересные смысловые детали, и не брезговал высказываниями от первого лица и мемуарными вставками. Хотя, если говорить о личном, большая часть этих текстов могут быть сведены к одному жанру – запоздавшие сочинения.
Писать сочинения по литературе в отрочестве и юности было для меня невыносимой пыткой. Не то чтобы я литературу не любил – будучи маленьким советским гуманитарием я был неплохо в ней подкован, читал многое из того, чего мои сверстники не читали и того, что им читать не полагалось, располагал солидной отцовской библиотекой, в которой, конечно, не было подростковых сокровищ вроде «Дюмы», зато было немало сокровищ от ксероксного Набокова и пушкинских эпиграмм до Мэри Стюарт и Честертона.
Да и сама жизнь в артистической семье волей-неволей предполагала сопричастность русской литературе. Когда на стене дома почти как икона висит портрет Пушкина, а отец берет тебя на концерт исполняемых им песен на стихи Дениса Давыдова и ты с младых ногтей уверен, что «я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской», а потому «за тебя на черта рад, наша матушка Россия», всё это имеет значение.
Но сочинение-то тут причем? Сочинение в советской школе было крайне своеобразным жанром. От учащегося требовалось высказывать «мысли о прочитанном». Однако высказывать действительно свои мысли, напирая на местоимение «я» тоже было чревато. «От первого лица» полагалось повторять общепринятые лицемерные формулы в строго отмеренной дозировке.
С чужими мнениями тоже было непросто – категорически запрещалось пользоваться какой-либо филологической, исторической, публицистической литературой, кроме, разве что, присяжных революционно-демократических критиков Белинского и Добролюбова. Как в детективах каждый следующий великий сыщик живет так, как будто никогда не читал про Шерлока Холмса, так и мы вынуждены были делать вид, что никакого литературоведения не существует и осмысление Грибоедова, Гоголя и Островского начинается с нас и нашей Анны Иванны как с чистого листа.
Интересуясь историей с того самого момента, когда научился читать, я рано усвоил из историографии совсем другие принципы интеллектуальной деятельности. Твое мнение должно выводиться из сочетания внимательного анализа текста, рассмотрения его интеллектуального контекста и должно продолжать историографическую традицию обсуждения вопроса. Если оно при этом еще и будет само хорошо написано, то совсем прекрасно, историография тоже важный литературный жанр.
Однако подобной историографической филологии в школе не учили. А стало быть тексты, представлявшиеся мною в жанре сочинения на рассмотрение наших словомучительниц, были откровенно убоги, а поскольку филология была в СССР единственной разрешенной формой интеллектуализма, то и ощущал я себя почти идиотом.
По счастью, положение изменилось в 1991 году, когда в знаменитой московской «57-й школе» я попал на уроки Игоря Георгиевича Вишневецкого, ведшего теорию литературы. Сегодняшнему русскому читателю представлять Вишневецкого нет нужды – он автор нашумевшей повести «Ленинград», невероятного по изысканности готического романа «Неизбирательное сродство», изумительной по дантевской силе и не имеющей прецедентов в русской литературе поэмы «Видение», глубокий исследователь жизни и творчества одного из прекрасных, но забытых русских поэтов Степана Шевырева. Тогда это был молодой учитель и начинающий поэт, c невероятным увлечением рассказывавший нам о русской поэзии.
Оказалось, что отношения в кружке символистов, софиология Владимира Соловьева, культ Любови Дмитриевны Менделеевой, самоубийство гусара Князева, – всё это имеет значение для понимания русской литературы. Так же, как имеет значения бисерные хитросплетения образов Мандельштама и звукопись раннего Пастернака. Игорь Георгиевич вполне мог ворваться в класс посреди чужого урока, чтобы объяснить нам, что «ласточка хилая» в «Стихах о неизвестном солдате» Мандельштама – это аллюзия на греческое звучание слова «ласточка» – χελιδόνι. Полтора года продолжалось это интеллектуальное пиршество, за которое я и по сей день признателен, хотя за то, как именно распорядился даром ученик, учитель, разумеется, ответственности не несет.
Тогда я впервые открывал для себя, что понимание литературы – это строгая и вольнолюбивая научная и интеллектуальная дисциплина, а не демонстрация лояльности к господствующему дискурсу, советски-марксистскому ли, либеральному ли…
С дискурсами тоже получалось интересно. Большинство великих русских писателей и поэтов было русскими консерваторами и патриотами. Некоторых можно даже назвать «националистами» в самом строгом академическом смысле слова. Это факт естественный, логичный и неудивительный – патриотизм требует охраны и развития русского языка, то есть языка той великой литературы, в рамках которой они творили если не от прирожденности русских звуков, то хотя бы от того, что искусство поэзии требует слов. В мире существует крайне ограниченное количество «наборов слов», которые действительно пригодны для великой поэзии. И свой набор слов следует защищать и укреплять.
Совсем другое дело филология. И во дни моей юности, и по сей день, поле интерпретации русской литературы было захвачено последователями единственноверного либерального учения и совпадающего с ним, на самом-то деле, советского марксизма и нынешнего западного неомарксизма. Основной функцией этого вохровского литературоведения было систематически искажать и перетолковывать взгляды гениев русского слова так, чтобы они не мешали вести стада дальше по пути прогресса, вперед к запрету русского языка на Украине и сносу памятников в Америке (называю последние по времени рубежи, а сколько их было до этого).
Сколько написано этой красной и голубой филологией страниц о «самообмане» пушкинского консерватизма, о криптореволюционности Достоевского. Когда трудно перетолковать, предпочитают просто запретить и забелить в худших традициях советской цензуры – ни в одно собрание сочинений Иосифа Бродского по решению неких загадочных «наследников» не включается стихотворение «на независимость Украины».
Некоторое время назад мне пришлось создать практически с нуля и на коленке новую, по крайней мере у нас, дисциплину – консервативную кинокритику[1]. По счастью «консервативное литературоведение» в таком учреждении не нуждается – оно представлено достаточно обширной традицией. Из-за крайней литературоцентричности русской культуры, каждый консервативный идеолог, начиная с Михаила Каткова и Константина Леонтьева и заканчивая Игорем Шафаревичем и Константином Крыловым, вынужден с известной регулярностью высказываться о русской литературе. Иногда гений русской словесности оказывается и гением русской консервативной мысли, и высказывается против либерального искажения творчества других гениев русской словесности. Именно так получилось с великолепным антирусофобским пушкиноведческим эссе Александра Солженицына «Колеблет твой треножник».
Национальная, консервативная, православная традиция размышлений о русской литературе огромна. И всё равно её поток слишком мал по сравнению с мощным напором левацких и либеральных перетолкований. Мал ещё и потому, что консерваторы слишком часто покупаются на разводку абстрактного эстетизма. Любя жизнь и действительность как они есть и тщательно взвешивая каждое улучшение, консерватор дает себя убедить, что неважно какова партийность прекрасного, если оно прекрасно. Его внутренняя стеснительность не дает ему сказать «это наши» даже о тех художниках слова, которые «наши» на двести процентов и тем менее он охотно вступает в бой за отвоевание «не совсем наших», а уж совсем неохотно выходит на битву против вредных чужаков, особенно если в них есть толика таланта.
В результате консервативная система оценок русской литературы непрерывно блуждает между тремя риторическими заглушками леволиберальной гипокритики: «Великий N принадлежит всем, недопустима никакая партийность», «Вы не можете отрицать талант левака Х», «Этот Y – посредственность, вы хвалите его только за то, что он ваших взглядов». Не принадлежа ни к мафии российских литераторов, ни к касте литературоведов, автор этой книги, смею надеяться, выработал в себе нечувствительность ко всем видам этого лицемерия, в чем читатель этой книги сможет сам убедиться.
Эта книга страдает родовым проклятием большинства моих книг. Некоторой случайности и спонтанностью происхождения текстов, написанных по оказии. Поэтому в одних случаях перед вами небольшие юбилейные колонки, в других – публицистические проповеди, в третьих, более-менее тщательно проработанные исследовательские статьи, сопровождаемые научным аппаратом, в четвертых – по сути мемуары или лирические эссе в стиле современных блогов (хотя совсем уж блоговых текстов я в эту книгу не включал).
Место издания тоже накладывало свой отпечаток на выбор выразительных средств и объем высказывания – журнал «Новый мир», газеты «Взгляд» и «Культура», сайт телеканала «Царьград», журнал «Свой», альманах «Тетради по консерватизму», легендарный «Спутник и Погром», сайт «Ум+». Наконец, мои собственные издания – «Русский обозреватель» и сайт «100 книг».
Самое огорчительное в этой книге – то, что, наряду с написанными очерками она невидимо полна ненаписанными – о Тютчеве, Гумилеве, Заболоцком, о Гоголе и позабытом Болеславе Маркевиче, об Иване Шмелеве, о Василии Белове и Дмитрии Балашове. Возможно это основание когда-нибудь опубликовать продолжение. Но задерживать публикацию этой книги из-за того, что она неполна было бы делом нестоящим.
В заключение мне хотелось бы поблагодарить тех, кто помог рождению этой книги. Прежде всего – Андрея Василевского, Игоря Вишневецкого, Артема Серебренникова и Дмитрия Ольшанского, взявших на себя труд прочесть рукопись этой книги и сделать немало существенных замечаний и исправлений. Обязан я поблагодарить тех без чьей инициативы и молитвенной, моральной, организационной, материальной поддержки не могли бы появиться тексты, включенные в эту книгу: Михаила Бударагина, Алексея Зверева, Александра Васильева, Екатерину Злобину, Кирилла Солода, Егора Просвирнина, Екатерину Дмитриеву, Родиона Михайлова, Елену Шаройкину, Аркадия Минакова, Эдуарда Боякова, Любовь Ульянову, протоиерея Владимира Вигилянского и Олесю Николаеву, Владимира Губайловского, Павла Крючкова, протоиерея Виктора (Горбача), Дарью Токареву, Сергея Громова, епископа Троицкого Панкратия, Ивана Демидова, Михаила Смолина, митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина, Александру Кирсанову, Константина Малофеева. Наконец, огромную поддержку оказали многочисленные читатели, а порой и благотворители сайта «100 книг», позволившего мне собрать эти тексты вместе.
Посвящение
Эту книгу автор посвящает памяти Константина Крылова (18.10.1967 – 12.05.2020), своего друга, великого русского национального мыслителя, философа, политика, идеолога, эссеиста и публициста, посвятившего немало своих текстов вдумчивому и безжалостному анализу русской литературы. Замечательного писателя, творившего под псевдонимом Михаил Харитонов, далеко вышедшего за первоначальные границы научной фантастики и оставившего в русской литературе яркий след, который нам ещё только предстоит в полной мере оценить.
Ещё в конце 1990-х годов мы, на долгих прогулках по Москве от Таганки до Арбата, или по Ходынскому полю и району Полежаевской, обсуждали необходимость «разбора полетов» в русской литературе, с тем, чтобы она из ментальной удавки на шее русской нации превратилась в средство её духовного и политического самоусиления.
Были писатели, которых Крылов последовательно ненавидел (и я вполне разделял его взгляд), например Салтыков Щедрин, которому он посвятил убийственое эссе «Сглаз»[2]. Были те, в ком он видел не только литературную, сколько национально политическую и антропологическую величину, как «гроссмейстер» русской политики Александр Солженицын: «Вот кто-то встаёт со своей клетки. Протирает глаза, залепленные «обычной жизнью». Оглядывается по сторонам, оценивая ситуацию. Понимает, что она безнадёжна, вокруг монстры, поле обстреливается и шансов нет. Пытается лечь на место и слиться с поверхностью – но размазаться достаточно тонким слоем уже не получается. И тогда он берёт в руки оружие – пистолет, мобильник, кредитную карточку или просто авторучку. И делает первый ход»[3]. Сам Крылов был таким гроссмейстером русской философии и русской национальной мысли.
Выражаю робкую надежду, что, при всей фрагментарности, а порой – заостренной полемичности к некоторым взглядам и суждениям Крылова, представляемая вниманию читателя книга лежит в русле того замысла, который мы обсуждали два десятилетия назад. С тех пор одному из нас суждено было самому стать частью пантеона великой русской литературы, а другому остается об этом пантеоне размышлять.
Рцы слово твердо
Глаголь добро есть. Собственный язык – основа независимого существования нации. Непонятность нашей речи для чужаков мешает слишком уж просто забыть себя и слиться с ними. Пока живы хотя бы несколько слов родного языка, народ себя еще хранит. Собственная система письменности – основа независимого существования целой цивилизации. Засечной чертой стоят буквы, ограждая духовное пространство от поглощения иными культурами.
Алфавит же – декларация цивилизационного суверенитета. Многовековой секрет устойчивости Поднебесной – в ее тысячах иероглифов, в космосе письмен, практически непостижимом для внешних. Невозможно себе представить, чтобы сломлен был и армянский народ, пока он пользуется буквами, изобретенными Месропом Маштоцем. И напротив, новая идея, новая религия приносит и новые письмена. Сокрушив царство персов, ислам навязал им арабскую письменность, скрепляющую единство устремленного к Мекке культурного пространства.
Именно этот дар алфавита, не пролив и капли людской крови, преподнесли славянским народам братья Константин-Кирилл и Мефодий. Установив на греческой основе оригинальный алфавит, они открыли саму возможность развития самобытной славянской цивилизации – учащейся у Древней Греции и Византии, продолжающей, но и превосходящей их.
Этой независимости не хотели для славян немецкие епископы, гнавшие Константина и мучившие в застенках Мефодия во имя торжества латинской азбуки. Они желали, чтобы славян поглотил находившийся на подъеме романо-германский мир. Ободриты, руяне, лужичане – многие славянские этносы навсегда были стерты из учебников. Полякам и чехам с превеликим трудом, в конечном счете, не без помощи русских удалось отстоять независимость. И то, полякам борьба эта, пожалуй, стоила славянской души…
Бережно приняв дар солунских братьев, русский народ хранил его тысячелетие и создал на этой основе великое государство, великую культуру, а главное – язык и литературу, равных которым в истории человечества сыщется не так уж и много.
«Аз, буки, веди», – лепетал мальчишка, учимый читать строгим дьячком по старинному «Часослову». И в этом лепете заключены были «Слово о полку Игореве» и «Сказание о Мамаевом побоище», Аввакум и Ломоносов, Пушкин и Достоевский. Никто не осмелится даже спорить, что сей великий язык дан великому народу.
Иностранцу, выросшему на строгих и суховатых литерах латинского алфавита, изживших даже средневековую вычурность готических шрифтов, русские буквы кажутся причудливыми, порой несуразными и раздражающими. Сколько раз я слышал и нытье наших «патриотов заграницы», что русскому шрифту невозможно придать латинское изящество и простоту. Сколько раз они тонко намекали, что след бы и нам «латинизироваться», вырубив разделяющий нас с Европой «Герцинский лес» кириллицы.
Но упрямая неуступчивость букв, начертанных святой рукой, служила оградой древу нашего языка даже в эпоху петровских реформ, когда он был буквально полонен заимствованиями: «виктория», «фортеция» «баталия», «першпектива». Но начертание «чужебесных» (как выражался славянский просветитель Юрий Крижанич) слов требовало перекодировки.
И вот уже язык, между буквенными жерновами, как бы сам собой перетирал чужие слова. Не «першпектива», а Невский проспект. Не «баталия», а Полтавская битва. Не «фортеция», а Брестская крепость. Не «виктория», а Победа.
Грустно наблюдать сегодня, как кириллические славянские языки один за другим капитулируют под натиском латиницы. В Черногории, Болгарии и Сербии все больше латинских надписей и вывесок. Поддаваясь магии прибыли, славянские языки «евроинтегрируются», хороня будущее ради надежды на еврокомфорт. А там уже недалеко и до иудиного греха, отступничества и от Православия, и от дружбы с Россией, поразившего власти страны Монтенегро.
Отказ от кириллицы – признак цивилизационной неустойчивости, потери самих себя, комплекса неполноценности перед западными небратьями. Но в центре кириллического мира несокрушимо возвышается Россия. И тем яснее, что провидение призвало солунских братьев создать алфавит именно для нашей цивилизации, заложив фундамент ее величия.
В то время как кто-то «латинизируется», я бы рекомендовал нам прочнее утверждать русский язык на древней церковнославянской основе. Именно «славянизировав» с невероятным остроумием и тактом наш язык, Пушкин создал саму возможность уникальной русской литературы. И нам следует пойти по тому же пути в литературном образовании (особенно школьном), лексиконе и даже в алфавите. Не то что вернуться к старой орфографии, но возвратить, быть может, иные из исторических букв: фиту, ижицу, омегу, увеличив тем самым лица необщее выраженье русской азбуки.
Русский язык! Настоящий пушкинский русский, который наши дети усваивают с младенчества, когда им читаешь «там лес и дол видений полны, там о заре прихлынут волны», – это тайна для иностранца, наш национальный секрет. Нет и не может быть никаких отступлений и уклонений от кириллицы, никаких компромиссов. Мы молимся Богу, а не «Воgu». Эта неуступчивость подсказана русским самим нашим древним алфавитом. Разве не сказано в нем: «Рцы слово твердо»?
Кириллица – самый ненавидимый и гонимый алфавит на свете.
Так было при его рождении, когда св. Константина-Кирилла травили сторонники «трехъязычной ереси», согласно которой христианское богослужение может вестись только на языках, на которых была начертана табличка на кресте Христовом: иврите, греческом и латыни.
Так было, когда его брата святителя Мефодия немцы бросили в заключение в монастыре Райхенау, а папство запретило славянскую литургию.
Но так обстоит дело и сегодня.
Демонстративный отказ от кириллицы становится символом стремления к «евроинтеграции» и «общечеловеческим ценностям», а потому ханы и курултаи всего незалежного пространства вот уже четверть века задрав штаны декириллизируются, не считаясь ни с какими последствиями, включая искусственную неграмотность своих народов.
Положение кириллицы на острие атаки во многом уникально.
От успешно вписавшихся в Запад японских самураев и не менее успешно влившихся в капиталистический рынок китайских коммунистов никто не требует отказаться от иероглифов или слогового письма.
Израиль пользуется до наглядности азиатским алфавитом, который вместе с его древним языком пережил в прошлом столетии новый расцвет.
В ту пору, когда цветут армянские и грузинские революционные розы, никому не приходит в голову заявлять, что ради вящей евроинтеграции этим народам нужно бы поскорее отказаться от своих алфавитов.
И только русские и пространство Русского мира, а также сохранившие кириллицу народы находятся под воздействием беспрецедентной по интенсивности антикириллической кампанейщины.
Любой разговор о кириллице обязательно начинается с пафосного надутого уточнения, что никакая она не кириллица.
Мол, св. Константин изобрел вычурную глаголицу, которая долго не продержалась и была вытеснена (а некоторые настаивают даже, что силовым путем, о чем свидетельствуют палимпсесты – рукописи, где были стерты глаголические надписи и поверх нанесены кириллические) составленным св. Климентом Охридским алфавитом, который мы и называем кириллицей.
Гипотеза о первичности глаголицы была выдвинута словацким ученым Шафариком еще в середине XIX века, и под нею было столько же научных, сколь и политико-религиозных оснований.
Святой Кирилл к тому моменту уже рассматривался как символ славянского единства и самобытности. И если бы он изобрел кириллицу, письменность православных народов, то получалось бы, что православие – это настоящее славянское христианство, что ни лично Шафарику, сыну евангелического пастора, ни западным панславистам, относившимся с подозрением к православной России, не могло нравиться.
Нейтральная, никого не касающаяся, не используемая уже глаголица (к тому же иногда начертательно совпадающая с латиницей) подходила на роль примиряющего западных, восточных и южных славян, православных, католиков и протестантов «аутентичного кириллова алфавита» куда лучше. А дальше высказанная авторитетом гипотеза перешла в стадию самоподдержки.
Однако тезис «глаголица – кириллова азбука» встречается с неразрешимыми противоречиями. Миссия солунских братьев состояла в укреплении византийского влияния у славянских народов, среди которых уже использовалось письмо с помощью греческих букв.
Зачем св. Константину было «изобретать» вычурное непонятное письмо с латинскими элементами вместо понятного и ближе стоящего к греческому? Как ученики почитаемого сразу после смерти как святого Константина-Кирилла осмелились бы, во-первых, уничтожить большую часть книг с изобретенным им письмом, а во-вторых, приписать ему азбуку, которой он не создавал?
Все это настолько противоречит известным нам фактам о миссии святых Кирилла и Мефодия, что гипотезу «глаголица – это кириллово письмо» можно считать невероятной.
В её случае речь идет либо о докирилловском славянском письме, развивавшемся в Хорватии и Моравии, либо как раз о локальной переработке кириллицы, появившейся в результате гонений на нее немецких «трехъязычников».
Напротив, есть все основания полагать, что св. Константин-Кирилл изобрел для славянского языка именно ту азбуку на основе греческого алфавита, которую мы и называем «кириллицей», и с ее же помощью сделал первые переводы из Священного Писания и православного богослужения.
То, что дело обстояло именно так, подтверждают и археологические данные.
Св. Климент Охридский, ученик солунских братьев, которому глаголическая теория приписывает изобретение кириллицы, скончался в 916 году. К моменту его смерти распространение кириллицы было уже повсеместным.
В русском Гнездово, под Смоленском, в могильнике при крупном торгово-транзитном центре найдена древнейшая кириллическая надпись на территории России, выцарапанная на глиняном сосуде. Найденные в том же захоронении дирхемы датируются самое позднее 908 годом, то есть, с учетом скорости монетного оборота в тогдашней Восточной Европе, захоронение произошло в ближайшие к этой дате годы.
На амфоре четко выцарапаны несколько букв: «ГОРОУNА». Все эти буквы однозначно кириллические, со специфичным именно для ориентированного на греческий алфавит написанием, выдающем себя, в частности, в начертании буквы «а».
Некоторые споры идут только вокруг знака N (старокириллическое написание буквы «наш» – строго горизонтальная черта появилась в ней не сразу), некоторые видят в загогулине наверху букву «ш», и тогда надпись бы читалась как «горушна» (что толкуется как «горчица») или «горунша», другие видят в ней обычный охранный знак. Наиболее вероятно, перед нами подпись на горшке: «Горуна». То есть этот сосуд принадлежал обладателю славянского имени Горун (распространенного в Болгарии).
Но все это детали. Написано ли там «Гороуnа» или что-то еще, важен сам факт – за десять лет до смерти мнимого «изобретателя» кириллицы св. Климента это письмо уже использовалось для тривиальных подписей на горшках, что означало как грамотность владельца, так и наличие вокруг – и в Болгарии, и в Гнездово – достаточного количества тех, кто может эти надписи прочесть.
Разумеется, такая скорость распространения этого письма в эпоху крайне малоинтенсивных информационных обменов, когда не было ни интернета, ни книгопечатания, причем распространения не в церковной и придворной среде, не в высокой книжности Болгарского царства, а в повседневном купеческом обороте, говорит о том, что к моменту смерти Горуна кириллица была не нововведением еще здравствующего св. Климента, а уже более полувека повсеместно распространяемым наследием св. Кирилла.
Итак, около 910 года кириллические буквы добрались на горшке уже до северных окраин славянского мира.
С тех пор они там и поселились, ими начертаны уже не бирочки от товаров, а важнейшие произведения мировой литературы, включая ее величайшие романы. Русский стал одним из универсальных языков мировой культуры, причем сделал он это не «вопреки» кириллице, а благодаря ей. Ни один из соседних латинографических славянских языков даже близко не достиг такой культурной интенсивности. При всем уважении, Сенкевич – не Толстой, Гашек – не Достоевский, и даже Кафка написал по-чешски всего несколько писем.
Кириллица оказалась для русского языка своего рода засечной чертой.
Она требовала того, чтобы мы вытесняли иноземцев не «автохтонными» славянскими словами, каковых в латинизированных славянских языках порой и поболе будет, а лексиконом высокой древнерусской литературы, церковнославянизмами, то есть наследием Кирилла, Мефодия и их продолжателей как переводчиков и творцов православной славянской культуры.
При этом и полезные нашему языку заимствования мы можем себе позволить не отвергать именно благодаря кириллической перекодировке. Будучи записаны кириллицей, они тем самым уже наполовину русифицируются, перестают торчать иноязычными вкраплениями, как, к примеру, бесчисленные латинизмы в польском.
Наша кириллическая азбука – это декларация нашей цивилизационной независимости, тот волшебный барьер, который ограждает святыню русской речи от растворения в глобальном «пиджин-инглише».
И именно поэтому кириллицу столь отчаянно ненавидят – в том числе и в России, в том числе и вроде бы русские люди, которые, однако, свято уверены в том, что у «белых западных богов» все устроено лучше.
Сколько тонн яда и чернил излито на трактаты об «уродливой корявой кириллице» и о том, как славно было бы заменить ее латиницей.
Один раз, впрочем, в эпоху, когда бесы разгулялись по Русской земле особенно вволю, почти попытались.
В ноябре 1929 года большевистский Наркомпрос создал специальную комиссию по латинизации русского языка. Задача была прописана четко – дерусификация, деклерикализация, разрыв с алфавитом, который «является алфавитом самодержавного гнета, миссионерской пропаганды, великорусского национал-шовинизма… алфавитом национал-буржуазной велико русской идеологии». Комиссия решила «признать… что переход в ближайшее время русских на единый интернациональный алфавит неизбежен».
«Только латинский алфавит соответствует задачам истинного интернационализма» (то есть дерусификации), сообщал в 1932 году в книге «Латинизация – орудие ленинской национальной политики» некий Хансуваров.
Впрочем, в 1933 году, обнаружив приход в Германии к власти бешенных национал-реваншистов, советские вожди задумались: а что если пролетарии, не имеющие отечества, не захотят защищать и свое большевистское начальство? Начался пусть ограниченный, но разворот в сторону «советского патриотизма» от интернационалистического космополитизма.
Латинизаторские проекты прикрыли. Вместе с ними прикрыли и движение эсперантистов, адептов «универсального языка» на латинской основе, которые на вопрос «Кто ты?» гордо отвечали «satan», то есть член SAT – Всемирного Безнационального Союза.
Политбюро приняло решение кириллизировать даже те языки нацреспублик, которые были до этого в рамках ленинской национальной политики столь же принудительно латинизированы.
И вот сегодня Казахстан возвращается как якобы к своему «наследию» к кривляниям и ужимкам советской латинизации, с 1929 по 1940 год действовавшей в автономной, а с 1936 года – союзной (расчленять Россию на части советские вожди не забывали, даже играя в патриотов) республике.
Трудно даже представить, какой уровень функциональной неграмотности и какая степень культурного дефолта ждет новое поколение казахов. Большая часть литературы художественной и научной, созданной на казахском языке за эти годы, будет полностью упразднена. Игра слов в названии романа классика казахской литературы (еще живого и протестующего против латинизации) Олжаса Сулейменова «Аз и Я» будет непонятна его соплеменникам, поскольку ни об «Аз», ни об «Я» они уже ничего знать не будут. Приведет это к еще большему понижению статуса казахского – к чему он будет вообще, и не проще ли будет сразу же перейти на английский, надеясь на то, что возьмут в «Асашай».
Впрочем, что нам до Казахстана (ну, кроме судьбы живущих там миллионов русских, которые тоже окажутся в ситуации языкового прессинга), если на нашей суверенной территории, в Татарстане, нет-нет да возобновится ползучая латинизация, несмотря на многократные запреты, наложенные федеральным центром, включая Конституционный суд.
И всюду одно и то же: кириллица мешает слиться с «цивилизованным миром».
Латинизация, в представлении её сторонников, не сохраняет национальные языки, а, наоборот, стирает их в правильном направлении – английском, в то время как кириллица стирала в «неправильном» – русском.
Вопрос о кириллице оказывается, таким образом, не вопросом об алфавите и экономии бумаги. В целях экономии лучше не ограничиваться алфавитом, а сразу начинать борьбу с флексивной природой русского языка – вспомните шутку про десятки русских слов, переводимых на английский как run.
Это и не вопрос об эстетике букв. Эстетика вообще вещь зачастую субъективная – я знаю мало более прекрасных букв, чем ненавидимая декириллизаторами «Ф». И если говорить о красоте, то нужно вести речь о том, чтобы наш гражданский шрифт вернулся от послепетровской и большевистской огрубелости к своим изысканным славянским корням, чтобы в него вернулись ижицы и юсы. Чтобы наши дети могли читать древнерусские и славянские тексты свободно, без переучивания.
Вопрос о кириллице – это вопрос о существовании или несуществовании Русского мира, русской цивилизации. Русский мир – это пространство, на котором главенствует кириллица, необоримой стеной противостоящая любому другому господству, любой другой цивилизации, облекающей свои глобалистские притязания и в форму экспансии алфавита.
Но мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово.
Древнерусская матрица
Школа – это фабрика нации. Первая задача школы, вопреки уверениям современных «квалифицированных потребителей» и «продавцов образовательных услуг», – это формирование сознательного гражданина, патриота, да и просто хорошего и воспитанного человека.
Этого нациеконструирующего, оформляющего гражданина компонента русской школе сегодня очень не хватает. Причем именно русской.
Националисты других этносов чрезвычайно успешно используют систему образования РФ для навязывания местных языков даже русскому населению «нацреспублик», для поставки в школу совершенно фантастических учебных пособий о Золотой Орде как предшественнице Российской Федерации и с прозрачными намеками на тяжесть «русского колониального гнета».
Если мы хотим сохранить единую страну, нам нужно ясно выраженное преобладание в школьной программе русского языка, русской литературы, русской истории, основ православной культуры как образующего общегражданское патриотическое сознание стержня.
Существует известная шутка о том, что дети во французской тропической Африке якобы учили историю по учебнику, начинавшемуся с фразы «Наши предки галлы были светловолосыми и голубоглазыми». Это, конечно, было не совсем так, но это отличный пример того, как должно строиться массовое образование в единой стране. Всегда существует одна-единственная историческая линия, и школьник на уроке должен отождествлять себя с нею.
Школьник в Татарстане должен плакать над разорением Рязани Батыем и болеть за Евпатия Коловрата. У школьника в Тюмени не должно быть никакого сомнения в том, что памятник Ермаку не просто должен быть, но должен быть одним из самых главных мест в городе. Школьник на Кавказе должен как минимум уважать Ермолова и считать принятие Шамилем российского подданства мудрым, хотя и немного запоздавшим шагом.
Однако для того, чтобы это стало возможным, необходимо, чтобы само понятие русского избавилось от той плоскодонности, которая сейчас неявно присутствует в нашей культуре. Русское у нас начинается в лучшем случае с Петра I и Ломоносова, а в худшем – с войны 1812 года и Пушкина, с тем чтобы уже через век превратиться в «советское». История Древней Руси и особенно древнерусская литература не представляются нашей «фабрике гражданина» как нечто собственное и определяющее.
А от этой плоскодонности совсем недалеко уже до полного манкуртства, когда из школьной программы на полном серьезе предлагают исключить Толстого с Достоевским как «слишком сложных» авторов. Нашей школьной программе, конечно, нужно не упрощение, а усложнение, в том числе и на древнерусском направлении.
Однако сегодня дорога молодого ума на этом направлении перекрывается всевозможными кривляниями и изгаляниями.
Когда говоришь «древнерусский язык», то какой-нибудь умник непременно выкаблучится: «Ох ты гой еси добрый молодец… Почему гой, а не гей?» Не говоря уж о значении слова «гоити» – «живить» – перед нами, строго говоря, не древнерусский язык, а язык русских былин (записанных в XIX веке на северорусском диалекте) и русской литературы XIX века – Лермонтова, А.К. Толстого.
Другой обязательно порадует тебя бормотанием «Паки и паки иже херувимы», хотя это церковнославянский – тоже полезный и нужный для изучения язык, который, кстати, более сопоставим с латынью. Между древнерусским и церковнославянским есть определенные различия, особенно в фонетике. Причем иногда современный русский язык заимствовал через язык богослужения именно славянские, а не древнерусские формы.
Нам в школе обязательно нужен хотя бы небольшой курс древнерусского языка. Можно в качестве составной части уроков русского языка, но лучше отдельной дисциплиной. Объясню, почему целью курса древнерусского языка должно быть не просто осведомление учащихся о ранних стадиях истории языка современного, а подготовка к самостоятельному чтению древнерусских текстов.
В начале курса школьник должен освоиться с чтением прозрачных по своему языку памятников XVII века, таких как «Повесть об Азовском сидении» или «Житие протопопа Аввакума». К концу курса школьник должен уметь самостоятельно разбираться в самых сложных и необычных по языку памятниках, таких как «Слово о полку Игореве».
Другими словами, древнерусский язык должен быть полновесным введением в древнюю русскую литературу, которой в нашей школе должен быть отведен как минимум полноценный год изучения, а лучше больше.
Где взять на это время? Если вместо бессмысленных предложений по обрезанию Достоевского и Толстого убрать из курса литературы произведения, имеющие значение только в рамках истории революционного антиправительственного движения российской интеллигенции в XIX–XX веках, то времени как раз хватит на полноценное изучение древнерусской литературы.
При этом совершенно не обязательно становиться заложниками слепого хронологического порядка, при котором литература ХХ века (зачастую очень примитивная) оказывается «чтением для взрослых». Вполне можно давать древнюю литературу в старших, 10-11-х, классах, включив её и в экзамены, и в темы школьных сочинений. Чем темы «Тоска по Родине и любопытство к неизведанному у Афанасия Никитина», «Спор о власти и справедливости в переписке Ивана Грозного с Курбским», «Тема осады в «Сказании» Аврамия Палицына и «Повести об Азовском сидении» хуже тем обычных школьных сочинений – я не понимаю.
Какие могут быть возражения против древнерусского языка и литературы в школе?
Первое и самое бессмысленное: «Кому это вообще нужно и чем полезно, то ли дело учить интегралы». Как человек, которому ни разу не приходилось брать во взрослой жизни интеграл, но который регулярно страдает из-за собственного недостаточного знания древнерусского языка, который мне приходится постоянно совершенствовать, но и то – свободно читая на древнерусском, я не смогу на нем ничего написать, я имею много что сказать на тему «полезности».
Но главную полезность я уже сформулировал: деманкуртизация нашего общества, формирование со школьной скамьи понимания, что Россия существует тысячелетия, и ее гражданин может и должен отождествлять себя с нею на протяжении всей истории. Изучение Древней Руси дает надежную прочную основу нашей национальной идентичности.
Следующий вопрос более основателен: «Где мы найдем учителей, останется ли у школьников что-то в головах после таких уроков, получится же полная профанация, у нас ведь и по обычной литературе программу не читают».
В самом деле, специалистов по древнерусскому языку и литературе у нас мало. Хотя по идее каждый выпускник филфака в университете или педвузе по курсу русской словесности обязан отлично знать эту литературу, выучить древнерусский язык и быть способным их преподавать. Это написано у них в дипломе, и то, что на практике это чаще всего не так, – проблема коллапса нашего вузовского образования.
Подготовить учебники, пособия и хрестоматии – дело ударной работы имеющихся специалистов в течение одного года. А дальше я не вижу ничего дурного, если учитель будет изучать увлекательный родной древний язык одновременно со школьниками. Такой метод может оказаться даже более увлекательным, нежели обычное преподавание «свысока».
Что при этом останется у школьника в голове? Право же, ничуть не меньше, чем у тех, кто помнит, что «Ландан из ве кэпитал оф ве Совьет Юньон» и что квадратный корень из зиготы равняется C2H5OH, а царь Иван прозван был за свою жестокость Васильевичем.
Для подавляющего большинства школяров полученные знания сливаются в единый компот. Важно лишь то, чтобы в компоте плавали зародыши будущих специализированных интересов, которые разовьются в дальнейшем. Сейчас «древнерусского» зародыша в нашем компоте практически нет, а он должен появиться.
Интерес к неоархаике является одной из культурных доминант в мире вот уже полстолетия. Ведущим жанром литературы и кино стало фэнтези, отчетливо ориентированное именно на средневековый стиль. Огромно число поклонников фолк-музыки. Очевидно, что для современного мира определение своей культурной идентичности через такую архаику заключает в себе нечто важное.
И на этом фоне существенное отставание нашей культуры, утопающей в русофобских помоях, вынуждающих своим запахом обычных рязанских ребят переквалифицироваться в эльфов и вестероссцев, не может не тревожить.
Общемировая культурная тенденция без адекватной поддержки на собственной почве приводит к еще большему культурному отчуждению от России именно на том поле, где, казалось бы, сам Бог велел найти свою Родину.
Не забудем, что «в кипящих котлах прежних боен и смут столько пищи для маленьких наших мозгов». Детскому мозгу, чтобы он осознал древность своего народа как нечто близкое, нужна пища, причем не только пережеванная пища сериала, но и твердая пища подлинника.
Было бы огромным нашим успехом, если бы школьники в шутку переписывались на уроках на языке берестяных грамот, а древнерусские слова перекочевали бы в молодежный сленг, на что они просто напрашиваются.
Вспоминаю, как в 10-м классе нашел на полке в кабинете литературы том «XIV век» «Памятников литературы Древней Руси» и как выпросил у учительницы разрешение взять его домой. С каким увлечением я читал житие преподобного Сергия, сказание о Довмонте, куликовские повести, послание новгородского владыки тверскому о Рае, найденном новгородцами на Севере, с каким увлечением вникал в язык берестяных грамот.
Эта книга в значительной степени предопределила моё мировоззрение и направление дальнейших занятий. Только один том. Попадись мне тогда три или четыре, насколько больше это изменило бы мою жизнь. Взрослый мозг до конца несет на себе матрицу, отпечатавшуюся на нем в старшей школе, в период «интеллектуального пубертата».
И, конечно, лучше всего, чтобы это была древнерусская матрица.
1. Повесть временных лет
Начальная русская летопись, составленная в конце XI века на основании устных преданий и переработки информации о русских из византийских хроник. Содержит все базовые элементы русского исторического мифа, систему исторических персонажей – основателей русской культуры и государственности. В повествовании о детях и внуках Ярослава Мудрого приобретает характер добротной исторической хроники. «Повесть» традиционно связывается с именем летописца преподобного Нестора (его руке принадлежит также блистательное «Житие Феодосия Печерского»), однако, каковы были использованные им предшествующие летописи и сколько редакций выдержал текст впоследствии – о том между учеными идут и по сей день жаркие споры. ПВЛ не существует в качестве самостоятельной рукописи, входя с непринципиальными разночтениями в качестве начального раздела в большинство общерусских летописей.
2. Поучение Владимира Мономаха
Название цикла произведений великого государственного деятеля и полководца Древней Руси, выдающегося писателя Владимира Мономаха. «Поучение» представляет собой нравственное наставление сыновьям в соблюдении христианских заповедей в качестве правителя и человека, начинаясь с лирического отрывка, описывающего конфликт с братьями, в котором Мономах восстает за правду. Второе произведение, носящее автобиографический характер – «Пути», исключительно оригинально по жанру. Это перечисление с мемуарными заметками поездок по Руси и за её пределы, совершенных князем. В отличие от церковного «Поучения», «Пути» носят более светский характер, прославляя жизнь воина и охотника. «Письмо Олегу Святославичу» написано после гибели сына Мономаха Изяслава в битве с Олегом. Мономах оплакивает сына и свою судьбу и, в то же время, ищет христианского примирения вражды с двоюродным братом.
3. Киево-Печерский патерик
Яркое перенесение на русскую почву восточнохристианской традиции патериков – поучительных и занимательных, порой – анекдотичных рассказов об обитателях того или иного монастыря. Основанная близь стольного Киева Антонием и Феодосием пещерная обитель становится средоточием бурных общественных и политических событий, в ней и вокруг неё не только творится молитва, подвиги и благие дела, но и кипят зависть, интриги, бушуют бесы и нападают разбойники. В определенном смысле патерик был аналогом современного сериала, но только центральным элементом этого сериала является не романтическая линия, а битва православных подвижников за спасение своей души. Но битва эта не уныла и однообразна, а напротив – полна самых драматических перипетий.
4. Слово о Полку Игореве
Шедевр древнерусской поэзии, обладающий столь исключительными литературными достоинствами и своеобразием, что постоянно предпринимаются попытки объявить его подделкой (сочинение которой в конце XVIII века было бы, впрочем, явлением еще более гениальным и совершенно невозможным по состоянию тогдашней лингвистики). Произведение соответствует канонам древнерусской устной поэзии, с чем и связана его изолированность в письменной традиции, а с другой примыкает к общеевропейскому жанру «шансон де жест». «Слово» полно исключительно емких символов, его поэтический язык вычурен и порой загадочен. Вместе с тем, оно дает исключительной силы эпические образы: затмение и битва, бегство Игоря и, в особенности, плач Ярославны. Значителен и публицистический пафос Слова как призыва к единству князей в борьбе со степняками. Важно осознавать, что созданное в эпоху, считаемую пиком так называемой «удельной раздробленности» Руси, «Слово» рисует Русь в «Золотом слове» Святослава как единство, как совокупное живое «гротескное тело» раскинувшееся от Владимира Волынского до Владимира Суздальского.
5. Слово о погибели Русской Земли
Небольшое, но исключительно емкое стихотворение в прозе, дающее возвышенную интегральную характеристику Древней Руси эпохи перед монгольским нашествием. Поэтическая формула Русской Земли. Это произведение скорее всего было введением к не дошедшему до нас описанию катастрофических последствий Батыева нашествия и сохранилось в рукописях жития Александра Невского. Русь здесь характеризуется как прекраснейший эстетический природный феномен, в котором грады и бояре составляют такую же часть природного окружения, как и озера и виноградники.
«О, свѣтло свѣтлая и украсно украшена, земля Руськая! И многыми красотами удивлена еси: озеры многыми удивлена еси, рѣками и кладязьми мѣсточестьными, горами, крутыми холми, высокыми дубравоми, чистыми польми, дивными звѣрьми, различными птицами, бещислеными городы великыми, селы дивными, винограды обителными, домы церковьными и князьми грозными, бояры честными, вельможами многами. Всего еси испольнена земля Руская, о прававѣрьная вѣра хрестияньская!».
Наряду с этим, продолжающим представление о стране как о «гротескном теле», природно-эстетическим восприятием Руси, столь характерным для русского самосознания, обращает на себя внимание и представление о границах страны, совпадающих с державой Владимира и Ярослава.
В школе это небольшое стихотворение в прозе должно, конечно, обязательно учиться наизусть.
6. Повесть о разорении Рязани Батыем
Рязанский эпос о монгольском нашествии, осаде и гибели Рязани. Самое эмоциональное и поэтичное описание похода Батыя в древней русской литературе. В то время как в большинстве летописей поход монголов описывается как гнев Божий и явление непреодолимой силы, рязанская Повесть дает картину сопротивления с ярко очерченными сильными характерами: князь Федор, отказывающийся отдать свою жену хану, княгиня Евпраксия, бросающаяся с младенцем-сыном со стены, Евпатий Коловрат, ставший символом сопротивления русских монголам. На этом основании «Повесть» часто пытались отнести к поздним и исторически малодостоверным произведениям, но целый ряд деталей и характеристик указывают на её достаточно ранее (не позже первой трети XIV века) происхождение. Перед нами не историческая хроника, но и не сочиненный задним числом роман, а идеальная икона сопротивления русских захватчикам.
7. Житие преп. Сергия Радонежского
Созданное Епифанием Премудрым и обработанное Пахомием Логофетом житие самого почитаемого в средневековой Руси святого – игумена Радонежского Сергия. Сергий был родоначальником масштабного движения общежительных монастырей, охватившего Русь в XIV–XVI веке и приведшего к появлению русских обителей даже за полярным кругом. Деятельность Сергия и его продолжателей строилась на сочетании молитвы, послушания и неустанного труда, что превратило эти монастыри в идеальных проводников хозяйственной колонизации русского Севера. «Житие» подробно раскрывает механизм формирования и развития первого и самого знаменитого из монастырей этого движения – Троице-Сергиевой Лавры. Рисуется фигура самого преподобного Сергия – игумена Земли Русской, подвижника, организатора и политического деятеля, сыгравшего решающую роль в становлении гегемонии Московского государства. В Житии очень ярко охарактеризована жизнь и психология людей эпохи начавшегося возрождения Руси.
8. Сказание о Мамаевом побоище
Выдающийся памятник русской эпической историографии. Самое подробное и информативное из произведений Куликовского цикла, созданное в первой четверти XV века. От летописных повестей «Сказание» отличается тем, что путем сдвига и рекомбинации фактов старается создать выпуклый смысловой образ Куликовской битвы. В то же время, в отличие от поэтической «Задонщины» Сказание сообщает массу ценнейших и уникальных фактов, которые очевидно не являются домыслом, а основаны на доступной составителю информации. Именно со Сказанием связано наше каноническое представление о Куликовской битве: благословение преп. Сергия Радонежского, поединок Пересвета с вражеским богатырем, обмен одеждой князя Дмитрия и боярина Бренка, выжидание и удар засадного полка во главе с Владимиром Серпуховским и боярином Боброком. Автору сказания как историографу доступно было большее число сведений, чем хроникеру-летописцу или поэту. Хотя обращался он, в соответствии с эпическими традициями историографии несколько вольно. Например, заменив малоизвестного читателям литовского князя Ягайло на упорного врага Москвы Ольгерда.
9. Хождение за три моря Афанасия Никитина
Самый оригинальный памятник русской литературы хождений. Вместо классического паломничества по святым местам перед нами повесть о неудачливом тверском купце, чье плавание с мехами в Дербент было прервано татарскими разбоями на Волге. В попытках окупить свою авантюру Афанасий забирается в Персию, а затем в Индию, исследует тамошнюю торговлю, нравы и обычаи, близко сходится с индусами, отвергает настойчивые предложения мусульман сменить веру. Лейтмотивом «Хождения» является тоска по родине и православной вере, которую так трудно хранить на чужбине.
Вопреки мифу о «евразийском братстве» России и Азии, знакомство с «реальным» Востоком порождало у русского человека скорее недоумение и неприятие. Здесь достаточно сравнить восторженные записки Марко Поло, ставшие источником вдохновения всего перевернувшего мировую историю предприятия по поиску Индии, и весьма скептичный тон Афанасия Никитина в его «Хождении за три моря».
«Да все товар ихъ гундустанской, да сьестное все овощь, а на Рускую землю товару нѣт. А все черные люди, а все злодѣи, а жонки все бляди, да вѣди, да тати, да ложь, да зелие, осподарев морят зелиемъ».
Повесть Афанасия – это исповедь о страданиях православного русского человека, оказавшегося в плену Востока и через то фактически «лишившегося христианства», то есть традиционного православного устава жизни с его обеднями и постами. Вместо этого он погружается в непривычную среду, в которой, впрочем, возможны своеобразные цивилизационные коалиции «против общего врага».
«Познася со многыми индеяны. И сказах имъ веру свою, что есми не бесерменинъ исаядениени семь християнинъ, а имя ми Офонасей, а бесерменьское имя хозя Исуфъ Хоросани. И они же не учали ся от меня крыти ни о чемъ, ни о естве, ни о торговле, ни о маназу, ни о иных вещех, ни жонъ своих не учали крыти».
Отправившись на Восток Афанасий не без некоторого удивления открывает в себе… белого человека.
«Яз куды хожу, ино за мною людей много, да дивуются бѣлому человѣку… А любят гостей людей бѣлых, занже их люди черны велми. А у которые жены от гостя зачнется дитя, и мужи дают алафу; а родится дитя бѣло, ино гостю пошлины 300 тенекъ, а черное родится, ино ему нѣт ничего, что пилъ да ѣлъ, то ему халялъ».
Евразийская пропаганда постаралась объявить Афанасия… мусульманином. Хотя весь его текст проникнут неприязнью к исламу, входит в доверие к индусам он именно потому, что христианин, а «ходжа Юсуф Хорасани» – его торговый псевдоним, не более того. Мало того, Афанасий описывает несколько случаев прямых предложений от правителей сменить веру и описывает свой отказ. Весь текст «Хождения» полон тоски по русской вере на родной земле.
«О благовѣрнии рустии кристьяне! Иже кто по многим землям много плавает, во многия беды впадают и вѣры ся да лишают крестьяньские. Аз же, рабище Божий Афонасий, сжалихся по вѣре крестьянской. Уже проидоша 4 Великая говѣйна и 4 проидоша Великыя дни, аз же грѣшный не вѣдаю, что есть Велик день или говѣйно, ни Рожества Христова не знаю, ни иных праздников не вѣдаю, ни среды, ни пятницы не вѣдаю – а книг у меня нѣту. Коли мя пограбили, ини книги взяли у меня. Азъ же от многия беды поидох до Индѣя, занже ми на Русь поити нѣ с чем, не осталось у меня товару ничего. Первый же Велик день взял есми в Каинѣ, а другый Велик день въ Чебокару в Маздраньской землѣ, третей Велик день в Гурмызе, четвертый Велик день взял есми в Ындѣе з бесермены в Бедерѣ; ту же много плаках по вѣре кристьяньской».
Оригинальную черту представляют собой вставки на тюркском и персидском языках, в которых прославляется красота Русской Земли.
«А Русь еръ тангрыд сакласын; олло сакла, худо сакла! Бу даниада муну кибить ерь ектуръ; нечикь Урус ери бегляри акой тугиль: Урусь ерь абоданъ болсынъ; растъ кам даретъ. Олло, худо, Богъ, данъиры».
«А Русь Бог да сохранит! Боже, сохрани её! Господи, храни её! На этом свете нет страны, подобной ей, хотя властители Русской Земли несправедливы. Да устроится Русская Земля и да будет в ней справедливость! Боже, Боже, Боже, Боже!».
10. Переписка Ивана Грозного с Курбским
Оригинальное литературное состязание царя и беглого князя, каждый из которых был крупнейшим русским писателем, публицистом и «гуманистом» (в значении XVI века) своей эпохи. Переписка подводит итог блестящей традиции русской публицистики – Иосиф Волоцкий, Филофей, Вассиан Патрикеев, Иван Пересветов, Максим Грек. Только в этой интенсивной атмосфере письменных споров могла возникнуть и осуществиться такая неожиданная форма как публичное прение царя и беглого боярина, не имеющая даже приблизительных аналогов в мировой литературе. Курбский обличает царя в тирании и нарушении божественных заповедей, в пытках и казнях. Иван отвечает провозглашением самодержавной доктрины – следует покоряться даже дурным государям, что причудливо перемежается у него с сентиментальными личными жалобами и упреками. Оба писателя прославились и помимо своего конфликта – царь Иван своими посланиями и религиозной поэзией, Курбский своей переводческой деятельностью, защитой православия в Польше и «Историей о великом князе Московском» в которой сумел «победить» Ивана историографическим обходом – именно воззрения Курбского стали для историков на несколько столетий каноническим описанием личности и деятельности Ивана IV.
11. Житие Юлиании Лазаревской
В советском атеистическом литературоведении часто фигурирует как «Повесть об Ульянии Осорьиной» – редкий не только для русской, но и для всей православной литературы пример жития святого мирянина. Перед нами биография матери, почитаемой нижегородцами как святой, написанная её сыном Дружиной. Это рассказ о том, как Ульяна из жизни благочестивой и послушной жены помещика переходит на путь аскетического подвига: молитвы, бдений, отдачи всех сил на служение бедным и голодным. Апофеоз подвига Ульяны – голод начала правления Бориса Годунова, когда она отдает нуждающимся всё до последнего, расходует на бедных всё имущество, а затем, распустив дворню искать пропитание, сама вместе с остальными погружается в пучину голода, печет хлеб из лебеды и коры, становящийся сладким благодаря её молитве. Она умирает уже на излете голода, будучи в конце страшных лет веселее, чем в начале. Перед нами картина осуществления аскетического православного идеала в частной жизни русского человека на фоне общенародной трагедии – голода и картина торжества подвижнического духа над этой трагедией. Это икона русского женского характера и русского православного характера, осуществленных через личный жизненный подвиг.