Ген. Очень личная история бесплатное чтение
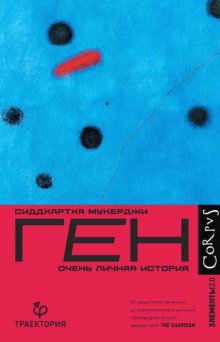
Издание подготовлено в партнерстве с Фондом некоммерческих инициатив «Траектория» (при финансовой поддержке Н. В. Каторжнова)
Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко
© 2016, Siddhartha Mukherjee
All rights reserved
© Joan Mirо́, Bleu I, 1961 © Successiо́ Mirо́ / УПРАВИС, 2023
© К. Сайфулина, О. Волкова (посл. глава части II, эпилог, благодарности, словарь терминов, хронология, примечания), перевод на русский язык, 2023
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2023
© ООО «Издательство Аст», 2023
Издательство CORPUS®
Фонд «Траектория» создан в 2015 году.
Программы фонда направлены на стимулирование интереса к науке и научным исследованиям, реализацию образовательных программ, повышение интеллектуального уровня и творческого потенциала молодежи, повышение конкурентоспособности отечественных науки и образования, популяризацию науки и культуры, продвижение идей сохранения культурного наследия.
Фонд организует образовательные и научно-популярные мероприятия по всей России, способствует созданию успешных практик взаимодействия внутри образовательного и научного сообщества.
В рамках издательского проекта Фонд «Траектория» поддерживает издание лучших образцов российской и зарубежной научно-популярной литературы.
www.traektoriafdn.ru
Посвящается Приябале Мукерджи (1906–1985), понимавшей, с какими рисками мы столкнемся,
и Кэрри Бак (1906–1983), испытавшей их действие на себе
Верное установление законов наследственности, возможно, изменит мировосприятие человека и степень его власти над природой сильнее, чем любые другие прогнозируемые достижения в естествознании.
Уильям Бэтсон[1]
Человеческие существа в конечном счете лишь переносчики – транзитные пункты – для генов. Они просто используют нас, поколение за поколением, как очередных лошадей. Для генов не существует ни зла, ни добра, они вообще об этом не думают. Будем мы счастливы или несчастны – им наплевать. Мы для них всего лишь средство. Их заботит лишь то, насколько мы эффективны.
Харуки Мураками, «1Q84»[2]
Пролог
Семьи
В вас не погибла, я вижу,
порода родителей ваших.
Менелай, «Одиссея»[3], [4]
Тебя испортят папа с мамой,
Хоть не со зла, но тем не менее
Тебя наполнят злом и драмой,
Посеют страхи и сомнения.
Филип Ларкин,«Эпитафия будет такой» (This Be The Verse)[5], [6]
Зимой 2012 года я направился из Дели в Калькутту навестить двоюродного брата Мони. В качестве гида и компаньона меня сопровождал отец, но всю дорогу он был угрюм и задумчив, погружен в собственные терзания, о которых я мог только смутно догадываться. Мой отец – младший из пяти братьев, а Мони – первый его племянник, сын самого старшего брата. В 2004 году, в возрасте 40 лет, Мони попал в учреждение для душевнобольных (в «дурдом», как говорил мой отец) с диагнозом «шизофрения». Там его усердно пичкают лекарствами – купают в море антипсихотиков и седативов – и весь день не оставляют без присмотра, моют его и кормят.
Мой отец так и не примирился с диагнозом Мони. Годами он в одиночку вел кампанию против наблюдавших его племянника психиатров, пытаясь убедить их в том, что диагноз безобразно ошибочен или что разрушенная психика Мони волшебным образом восстановится сама. Отец посещал это заведение в Калькутте дважды. Один раз он приехал без предупреждения, надеясь, что так сможет увидеть другого, настоящего Мони, взаперти тайно ведущего нормальную жизнь.
Но мой отец, как и я, знал, что эти визиты были не только проявлением родственной любви. Мони – не единственный член папиной семьи с душевной болезнью. Из четырех папиных братьев два – не отец, а два дяди Мони – страдали разными психическими заболеваниями. Выходит, безумие живет в семье Мукерджи по меньшей мере два поколения, и, возможно, нежелание моего отца принять диагноз Мони отчасти связано с мрачной догадкой, что зерно болезни может быть зарыто, подобно токсичным отходам, в нем самом.
В 1946 году Раджеш, третий по старшинству брат моего отца, безвременно скончался в Калькутте. Ему было всего 22 года. История утверждает, что он слег с пневмонией после двух ночей физкультуры под зимним дождем – но на самом деле пневмония была лишь кульминацией другой болезни. Из пяти братьев на Раджеша возлагали больше всего надежд: он был самым сообразительным и гибким, самым обаятельным и деятельным. Мой отец и вся семья обожали и боготворили его.
Мой дедушка ушел десятью годами раньше, в 1936-м. Его убили из-за конфликта по поводу слюдяных шахт, оставив бабушку с пятью мальчишками на руках. Раджеш, хотя и не был самым старшим, без особых усилий взял на себя заботы отца. Ему тогда было 12, но с тем же успехом могло быть и 22: серьезность уже обуздывала его стремительный ум, а хрупкое юношеское самомнение закалялось во взрослую уверенность в себе.
Но летом 1946-го, по воспоминаниям моего отца, Раджеш начал вести себя странно, как будто в его мозгу что-то замкнуло. Самой яркой переменой в его личности стали запредельные колебания настроения. Хорошие новости теперь вызывали у него приступы неконтролируемого веселья, которые зачастую гасились только интенсивными физическими упражнениями, все больше напоминавшими акробатические трюки. Плохие же новости повергали его в глубокое отчаяние. Сами эмоции соответствовали контексту, ненормальной была их сила. К зиме того же года у синусоиды настроений Раджеша период уменьшился, а амплитуда возросла. Приливы энергии, которые переходили в раж или бред величия, случались все чаще, были все мощнее и неизменно сменялись стремительными отливами, погружавшими Раджеша в пучину печали. Он ударился в оккультизм: начал устраивать дома спиритические сеансы с дощечками для получения потусторонних посланий, отправлялся по ночам в крематорий медитировать в компании друзей. Я не знаю, употреблял ли он что-то; в сороковые годы притоны китайского квартала Калькутты были полны бирманского опиума и афганского гашиша – средств для успокоения воспаленных юношеских нервов. Но отец вспоминает Раджеша не спокойного, а непохожего на себя. Взлетая и падая на волнах своего настроения, он то дрожал от страха, то становился безрассудно смелым; одним утром был раздражен, другим – переполнен радостью. (Вот ведь интересное выражение – «пере-полнен радостью». В бытовом общении это что-то невинное, означающее лишь очень сильную радость. Но это выражение заключает в себе и предупреждение, обозначая некий предел, внешнюю границу адекватности. За «переполнением радостью», как мы увидим, не следует «пере-переполнения радостью» – дальше только безумие и мания.)
За неделю до начала пневмонии Раджеш узнал, что превосходно сдал экзамены в колледже, и, окрыленный, вскоре пропал почти на двое суток – скорее всего, отправился «тренироваться» в лагерь рестлеров. Вернулся он уже с лихорадкой и галлюцинациями.
Лишь годы спустя, уже в медицинском вузе, я понял, что Раджеш тогда пребывал в тисках острой маниакальной фазы. Его душевная болезнь являла собой почти энциклопедический случай маниакально-депрессивного, или биполярного, расстройства.
Джагу – четвертый по старшинству брат отца – переехал к нам в Дели в 1975 году, когда мне было пять. Его разум тоже трещал по швам. Высокий и худой, как жердь, с диковатым взглядом и копной длинных спутанных волос, он напоминал бенгальского Джима Моррисона. В отличие от Раджеша, чья болезнь вскрылась в 20-летнем возрасте, Джагу был проблемным с детства. Неуклюжий в общении, замыкающийся от всех, кроме моей бабушки, он не мог работать и даже жить самостоятельно. К 1975 году появились более серьезные когнитивные нарушения: видения, фантазмы, голоса в голове, которые говорили ему, что делать. Джагу десятками генерировал конспирологические теории: считал, например, что обосновавшийся возле нашего дома торговец бананами тайно фиксирует все его действия. Он часто разговаривал сам с собой, причем особенно любил декламировать выдуманные расписания поездов («Из Шимлы в Хаору на „Калка-почтовом“, в Хаоре пересадка на экспресс „Шри-Джаганнатха“ до Пури»). Он все еще был способен на яркие проявления теплых чувств: когда я дома случайно разбил ценнейшую венецианскую вазу, он спрятал меня в своей постели и сообщил маме, что у него припасена «куча денег», на которую можно купить «тысячу» таких ваз. Но этот эпизод был симптоматичен: даже его любовь ко мне оборачивалась разрастанием злокачественной ткани психоза и конфабуляций[7].
В отличие от Раджеша, Джагу успел получить официальный диагноз. В конце 1970-х в Дели врач осмотрел его и диагностировал шизофрению, но никаких лекарств не прописал. Джагу по-прежнему жил дома, теперь уже почти безвылазно сидя в комнате своей матери (как и во многих индийских семьях, бабушка жила вместе с нами). Бабушка и раньше много внимания уделяла Джагу, а когда он совсем перестал от нее отходить, взяла на себя роль его защитника от всех. С моим отцом она лет десять поддерживала хрупкое перемирие. Джагу жил под ее присмотром, ел в ее комнате и носил одежду, которую она ему шила. Ночью, когда Джагу был особенно беспокоен из-за натиска страхов и фантазий, бабушка укладывала его в кровать, как ребенка, и долго держала ладонь на его лбу. Когда в 1985 году она умерла, Джагу ушел из дома и отказывался возвращаться. До самой своей смерти в 1998-м он жил в одной из религиозных сект Дели.
И папа, и бабушка верили, что душевные болезни Джагу и Раджеша подстегнул – или даже вызвал – раздел Британской Индии[8], апокалиптический распад старого мира. Зная, что раздел затронул не только нации, но и умы, они считали, что политическая травма сублимировалась в психическую. Герой самого известного рассказа о разделе – «Тоба-Тек-Сингх» Саадата Хасана Манто – пациент психлечебницы, схваченный на пограничном, «ничьем» кусочке земли между Индией и Пакистаном, тоже балансировал на рубеже между здравомыслием и безумием. Как считала моя бабушка, именно беспорядки и переселение из Восточной Бенгалии[9] в Калькутту сдвинули что-то в психике Раджеша и Джагу, хотя и совсем по-разному.
Раджеш приехал в Калькутту в 1946-м. Город сходил с ума, как и он: натянутые нервы, истощенные запасы любви, переполненная чаша терпения. Тогда уже шел непрерывный поток мужчин и женщин из Восточной Бенгалии – тех, кто почувствовал надвигающиеся политические катаклизмы раньше соседей, – и заполнял малоэтажки и большие доходные дома близ вокзала Силда. Моя бабушка была частью этой людской массы: она сняла трехкомнатную квартиру в переулке Хаят-Хан совсем недалеко от вокзала. Квартира стоила 55 рупий в месяц – около доллара в современном эквиваленте, но для бабушкиной семьи это были колоссальные деньги. Окна комнатушек, нагроможденных друг на друга подобно дерущимся близнецам, выходили на помойку. Но все-таки окна у этой крохотной квартирки были, а еще из нее можно было выбираться на крышу, с которой мальчики могли смотреть на новый город и на новую, только рождающуюся, нацию. На улицах то и дело, из-за любой мелочи, вспыхивали беспорядки; в августе того года произошел особенно страшный конфликт между индусами и мусульманами (позже его назвали Великой калькуттской резней), в ходе которого 5 тысяч человек погибли, а 100 тысяч остались без крыши над головой[10].
Тем летом Раджеш стал свидетелем мощнейшей волны беспорядков, захлестнувшей город. Индусы выволакивали мусульман из лавок и контор Лалбазара и потрошили их заживо на улицах. Мусульмане с не меньшей жестокостью нападали на индусов на рыбных рынках около Раджабазара и Гаррисон-роуд. Вслед за беспорядками на улицах начались беспорядки у Раджеша в голове. Город вскоре успокоился, его раны зажили – но шрамы на психике Раджеша осталась навсегда. Чуть позже августовской резни юношу накрыла волна параноидных галлюцинаций. Его переполнял страх, с каждым днем все больше и больше. Вечерние походы в тренажерный зал участились. За этим последовали эпизоды мании, приступы лихорадки и внезапный катаклизм, его последняя болезнь.
Если безумие Раджеша было «безумием приезда», то безумие Джагу, по убеждению бабушки, было «безумием отъезда». В родной деревне Дехерготи близ города Барисал Джагу был привязан к друзьям и семье, как бы психически укоренен в них. Он носился по рисовым полям, барахтался в заводях и выглядел таким же беззаботным и игривым, как другие дети, – практически нормальным. В Калькутте, подобно растению, вырванному из привычной почвы, Джагу морально увял и рассыпался на части. Он бросил колледж и постоянно торчал у одного из квартирных окон, безучастно глядя на мир. Его мысли начали путаться, а речь стала бессвязной. Если Раджеш бродил по ночному городу и разгонял свой разум до опасного предела, то Джагу добровольно отсиживался в комнате, где его разум сбавлял обороты и тихонько усыхал.
Эта странная систематика душевных болезней (городская разновидность у Раджеша и деревенская – у Джагу) казалась логичной, пока психика Мони тоже не дала трещину. Конечно, Мони уже нельзя было назвать «сыном раздела». Его никогда не вырывали из привычной среды, всю жизнь он провел в безопасном жилище в Калькутте. Но несмотря на это, его психика совершенно невероятным образом начала выписывать ту же траекторию, что и психика Джагу. В подростковом возрасте появились видения и голоса. Потребность в уединенности, грандиозные конфабуляции, дезориентация и смятение – все это ужасно напоминало движение по нисходящей его дяди. В подростковом возрасте Мони приехал к нам в Дели погостить. Мы собирались все вместе пойти в кино, но он заперся в ванной наверху и около часа отказывался выходить, пока бабушка его оттуда не вытурила. Открыв дверь, она увидела, что Мони, скрючившись, прячется в углу.
В 2004-м Мони поколотила компания хулиганов – вроде бы за то, что он мочился в парке (как он сам мне сказал, внутренний голос твердил ему: «Пописай здесь, пописай здесь…»). Несколько недель спустя он совершил другое «преступление», столь комично-безрассудное, что наводило на мысль исключительно о потере разума: его застали за флиртом с сестрой одного из тех хулиганов (и вновь он сказал, что действовал по приказу голосов). Его отец пытался – правда, безуспешно – вмешаться, но в этот раз Мони избили по-настоящему. С разбитой губой и раной на лбу он отправился в больницу.
Избиение совершалось как акт экзорцизма (позже мучители Мони уверяли полицейских, что хотели только «изгнать из него демонов») – но патологические командиры, живущие у моего двоюродного брата в голове, стали лишь смелее и назойливее. Зимой того года, после очередного обострения с галлюцинациями и шепчущими внутренними голосами, его положили в лечебницу.
Заточение, как сказал мне Мони, было отчасти добровольным, правда, брат стремился не столько к восстановлению психики, сколько к физическому убежищу. Ему прописали комбинацию антипсихотиков, и его состояние постепенно улучшилось – но, очевидно, не настолько, чтобы он мог отправиться домой. Через несколько месяцев, когда Мони все еще был в лечебнице, умер его отец. Мать ушла уже давно, а сестра, единственный сиблинг[11], жила далеко. И Мони решил остаться в больнице – отчасти потому, что ему было больше некуда идти. Психиатры не одобряют архаичное выражение «приют для душевнобольных», но в случае Мони оно, увы, оказалось поразительно точным: только здесь ему могли предложить убежище и безопасность, ушедшие из его жизни. Мони был птицей, добровольно заточившей себя в клетку.
До нашего с отцом визита в 2012-м я не видел Мони около двадцати лет, и все-таки я полагал, что смогу его узнать. Но человек, которого я встретил в комнате для посещений, так мало напоминал Мони из моих воспоминаний, что если бы сотрудник больницы не назвал его имя, я вел бы себя с ним как с незнакомцем. Он раньше времени постарел: в свои 48 выглядел лет на десять старше. Прием препаратов от шизофрении сильно сказался на его теле и движениях: он ходил неуверенно и неуклюже, как ребенок. Его речь, когда-то плавная, быстрая и страстная, стала нерешительной и прерывистой; он неожиданно резко, с силой выплевывал слова, как будто это были куски незнакомой пищи, которые ему заталкивали в рот. Он очень смутно помнил и меня, и моего отца. Когда я упомянул имя своей сестры, он спросил, не женился ли я на ней. Наша беседа больше напоминала интервью: казалось, будто я был газетным репортером, внезапно свалившимся на голову Мони, чтобы приставать с расспросами.
Однако самым поразительным в его болезни был не шторм в голове, а мертвый штиль в глазах. «Мони» на бенгальском означает «драгоценный камень», но чаще этим словом называют нечто еще более прекрасное – блеск в глазах. Определенно, у Мони его больше не было. Искорки в его глазах потускнели, почти погасли – будто кто-то замазал их серой краской.
На протяжении всей моей детской и взрослой жизни истории Мони, Джагу и Раджеша сильно влияли на воображение членов моей семьи. Подростком я полгода вкушал прелести обычного для этого возраста экзистенциального кризиса. Тогда я перестал разговаривать с родителями, отказался делать домашние задания и выкинул свои старые книги. Обеспокоенный до предела и мрачный, папа повел меня к доктору, который когда-то ставил диагноз Мони. Неужели и его сын теряет разум? После 80 бабушку начала подводить память, она стала забываться и называть меня Раджешвар или Раджеш. Поначалу она исправлялась, краснея от неловкости, но после полной утраты связи с реальностью ошибалась уже будто намеренно, как если бы открыла для себя запретное удовольствие от этой фантазии. На четвертой или пятой встрече с Сарой, ставшей потом моей женой, я рассказал ей о расстройствах психики у двух моих дядей и двоюродного брата. Я решил, что будет справедливо предупредить об этом будущего партнера.
К тому времени наследственность, болезнь, нормальность, родственные связи и идентичность стали постоянными темами разговоров в нашей семье. Как многие бенгальцы, мои родители были великими мастерами психологического подавления и отрицания, но вопросы по истории болезней нашей семьи игнорировать все же не могли. Мони, Раджеш, Джагу – три жизни, сожранные разными душевными болезнями. Трудно было не предположить участие в этой истории наследственного компонента. Быть может, Мони унаследовал ген или набор генов, из-за которых он оказался подверженным болезни, – тех самых, что искалечили наших дядей? А другие члены семьи – затронули ли как-то болезни и их? У моего отца было по крайней мере два психотических эпизода, и оба спровоцировало употребление бханга (пенистого напитка из взбитого с топленым маслом настоя конопли, который принято пить на религиозных праздниках). Были ли эти эпизоды связаны с историями Мони, Раджеша и Джагу?
В 2009 году шведские ученые[12] опубликовали итоги масштабного международного исследования, в котором изучали тысячи семей и десятки тысяч мужчин и женщин. Анализируя семьи, где психические заболевания проявлялись не в одном поколении, ученые нашли убедительные доказательства высокой генетической обусловленности и общности биполярного расстройства и шизофрении. У некоторых из описанных семей наблюдалась та же «перекрестная» картина, что и у нас: один сиблинг с шизофренией, другой с биполярным расстройством, племянник или племянница тоже с шизофренией. В 2012 году вышло еще несколько работ[13], подтвердивших результаты первой и даже выявивших еще более прочные связи этих психических заболеваний друг с другом и с семейной историей; они углубили понимание их этиологии, эпидемиологии, пусковых механизмов и провоцирующих факторов.
Две из этих статей я читал зимним утром в нью-йоркском метро через несколько месяцев после возвращения из Калькутты. Через проход от меня мужчина в серой меховой шапке пытался удержать на месте своего сына, чтобы водрузить серую меховую шапку и на него. На Пятьдесят девятой улице мама вкатила в вагон коляску с близнецами, которые испускали, как мне казалось, абсолютно идентичные крики.
Эти исследования дали мне странное внутреннее спокойствие: я получил ответы на часть вопросов, упорно преследовавших моих папу и бабушку. Но в то же время у меня один за другим возникали новые вопросы. Если болезнь Мони была генетической, почему его отец и сестра избежали той же участи? Какие стимулы превратили предрасположенность в болезни? В какой степени психические нарушения Джагу и Мони были связаны с «природой» (то есть с генами, определяющими предрасположенность к психической болезни), а в какой – с «воспитанием» (со средовыми триггерами вроде крупных потрясений, конфликтов, травм)? Может ли у моего отца быть предрасположенность к болезни? Я тоже носитель? Что делать, если я вдруг узнаю точную природу этого генетического изъяна? Нужно ли тогда проверить себя и/или двух моих дочерей? А сообщить им результат? Что, если носителем окажется только одна из них?
Семейная история психических заболеваний никогда не покидала закоулки моего сознания. В то же время моя работа ученого-биолога была посвящена изучению рака и тоже сводилась к вопросам нормальности и ненормальности генов. Рак – это, возможно, одно из самых вопиющих генетических извращений: геном захватывает одержимость своим размножением. Такой геном, превратившийся в машину самовоспроизведения, подчиняет себе физиологию клетки и в итоге порождает многоликий недуг, болезнь-оборотень, которую мы, несмотря на заметные успехи, все еще не можем победить.
Однажды я понял, что для изучения рака необходимо препарировать и его «обратную сторону», то есть норму. Каков код нормальности до того, как ее извратит код рака? Как работает нормальный геном? Как поддерживается его постоянство, благодаря которому мы заметно похожи друг на друга, и вариабельность, благодаря которой мы заметно различаемся? Как постоянство и вариабельность, нормальность и ненормальность «записаны» в геноме?
И что, если мы научимся по желанию менять свои генетические инструкции? Если появятся такие технологии, кто будет их контролировать? Кто будет обеспечивать их безопасность? Кто будет ими владеть, а кто станет жертвой? Как обретение и контроль этого знания – и его неизбежное вторжение в нашу частную и общественную жизнь – изменят наши представления о социуме, собственных детях и о себе?
Эта книга – рассказ о рождении, развитии и будущем одной из самых значимых и опасных концепций в истории науки – концепции гена, элементарной единицы наследственности и базовой единицы биологической информации вообще.
Я использую этот эпитет – «опасный» – абсолютно сознательно. Три взрывных научных идеи[14] – атом, байт, ген – с грохотом пронеслись через все XX столетие, разделив его на три неравных отрезка. Предпосылки каждой из этих идей сложились еще в XIX веке, но ослепительный триумф пришелся на XX. Изначально все они представляли собой довольно абстрактные научные концепции, но затем разрослись, окрепли и, проникнув в многочисленные сферы нашей жизни, сейчас меняют культуру, общество, политику и язык.
Но самое важное сходство этих трех понятий, безусловно, концептуальное: все это минимальные единицы – строительные блоки, базовые организационные детали – какого-то более крупного целого. Атом – единица материи; байт (или бит)[15] – цифровой информации[16]; ген – наследственности и информации биологической.
Почему же общее свойство этих единиц – дальнейшая неделимость – наградило их концепции таким огромным потенциалом и могуществом? Простой ответ состоит в том, что материя, информация и биологические объекты по своей природе иерархичны, и понимание строения и функций самой маленькой части необходимо для понимания целого. Строка поэта Уоллеса Стивенса «В сумме частей – лишь части»[17] отсылает нас к глубинной тайне структуры языка: понять смысл предложения можно, лишь поняв смысл всех его слов, хотя целое предложение несет больше смысла, чем отдельные слова. То же и с генами. Организм – нечто гораздо большее, чем его гены, но чтобы по-настоящему понять, как он работает, нужно разобраться в работе его генов. Когда голландский ученый Хуго де Фриз в 1890-х занялся работой над концепцией гена, он сразу почувствовал, что эта теория перевернет наше представление о природе. «Весь органический мир[18] – результат влияния относительно небольшого числа факторов в огромном количестве разных комбинаций. <…> Как физика и химия обращаются к молекулам и атомам, так и биологические науки должны обращаться к этим единицам [генам], проникать в их природу, чтобы объяснять <…> явления мира живого».
Концепции атома, бита (байта) и гена дают принципиально новое понимание соответствующих систем с научной и технологической точек зрения. Невозможно понять поведение материи – почему золото блестит, почему смесь водорода и кислорода взрывается – без знания ее атомной природы. Точно так же нельзя постичь тонкости работы компьютерных систем – суть алгоритмов, механизмы хранения или повреждения данных – без осмысления структурной анатомии цифровой информации. «Алхимия не могла стать химией,[19] пока не были открыты базовые единицы вещества», – писал один ученый в XIX веке. И, как я буду доказывать на страницах этой книги, точно так же невозможно понять организменную или клеточную биологию, эволюцию, человеческие патологии, поведение, характер, расу, идентичность или судьбу, не усвоив первым делом концепцию гена.
Здесь мы подходим ко второй теме этой книги. Знание об атомах было необходимой предпосылкой для обретения способности манипулировать материей (и – в итоге – для создания атомной бомбы). Осмысление принципов работы генов позволило нам невероятно ловко и эффективно манипулировать организмами. Подлинная сущность генетического кодирования оказалась поразительно простой: всего одна молекула, переносящая наследственную информацию, и один универсальный код. «То, что фундаментальные аспекты наследственности[20] оказались чрезвычайно простыми, дает нам основания надеяться на всеобъемлющее познание природы, – писал Томас Морган, авторитетный генетик. – Ее пресловутая непостижимость в очередной раз оказалась иллюзией».
Наше понимание биологии генов достигло такого уровня сложности, такой глубины, что теперь мы можем изучать и изменять гены не только в пробирке, но и в их естественной среде – человеческих клетках. Гены расположены на хромосомах – длинных нитевидных структурах, которые находятся внутри клетки. Хромосомы могут нести в общей сложности десятки тысяч генов, выстроенных цепочками[21]. Всего у человека 46 хромосом – по 23 от каждого родителя. Полный набор генетических инструкций, который несет организм, называется «гено́м» (можно представить себе его как энциклопедию всех генов с примечаниями, комментариями, указаниями и ссылками). Человеческий геном содержит около 21–23 тысячи генов[22] – главных инструкций о том, как строить, чинить и поддерживать организм. За последние 20 лет генетические технологии настолько продвинулись, что теперь мы можем детально разобраться в пространственно-временных аспектах работы некоторых генов – понять, как они обеспечивают эти сложнейшие функции организма. А еще – в некоторых случаях – мы можем намеренно вносить в гены изменения, влияющие на их работу, и тем самым изменять состояние человека, его физиологию и психологию.
Именно из-за этого перехода – от объяснения к манипуляции – генетика вызывает резонанс далеко за пределами научных кругов. Одно дело – пытаться понять, как гены влияют на идентичность, сексуальность или характер человека. И совсем другое – представить изменение идентичности, сексуальности и поведения путем вмешательства в гены. Первый вопрос обычно занимает профессоров психологии и их коллег из сопредельных нейронаук. Второй же, связанный и с большими надеждами, и с большими опасностями, должен волновать всех нас.
Пока я пишу эти строки, организмы, наделенные геномами, учатся изменять наследственные свойства таких же организмов. Я имею в виду следующее: всего за четыре года, с 2012-го по 2016-й, мы изобрели технологии, позволяющие менять человеческий геном намеренно и необратимо (хотя безопасность и точность такой «геномной инженерии» все еще требует тщательной проверки). В то же время мы сильно продвинулись в предсказании судьбы человека по геному (хотя реальные предсказательные способности таких технологий всё еще неизвестны). Сегодня мы умеем «читать» человеческие геномы и «писать» их так, как это было немыслимо еще три-четыре года назад.
Едва ли нужна ученая степень по молекулярной биологии, философии или истории, чтобы понять, что совмещение этих двух умений подобно стремительному прыжку в бездну. Едва мы узнали, как именно судьба кодируется индивидуальным геномом (пусть речь идет о вероятностях, а не точных предсказаниях), и как только мы освоили технологии, позволяющие по желанию изменять эти вероятности (пусть те технологии были неэффективны и громоздки), наше будущее круто поменялось. Джордж Оруэлл однажды написал, что критик, используя слово «человек», обычно не наделяет его смыслом. Вряд ли я преувеличу, если скажу так: способность постигать человеческий геном и манипулировать им меняет само наше представление о том, что значит быть человеком.
Концепция атома служит организующим принципом в современной физике – и манит нас перспективой управлять веществом и энергией. Концепция гена занимает то же место в современной биологии – и манит нас перспективой управлять собственными телами и судьбами. История развития знания о генах таит в себе «поиск вечной молодости[23], фаустовский миф о резкой перемене судьбы и характерное для нашего века заигрывание с совершенством человека». Ее составляющей было и стремление расшифровать заложенный в нас сборник инструкций. Все это занимает центральное место в истории концепции гена и в нашем рассказе.
Эта книга упорядочена и по хронологии, и по темам. Главная сюжетная арка – историческая. Мы начинаем путь в 1864 году, в гороховом садике Менделя, окруженном стенами безвестного тогда моравского монастыря, где ген был открыт, а вскоре забыт (слово «ген» вошло в употребление лишь десятки лет спустя). Эта история пересекается с дарвиновской теорией эволюции. Далее с концепцией гена знакомятся английские и американские реформаторы, которые надеются приручить человеческую генетику, чтобы ускорить эволюцию человека и добавить ему свободы. Эта идея достигает своего мрачного триумфа в нацистской Германии 1940-х, где под знаменем евгеники ведутся абсурдные эксперименты, выливающиеся в тюремные заключения, стерилизации, эвтаназии и массовые убийства.
Череда открытий, совершенных после Второй мировой войны, знаменует начало революции в биологии. Выясняется, что именно ДНК – вместилище генетической информации. Появляется механистическое описание работы генов: гены кодируют химические сообщения – инструкции по созданию белков, которые в конечном итоге определяют строение и функции. Джеймс Уотсон, Фрэнсис Крик, Морис Уилкинс и Розалинд Франклин устанавливают трехмерную структуру ДНК и дарят миру каноническое изображение двойной спирали. Расшифровывается трехбуквенный генетический код.
Две технологии переворачивают генетику в 1970-х: секвенирование и клонирование генов – их «чтение» и в каком-то смысле «написание» (понятие «клонирование генов» охватывает целый спектр методик, обеспечивающих выделение генетического материала из организма, манипуляции с ним в пробирке, создание ДНК-гибридов и миллионов копий этих гибридов в живых клетках). В 1980-х специалисты по человеческой генетике начинают использовать эти технологии для идентификации и картирования[24] генов, ассоциированных с заболеваниями – например, болезнью Хантингтона и муковисцидозом. Идентификация связанных с болезнями генов открывает новую эпоху генетического управления, предоставляя родителям возможность провести генетический анализ плода и прервать беременность, если плод несет пагубные мутации. (Всякий, кто проверял своего будущего ребенка, например, на синдром Дауна, муковисцидоз, болезнь Тея – Сакса или кто изучал собственные гены, скажем, BRCA1 или BRCA2, уже вступил в эру генетической диагностики, управления и оптимизации. Это не набросок нашего отдаленного будущего – это уже неотъемлемая часть настоящего.)
Идентифицируется множество мутаций, связанных с раком, и теперь мы глубже понимаем генетические основы этого заболевания. Кульминацией работы в этом направлении становится международный проект «Геном человека», нацеленный на определение полной последовательности нуклеотидов человеческого генома и его картирование. Черновая последовательность публикуется в 2001-м. Этот проект, в свою очередь, вдохновляет на изучение генетической природы человеческого многообразия и «нормального» поведения.
Тем временем концепция гена вторгается в дискурсы, касающиеся рас, расовой дискриминации, «расового интеллекта», и дает поразительные ответы на важнейшие вопросы, которые рождаются в недрах политики и культуры. Она перекраивает наши представления о сексуальности, идентичности и свободном выборе, вторгаясь в самые животрепещущие вопросы[25], которые рождаются в недрах нашей личности.
О последствиях проникновения в нашу жизнь концепции гена можно рассказывать долго: внутри каждой из этих сюжетных линий полно историй. Но эта книга – еще и глубоко личная, сокровенная история. Груз наследственности – не абстракция для меня. Раджеш и Джагу мертвы. Мони заперт в калькуттской психбольнице. Но их жизнь и смерть повлияли гораздо больше, чем я мог когда-то вообразить, на мое мышление как ученого-естественника, гуманитария, историка, врача, сына и отца. Ни дня моей взрослой жизни не проходит без мыслей о наследственности и семье.
И что важнее всего, я в большом долгу перед моей бабушкой. Она не пережила – просто не могла пережить – горе от груза ее наследственности, но она взяла под крыло и защитила самых хрупких своих потомков от воли сильных. Она проявила стойкость в испытаниях, посланных ей историей, но в испытаниях, посланных наследственностью, она проявила больше, чем стойкость, – милосердие, к которому мы, ее потомки, можем только стремиться. Именно ей посвящена эта книга.
Часть I
«Недостающая наука о наследственности»
Открытие и переоткрытие генов (1865–1935)
Недостающая наука о наследственности, эта неразработанная жила знания на стыке биологии и антропологии, по сути, ничуть не продвинулась со времен Платона. А ведь на самом деле для человечества она в десять раз важнее всех химий и физик, всех технических и промышленных наук, которые когда-либо существовали или будут существовать.
Герберт Уэллс,«Человечество в процессе становления» (Mankind in the Making)[26]
Джек. Да, но ты сам сказал, что простуда – болезнь не наследственная.
Алджернон. Так считали прежде, это верно, но так ли это сейчас? Наука идет вперед гигантскими шагами.
Оскар Уайльд,«Как важно быть серьезным»[27], [28]
Сад за стеной
Изучающие наследственность отлично разбираются во всех аспектах своего предмета, кроме его сути. Наверняка они родились и выросли в дебрях этого тернистого пути, честно их исследовали, но так и не выбрались из них, чтобы охватить взором весь путь. Вот и выходит, что они узнали всё, кроме ответа на вопрос, что, собственно, они изучают.
Г. К. Честертон,«Евгеника и прочее зло» (Eugenics and Other Evils)[29]
Побеседуй с землей, она наставит тебя, и рыбы морские тебе возвестят.
Иов, 12:8
Изначально это был женский монастырь. Когда-то монахи-августинцы жили – о чем они не упускали случая поворчать – в интерьерах побогаче, в просторных кельях величественного каменного монастыря на холме, в самом сердце средневекового города Брно (это по-чешски, а если по-немецки, то Брюнн). За четыре столетия вокруг монастыря вырос город, спустился по склонам и растекся по равнинному ландшафту из ферм и лугов. Но в 1783 году монахи потеряли расположение императора Иосифа II. Император решил, что недвижимость в центре города слишком дорогая, чтобы ее занимали монахи, и приказал их переселить в разрушающийся монастырь у подножия холма в Старом Брно. Унижение от переселения усугублялось тем, что августинцам отвели помещения, изначально приспособленные под женские нужды[30]. В коридорах пахло отсыревшей известью, территория густо заросла ежевикой и сорной травой. Единственным преимуществом этого здания XIV века – холодного, как мясохранилище, и пустого, как тюрьма, – был прямоугольный сад с раскидистыми деревьями, дающими щедрую тень, с каменными ступеньками и длинной аллеей, где монахи могли прогуливаться и размышлять в одиночестве.
Братья постарались устроиться в новых условиях как можно лучше. Они отреставрировали библиотеку на втором этаже, присоединили к ней зал для занятий, оборудовали его сосновыми партами, несколькими лампами и разместили в нем коллекцию книг. Коллекция насчитывала около 10 тысяч экземпляров и постоянно росла; в ней были новейшие труды по естественной истории, геологии и астрономии (августинцы, к счастью, не видели проблемы[31] в совмещении религии с большинством научных дисциплин: науку они воспринимали как очередное свидетельство божественного порядка). На первом этаже монахи обустроили просторную трапезную, а в косогоре под фруктовым садом – винный погреб. На втором этаже располагались скромные кельи, обставленные лишь самой необходимой деревянной мебелью.
В октябре 1843 года к общине присоединился[32] молодой человек из Силезии, крестьянский сын. Он был небольшого роста, с серьезным лицом, близорукий и склонный к полноте. Новый член общины не проявлял большого интереса к духовной жизни, но отличался любознательностью, умел работать руками и был прирожденным садоводом. Монастырь предоставил ему кров и место для чтения и занятий. В 1847 году, 6 августа, он принял духовный сан. В миру его звали Иоганном Менделем, в монашестве же он стал Грегором.
Молодой, еще не завершивший обучение священник вскоре погрузился в предельно предсказуемую и упорядоченную монастырскую жизнь. В 1845 году Мендель слушал лекции по теологии, истории и естественным наукам в местном богословском институте. Потрясения 1848 года[33] – кровавые народные революции, неистово захлестнувшие Францию, Данию, Германию, Австрию и перевернувшие социальные, политические и религиозные порядки, – прошли мимо Грегора вроде отдаленных раскатов грома, почти не затронув его. Жизнь Менделя в те годы не давала ни малейшего основания полагать, что когда-то он станет ученым-революционером. Он был дисциплинированным, усидчивым, почтительным – человеком привычки среди людей привычки. Пожалуй, единственным случаем, когда Грегор бросил вызов авторитетам, был внезапный отказ надеть на занятия студенческую шапочку. Но, получив замечание от руководителей, он вежливо подчинился.
Летом 1848 года Мендель получил место приходского священника в Брно, однако справлялся с этой работой из рук вон плохо. «Скованный неодолимой робостью»[34], по выражению настоятеля монастыря, Мендель плохо говорил по-чешски (а это был язык большинства прихожан), не умел вдохновлять своими проповедями и был слишком невротичным, чтобы нести эмоциональное бремя работы с бедными. В том же году Мендель нашел отличный выход из положения: он предложил свою кандидатуру на должность учителя математики[35], естественных наук и основ греческого языка в Зноемской гимназии. Монастырь любезно согласился ему посодействовать, и Менделя приняли – но при одном условии. Зная, что у монаха не было никакой педагогической подготовки, школа попросила его сдать официальный экзамен по естественным наукам, обязательный для учителей средней школы.
В конце весны 1850-го воодушевленный Мендель[36] держал письменный экзамен в Брно. Он провалился, причем отвратительнее всего показал себя в геологии («сухо, невразумительно, невнятно» – таков был вердикт одного из рецензентов). Чтобы сдать устную часть экзамена, Мендель 20 июля направился из Брно в Вену[37], которую тогда накрыла волна изнурительной жары. 16 августа он предстал перед экзаменаторами[38], и в этот раз результаты оказались еще хуже – теперь по биологии. Когда его попросили описать и классифицировать млекопитающих, он выдал неполную и нелепую таксономическую систему: одни группы упустил, другие изобрел, свалил в одну кучу кенгуру с бобрами, а свиней – со слонами. «Кандидат, похоже, совсем не знаком со специальной терминологией, раз всех животных называет словами из разговорного немецкого и избегает систематической номенклатуры», – написал в отзыве один из экзаменаторов. Мендель вновь провалился.
В августе он вернулся в Брно. Вердикт экзаменаторов не оставлял сомнений: чтобы кандидат был допущен к преподаванию, ему необходимо получить дополнительное образование в области естественных наук, более глубокое, чем могли предложить монастырские библиотека и сад. За степенью по естественным наукам Мендель отправился в Венский университет. Не без помощи писем и прошений из монастыря его туда приняли.
В ноябре 1851-го Мендель сел на поезд: в университете нужно было записаться на интересующие курсы. Здесь-то и начались проблемы Менделя с биологией – и проблемы биологии с Менделем.
Ночной поезд из Брно в Вену рассекал унылые зимние пейзажи: покрытые инеем пашни и виноградники, застывшие каналы, похожие на бледно-голубые вены, редкие фермерские дома, утопающие в густой центральноевропейской тьме, ленивая, наполовину скованная льдом река Дые[39], контуры далеких островов на Дунае… Между Брно и Веной меньше 150 километров, которые в те времена преодолевали часа за четыре. Но утром, по прибытии, Мендель проснулся словно в другой Вселенной.
Венская наука была искристой, полной энергии – живой. В университете, находившемся недалеко от его неприглядного пансиона на Инвалиденштрассе, Мендель принял интеллектуальное крещение, к которому так стремился в Брно. Физику там преподавал Кристиан Доплер, почтенный австрийский ученый, ставший наставником Менделя, учителем и кумиром. В 1842 году 39-летний Доплер[40], сухощавый и язвительный, математически обосновал, что высота звука (как и цвет светового луча) не постоянна, а зависит от положения и скорости его источника относительно наблюдателя[41]. Звук из источника, который быстро движется к наблюдателю, претерпевает сжатие и воспринимается как более высокий; если же источник удаляется, звук кажется ниже. Скептики насмехались: как свет одной и той же лампы может казаться неодинаковым по цвету разным наблюдателям? Но в 1845 году Доплер посадил на поезд[42] ансамбль трубачей и попросил их держать одну ноту, пока состав будет проезжать мимо платформы. Стоящие на платформе люди с изумлением услышали, что нота звучит выше, когда поезд приближается, и ниже, когда отдаляется.
Звук и свет, утверждал Доплер, ведут себя в соответствии с законами природы, пусть даже эти законы сильно контрастируют с интуитивными ожиданиями обычного наблюдателя. На самом деле, если разобраться, все сложные и вроде бы хаотичные явления – результат действия высокоорганизованных законов природы. Иногда восприятия и интуиции нам достаточно для улавливания этих законов. Но чаще, чтобы понять или продемонстрировать их действие, нужно провести эксперимент в искусственно созданных обстоятельствах – например, посадить трубачей на разгоняющийся поезд.
Демонстрации и эксперименты Доплера очаровали Менделя и в то же время расстроили. Биология, его основной предмет, стала казаться диким, заросшим садом, областью без каких-либо системообразующих принципов. На первый взгляд казалось, что порядка в биологии полно – или, вернее, в ней было полно порядков. В биологии господствовала таксономия – затейливая попытка рассортировать все живые организмы по категориям и подкатегориям: царствам, классам, порядкам (отрядам), семействам, родам и видам. Но эти категории, предложенные шведским ботаником[43] Карлом Линнеем в середине XVIII века, были исключительно описательными. Система Линнея предписывала, как классифицировать живые организмы на Земле, но ее собственная организация была лишена какой-либо логики. Биолог мог спрашивать до бесконечности, почему организмы объединяются именно так, а не иначе. Что поддерживает постоянство категорий и точность категоризации? Что мешает слонам превращаться в свиней, а кенгуру – в бобров? Каков механизм наследования признаков? Почему – или как – подобное порождает подобное?
Вопрос «подобия» веками занимал ученых и философов. Живший в городе Кротон около 530 года до н. э. греческий мыслитель Пифагор – наполовину ученый, наполовину мистик – предложил одну из самых ранних и широко признанных теорий, которая объясняла сходство между родителями и детьми. Суть теории Пифагора сводилась к тому, что наследственная информация («подобие») переносится главным образом мужским семенем. «Инструкции» попадают в семя, когда оно циркулирует по мужскому телу и впитывает «мистические пары» от каждой отдельной части (глаза дают свой цвет, кожа – текстуру, кости – свою длину и так далее). Мужчина живет, а его сперма постепенно превращается в переносную библиотеку всех частей тела – эссенцию его самого.
Этот в буквальном смысле плодотворный концентрат информации о мужчине попадает в женское тело при совокуплении. Попав в матку, семя вызревает и, питаясь от матери, превращается в плод. Как утверждал Пифагор, в воспроизводстве (как и в любом производстве) функции мужчины и женщины четко разделены. Отец дает информацию, необходимую для создания плода. Утроба матери дает питание, нужное, чтобы эта информация превратилась в ребенка. Впоследствии эту теорию назвали «спермизм», чтобы подчеркнуть центральную роль спермы в определении всех свойств плода.
В 458 году до н. э., через несколько десятилетий после смерти Пифагора, драматург Эсхил на основе этой странной логики выдвинул один из самых экстраординарных в истории аргументов в защиту матереубийства. Главной темой его трагедии «Эвмениды» был суд над Орестом, сыном царя Агамемнона, убившим свою мать[44], Клитемнестру. В большинстве культур матереубийство считается предельно аморальным преступлением. В «Эвменидах» Аполлон, представляющий интересы Ореста в суде, высказывает потрясающе оригинальный аргумент: мать Ореста для принца чужой человек, ведь беременная женщина на самом деле лишь возвеличенный человеческий инкубатор, мешок, из которого по пуповине к ребенку поступают питательные вещества. Настоящий же предок любого человека – отец, чье семя несет «подобие». «Дитя родит отнюдь не та, что матерью зовется[45], – доказывал Аполлон сочувствующим присяжным. – Нет, ей лишь вскормить посев дано. Родит отец. А мать, как дар от гостя, плод хранит»[46].
Явная асимметрия в этой теории наследственности – вся «природа» от отца, а от матери лишь начальное, внутриутробное «воспитание» – не беспокоила последователей Пифагора; вполне возможно, что им это даже нравилось. Пифагорейцы были одержимы мистической геометрией треугольников. Пифагор узнал от индийских или вавилонских геометров[47], что длину одной стороны прямоугольного треугольника можно математически вывести из длин двух других сторон. Однако эта теорема осталась неразрывно связанной именно с его именем, получив название теоремы Пифагора. Ученики Пифагора видели в этой теореме доказательство того, что в природе повсюду скрываются подобные математические закономерности – «гармонии». Стремясь смотреть на все сквозь треугольные линзы, пифагорейцы и в наследовании находили гармонию треугольника. Мать и отец – две независимые стороны, два катета, а ребенок – третья сторона, биологическая гипотенуза. Как длина гипотенузы выводится из длин катетов с помощью строгой математической формулы, так и ребенок формируется из индивидуальных вкладов родителей: «природы» от отца и «воспитания» от матери.
Спустя столетие после смерти Пифагора[48], около 380 года до н. э., эта метафора увлекла Платона. В одном из самых любопытных пассажей «Государства»[49], отчасти заимствованном у Пифагора, Платон утверждает, что если дети – арифметические производные своих родителей, то формула, в принципе, могла бы приносить практическую пользу: идеальные дети получались бы от идеальных комбинаций родителей в идеально подобранное время для зачатия. «Теорема» наследования уже существует, она лишь ждет своего открытия. Открыв ее и применяя предписанные ею комбинации, любое общество сможет гарантировать производство сильнейших – и так ступит на путь чего-то вроде нумерологической евгеники. И наоборот: «Коль это останется невдомек нашим стражам[50] и они не в пору сведут невест с женихами, то не родятся дети с хорошими природными задатками и со счастливой участью»[51]. Стражи платоновского государства, его правящая элита, расшифровав «закон рождения», должны были позаботиться о том, чтобы в будущем заключались только гармоничные, «благоприятные» союзы. А идеальное генетическое «устройство» вылилось бы потом в идеальное устройство политическое.
Чтобы методично и до самого основания разрушить наследственную теорию Пифагора, требовался такой педантичный и аналитический ум, как у Аристотеля. Аристотель не был ярым защитником женщин, но считал, что в основе любой теории должны лежать факты. Он приступил к разбору достоинств и недостатков теории спермизма, обращаясь к множественным данным из биологического мира. Результатом анализа стал небольшой трактат «О возникновении животных»[52], столь же основополагающий для человеческой генетики, как «Государство» Платона – для политической философии.
Аристотель отверг идею, что наследственные признаки передаются исключительно с мужским семенем. Он точно подметил, что дети могут наследовать черты от матерей и бабушек (точно так же, как от отцов и дедушек), причем эти черты могут «прыгать» через поколения: исчезать в одном и вновь проявляться в следующем. «Рождаются от увечных увечные[53], – пишет Аристотель, – например, от хромых – хромые, от слепых – слепые, и вообще сходные в противоестественном, зачастую имеющие также прирожденные приметы, как то: опухоли, рубцы. Подобные вещи передаются даже в третьем поколении: например, знак, находившийся у одного человека на предплечье, его сын не унаследовал, а внук имел на том же месте черное пятно размытых [очертаний]. <…> Передача иногда происходит через несколько поколений, как была в Элиде, где одна [женщина] прелюбодействовала с эфиопом: не дочь ее родилась эфиопкой, а потомство дочери»[54]. Внук может родиться с цветом кожи или носом как у бабушки, даже если таких черт нет ни у одного из родителей. Этот феномен невозможно объяснить при помощи пифагоровой схемы исключительно патрилинейного наследования[55].
Аристотель оспорил и идею пифагоровой «переносной библиотеки» – будто семя собирает наследственную информацию, проходя по телу и получая «тайные инструкции» от каждой его части. Аристотель отметил, что «некоторых вещей родители даже не имеют[56] во время порождения, например седых волос или бороды»[57], но передают эти признаки детям. Бывает, что наследуются не только телесные черты: походка, манера говорить, привычка пялиться в пространство или даже психическое состояние. Аристотель доказывал, что такие признаки – нематериальные по своей природе – никак не могут материализоваться в семени. И, пожалуй, самый очевидный его аргумент против схемы Пифагора касался женской анатомии. Откуда отцовское семя впитает инструкции о детородных органах дочери, если у отца их нет? Теория Пифагора могла объяснить происхождение всех частей тела, кроме ключевых для процесса наследования – гениталий.
Аристотель предложил альтернативную теорию[58], поразительно радикальную для того времени: вероятно, женщины тоже «вкладываются» в плод вполне материально – чем-то вроде женского семени. Вероятно, плод формируется совместным участием, сложением мужских и женских составляющих. В поисках подходящей аналогии для мужского вклада Аристотель остановился на «принципе движения». «Движения» не в смысле перемещения в пространстве, а в смысле перехода возможности в действительность; то есть отец дает инструкции (информацию) по этому переходу – код, как сказали бы сейчас. Обмен физическим материалом во время совокупления – лишь поверхностная имитация более таинственного, мистического обмена. Материя, на самом деле, не так важна; от мужчины к женщине передается не материя, а сообщение[59]. Подобно тому, как архитектурный план предопределяет возведение здания или искусность плотника направляет обработку бревна, мужское семя несет инструкции по созданию ребенка. «[Как] от плотника не переходит в древесину ничего вещественного[60], – пишет Аристотель, – однако за счет совершаемых плотником движений материал получает от него характерные образ и форму. <…> Примерно так и природа пользуется семенем как инструментом»[61].
Женское же семя дает плоду сырой материал, который можно сравнить с древесиной для изделия плотника или бетоном для здания, – вещество для воплощения образа будущей жизни. Аристотель считал этим материалом менструальную кровь. Мужское семя придает крови форму ребенка (сейчас это звучит нелепо, но даже эту мысль Аристотель логически обосновал: если кровотечения пропадают после зачатия, значит, плод должен формироваться из менструальной крови).
Аристотель ошибался, считая, что женский вклад – «материал», а мужской – «сообщение», но если абстрагироваться от деталей, можно понять, что он уловил одну из основных истин о природе наследственности. Аристотель понял, что передача наследственных признаков по сути представляет собой передачу информации. Информация используется для построения организма с нуля: сообщение превращается в материал. А когда организм созревает, он производит мужское или женское семя, превращая материал в сообщение. Эта схема напоминает не пифагоров треугольник, а скорее круг – процесс зацикливается: форма порождает информацию, а информация – форму. Спустя века биолог Макс Дельбрюк пошутит[62], что Аристотелю нужно было бы посмертно присудить Нобелевскую премию – за открытие ДНК.
Но если наследственные черты переносятся в виде информации, то как эта информация кодируется? Слово «код» происходит от латинского caudex, обозначающего дощечки из мягкой древесины, на которых писцы выскребали надписи. Что же такое «кодекс» наследственности? Что там переписывается и как? Как наследственный материал упаковывается и передается от одного тела к другому? Кто зашифровывает данные и кто их расшифровывает, чтобы создать ребенка?
Самое изобретательное решение из предлагаемых после Аристотеля было самым простым: вообще забыть о коде. Новая теория гласила, что семя уже содержит маленького человечка – крошечный плод, полностью сформированный, но сжатый и скрученный в своей миниатюрной оболочке, пока не начнет постепенно разбухать до состояния младенца. Разные варианты этой теории отражены в средневековых мифах и фольклоре. В 1520-х швейцарско-немецкий алхимик Парацельс[63], руководствуясь теорией «человечка в семени», предположил, что человеческая сперма, подогретая конским навозом и закопаная в грязь на 40 недель (продолжительность беременности), всенепременно превратится в человека, хоть и с некоторыми уродствами. Зачатие же нормального ребенка – всего лишь перенос крошечного человечка, гомункула, из отцовского семени в материнскую матку, где он разрастается до размеров плода. Таким образом, в этой теории не было места для кода, она ограничивалась миниатюризацией.
Своеобразная привлекательность этой концепции, известной как преформизм, заключалась в предзаложенной бесконечной повторяемости процесса. Так как гомункул должен был созревать и получать возможность заводить своих детей, у него внутри уже должны были находиться мини-гомункулы – крошечные люди внутри людей, бесконечная череда матрешек, грандиозная цепь существ, протянувшаяся от первого человека, Адама, и уходящая в необозримое будущее. Для средневековых христиан такая человеческая цепь служила предельно точным и наглядным объяснением идеи первородного греха. Если все будущие люди уже были заключены в прошлых, то каждый из нас должен был физически пребывать в теле Адама – «плавать <…> в лоне Первого Родителя нашего»[64], как писал один теолог, – в том числе и в решающий момент грехопадения. Греховность, таким образом, проникла в нас за тысячи лет до нашего рождения: из лона Адама – напрямую каждому потомку его. Каждый из нас несет эту скверну – не потому, что наш далекий предок соблазнился яблоком в далеком саду, а потому, что сами мы, будучи в теле Адама, вкусили тот плод.
Второй притягательный момент преформизма заключался в отсутствии проблемы расшифровки. Если механизм шифрования – преобразования человеческого тела в некое подобие кода – биологи того времени еще как-то могли объяснить (осмосом, как у Пифагора), то обратный процесс – расшифровка, превращение кода назад в человека – был тайной за семью печатями. Как такой сложный объект, как человеческое тело, может возникнуть от объединения сперматозоида и яйцеклетки? Гомункул избавлял от этой концептуальной проблемы. Если ребенок уже «предформирован», то его формирование с момента зачатия сводится лишь к увеличению в размерах. Плод – биологический аналог надувной куклы, и для его развития не нужен ни код, ни ключ. Хочешь, чтобы появился человек, – просто добавь воды.
Теория была такой соблазнительной, такой отточенной и наглядной, что даже изобретение микроскопа не убило гомункула, как можно было бы ожидать. В 1694 году Николаас Хартсокер[65], голландский физик и микроскопист, якобы с натуры изобразил этого кроху – с огромной головой, скрюченного в позе эмбриона в головке сперматозоида. В 1699-м еще один голландский микроскопист заявил, что в изобилии наблюдал гомункулов, плавающих в человеческой сперме. Подобно другим фантазиям с антропоморфными образами – например, обнаружению человеческих лиц на лунной поверхности, – эта теория постоянно разрасталась под линзой воображения. Рисунки гомункула в XVII веке только множились; хвост сперматозоида изображался в виде длинного пучка волос на голове человечка, а головка клетки – в виде миниатюрного черепа. К концу XVII века преформизм считался самым логичным и непротиворечивым объяснением наследования признаков у людей и животных. Люди вырастают из маленьких людей, как деревья вырастают из черенков. «В природе ничего не создается заново[66], – писал голландский ученый Ян Сваммердам в 1669 году, – происходит лишь распространение уже существующего».
Но не всех убеждала история о бесконечно вложенных друг в друга миниатюрных человечках. Главный вызов преформизму бросила идея о том, что во время эмбриогенеза должны протекать какие-то процессы, ведущие к формированию абсолютно новых частей тела. Люди не поставляются в готовом виде, предварительно компактизированными и лишь ожидающими увеличения в размерах. Они должны формироваться с нуля согласно особым инструкциям, скрытым в сперматозоидах и яйцеклетках. Конечности, туловище, мозг, глаза, лицо, даже темперамент и наследуемые склонности – все это должно создаваться заново всякий раз, когда эмбрион развивается в плод. Новое создание – результат… создания.
Но какой же импульс – или указание – заставляет семя и яйцеклетку превращаться в эмбрион, а затем во взрослый организм? В 1768 году берлинский эмбриолог Каспар Вольф[67] попытался ответить на этот вопрос, выдумав особый закон, направляющий развитие, vis essentialis corporis[68], который определяет постепенную трансформацию оплодотворенной яйцеклетки в человека. Подобно Аристотелю, Вольф считал, что эмбрион содержит каким-то образом зашифрованную информацию – код: не просто уменьшенную версию человека, а инструкцию, как его создать с нуля. Но, кроме латинского названия для своего туманного закона, Вольф не смог придумать ничего конкретизирующего эту идею. Инструкции, уклончиво писал он, смешиваются в оплодотворенной яйцеклетке, а затем начинает действовать vis essentialis, подобно невидимой руке формирующая из этой массы человека.
Если биологи, философы, христианские ученые и эмбриологи бо́льшую часть XVIII столетия проводили в ожесточенных спорах о преформизме и «невидимой руке», то стороннего наблюдателя, и это вполне простительно, мало впечатляли обе идеи – уже хотя бы потому, что были сильно потрепаны временем. «Противоборствующие в наши дни точки зрения[69] существовали еще несколько веков назад», – резонно сетовал один биолог XIX века. Действительно, преформизм по большей части повторял теорию Пифагора – что сперма несет всю информацию для создания нового человека. А «невидимая рука» была слегка отполированной идеей Аристотеля о том, что наследственность обеспечивается сообщениями – руководствами по ваянию из материи («рука» несет инструкции, описывающие формирование эмбриона).
Со временем обе теории эффектно подтвердят и столь же эффектно опровергнут. И Аристотель, и Пифагор отчасти были правы, отчасти ошибались. Но в начале 1800-х казалось, что область знаний о наследственности и эмбриогенезе зашла в концептуальный тупик. Величайшие мыслители-биологи, бившиеся над проблемой наследственности, едва ли сумели продвинуть область дальше туманных догадок двух ученых мужей, рожденных на двух греческих островах две тысячи лет назад.
Тайна из тайн
Твердят, что все идет само собой —
случайны и прогресс, и каждый сбой.
Еще никто не разрешил вопроса,
с чего пошли макаки-альбиносы.
В природе, говорят, все поезда
идут без цели и неведомо куда,
но Дарвин загорелся интересом
к иным – целенаправленным процессам.
Роберт Фрост,«Случайно, но к цели» (Accidentally on purpose)[70], [71]
Зимой 1831 года, когда Мендель еще учился в силезской школе, начинающий священник Чарльз Дарвин взошел на корабль Его Величества «Бигль»[72]. Этот бриг-шлюп с десятью пушками бросил якорь в заливе Плимут-Саунд на юго-западном побережье Англии. Дарвину, сыну и внуку известных врачей, тогда было 22 года. От отца он унаследовал слегка квадратную форму лица и приятные его черты, от матери – фарфоровую кожу, а густые, нависающие над глазами брови были характерной чертой многих поколений Дарвинов. Молодой человек пытался изучать медицину[73] в Эдинбурге, но безуспешно. Придя в ужас от «криков привязанного ребенка, лежащего на окровавленных опилках <…> в операционном театре», он бросил медицину и занялся изучением теологии в Колледже Христа при Кембриджском университете[74]. Но интересы Дарвина выходили далеко за границы теологии. Затворничая в комнате над табачной лавкой[75] на Сидней-стрит, он занимал себя коллекционированием жуков, изучением ботаники, геологии, геометрии и физики, а также жаркими спорами о боге, божественном вмешательстве и сотворении животных. Намного больше, чем теология и философия, его увлекала естественная история – изучение природы, основанное на системных научных принципах. Дарвин перенимал опыт у другого священника, ботаника и геолога Джона Генслоу. Генслоу основал и курировал Кембриджский ботанический сад[76] – огромный музей под открытым небом, посвященный естественной истории. Именно в этом саду Дарвин учился собирать, определять и классифицировать образцы растений и животных.
В годы учебы сильнее всего воспламенили воображение Дарвина две книги. Первой стала вышедшая в 1802 году «Естественная теология»[77] (Natural theology) Уильяма Пейли, бывшего долстонского викария. Одно рассуждение из этой книги глубоко отозвалось в душе Дарвина. Представим, писал Пейли, что человек идет по пустырю и натыкается на часы, лежащие на земле. Он поднимает их, вскрывает и видит внутри изящнейшую систему вращающихся шестеренок, благодаря которой механическое устройство способно показывать время. Не логично ли будет предположить, что такое устройство мог изготовить только часовщик? Ту же логику следует применять и к миру природы, рассуждал Пейли. Совершенство строения живых организмов и человеческих органов – «шарнир, на котором поворачивается голова, связки внутри капсулы тазобедренного сустава» – может указывать лишь на то, что все живое создал искуснейший мастер, небесный часовщик – бог.
Вторая книга, «Предварительные рассуждения об изучении естественной философии»[78] (A Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy), вышла из-под пера астронома Джона Гершеля в 1830-м. В ней выражалась совсем другая точка зрения: на первый взгляд, природа неимоверно сложна, но наука способна свести внешне сложные явления к простым составляющим – причинам и следствиям. Движение – результат приложения силы к объекту; тепло возникает за счет переноса энергии; звук – следствие колебаний воздуха. Гершель не сомневался, что и химические, и даже биологические явления обусловлены работой таких причинно-следственных механизмов.
Гершеля особенно интересовало возникновение живых организмов, и его методичный ум разбил этот вопрос на две части. Первая охватывала проблему создания жизни из не-жизни – возникновения живого ex nihilo[79]. Здесь Гершель не решился посягнуть на доктрину божественного вмешательства. «Восходить к истокам вещей[80], рассуждать о творении – это занятие не для естественного философа», – писал он. Органы и организмы могут подчиняться законам физики и химии – но возникновение самой жизни эти законы никогда не смогут объяснить: словно бог обустроил для Адама милую маленькую лабораторию в Эдеме, но запретил ему заглядывать за стены сада.
Ко второй проблеме, по мнению Гершеля, подступиться было легче. Какой процесс породил наблюдаемое в природе разнообразие после того, как жизнь была создана? Как, например, из какого-то вида животных возникает другой, новый вид? Антропологи-языковеды показали, что новые языки возникают из старых путем трансформации слов. Латынь и санскрит произошли от древнего индоевропейского языка в результате накопления вариаций и мутаций. Английский и фламандский тоже имеют общий корень. Геологи предположили, что современный вид земной поверхности – ее скалы, пропасти и горы – результат преобразования ее древнего рельефа. «Реликты минувших веков[81], – писал Гершель, – несут неизгладимые следы, способные дать нам много знаний». Это была блестящая догадка: ученый может познавать настоящее и будущее по реликтам прошлого. Гершель не знал правильного механизма видообразования, зато ставил правильный вопрос. Он назвал его «тайна из тайн»[82], [83].
Естественная история – дисциплина, захватившая Дарвина в Кембридже, – еще не была готова разгадать гершелеву «тайну из тайн». Для пытливых греков изучение живых существ было тесно связано с вопросом происхождения мира природы. Но средневековые христиане быстро поняли, что это направление исследований может вылиться только в неблагонадежные теории. Природа – творение Господа. Чтобы не рисковать, идя против доктрин христианства, естествоиспытателям приходилось рассказывать историю природы в соответствии с сюжетом библейского Бытия.
Приветствовался именно описательный подход к природе, то есть определение, именование и классификация растений и животных, ведь, описывая чудеса природы, вы, по сути, прославляете великое многообразие живых существ, созданных всемогущим богом. Механистический же взгляд на природу, исследующий причинно-следственные связи, грозил пошатнуть саму основу доктрины сотворения мира. Задаваться вопросом, почему и когда животные возникли, под действием какого механизма или силы, означало подвергать сомнению миф о божественном творении и подходить опасно близко к ереси. Неудивительно, что к концу XVIII века среди естествоиспытателей преобладали священники-натуралисты[84]: викарии, пасторы, аббаты, дьяконы и монахи выращивали сады, собирали образцы растений и животных, отдавая должное чудесам божественного творения и, как правило, избегая вопросов о фундаментальных христианских постулатах. Церковь предоставляла таким ученым тихую, безопасную гавань, но в то же время эффективно подавляла их любознательность. Запреты на «неправильные» исследования были такими суровыми, что священники-натуралисты даже не подвергали сомнению мифы о сотворении мира; разделение церкви и состояния умов тогда достигло апогея. В результате в области естествознания возник специфический перекос. Биологическая таксономия – наука о классификации животных и растений – процветала, а вопросы происхождения живых существ были вытеснены за пределы дозволенного. Естественную историю низвели до изучения природы без истории.
Такое «статичное» видение природы не устраивало Дарвина. Он доказывал, что естествоиспытатели должны описывать состояние живого мира с точки зрения причин и следствий – так же, как физики описывают движение мяча по воздуху. Революционный характер гениальности Дарвина придавало умение видеть в природе не свершившийся факт, не данность, а процесс, движение, историю. Эта черта была у них с Менделем общей. Оба страстные натуралисты, Дарвин и Мендель совершили свои научные прорывы, задавшись одним и тем же вопросом, только в разных вариантах: как реализуется «природа»? Вопрос Менделя лежал на условном микроуровне: как отдельный организм передает информацию своему потомству через одно поколение? Вопрос Дарвина переходил на макроуровень: как живые организмы преобразуют информацию о своих чертах через тысячи поколений? Со временем эти ракурсы объединятся, создав основу для глубочайшего понимания человеческой наследственности и для важнейшего синтеза в современной биологии – синтетической теории.
В августе 1831 года[85], спустя два месяца после выпуска из Кембриджа, Дарвин получил письмо от своего наставника Джона Генслоу. Генслоу сообщал, что исследовательской экспедиции в Южную Америку требуется «ученый джентльмен» для помощи в сборе образцов. Дарвин тогда был больше джентльменом, чем ученым (ибо не опубликовал еще ни одной серьезной научной работы), тем не менее он посчитал себя идеальным кандидатом. Чарльз решил отправиться в путешествие на «Бигле» – не как профессиональный естествоиспытатель, но как ученый-стажер, «достаточно квалифицированный, чтобы собирать, наблюдать и замечать всё, достойное упоминания в рамках естественной истории».
«Бигль» отплыл не сразу[86]: штормовые ветра дважды мешали ему. Но 27 декабря 1831 года корабль с 73 моряками и пассажирами на борту наконец снялся с якоря и взял курс на юг, к Тенерифе. В начале января Дарвин уже приближался к Кабо-Верде. Бриг оказался легче, а ветер – коварнее, чем Чарльз ожидал. На борту постоянно ощущалась качка. Дарвин страдал от одиночества, тошноты и обезвоживания, а его жизнь поддерживала вынужденная диета из изюма и хлеба. В тот месяц он начал делать дневниковые записи. Забравшись в гамак, висевший над просоленными картами, Дарвин штудировал книги, которые взял в путешествие: удивительно созвучную его состоянию поэму Мильтона «Потерянный рай» и вышедший между 1830 и 1833 годами труд Чарльза Лайеля «Основные начала геологии»[87].
Особенно впечатлила Дарвина работа Лайеля. Автор «Основных начал геологии» утверждал[88] (для того времени это было радикально), что сложные геологические образования вроде гор и скальных массивов формировались в течение долгого времени, и создала их не рука бога, а медленные природные процессы: эрозия, седиментация и депозиция. Лайель доказывал, что вместо одного грандиозного библейского потопа были миллионы менее масштабных потопов; бог лепил Землю не единичными катаклизмами, а миллионами мелких «насечек». Для Дарвина центральная идея Лайеля – о медленных природных силах, формирующих и трансформирующих земную поверхность, меняющих природу, – стала мощным интеллектуальным толчком. В феврале 1832 года, все еще «страдающий и недовольный», Дарвин достиг Южного полушария. Ветра и течения переменились – его встречал новый мир.
Как и предсказывали его наставники, Дарвин оказался превосходным добытчиком образцов и наблюдателем. «Бигль» двигался вниз вдоль восточного побережья Южной Америки с остановками в Монтевидео, Баия-Бланке, Пуэрто-Десеадо, и повсюду Дарвин прочесывал берега и мелководья заливов, тропические леса и утесы, принося на борт многообразные скелеты, растения, шкуры, камни и раковины – «кучу бесполезного хлама», как выражался недовольный капитан. Новые земли были щедры не только на образцы современных видов, но и на древние окаменелости; Дарвин выкладывал их длинными рядами вдоль палубы, словно организуя экспозицию в музее сравнительной анатомии. В сентябре 1832 года, исследуя серые утесы[89] и глинистые бухты неподалеку от Пунта-Альта, он обнаружил изумительное природное кладбище с окаменевшими костями гигантских вымерших млекопитающих. Он накинулся на челюсть одного из ископаемых, как безумный дантист, выковырял ее и забрал с собой, а на следующей неделе вернулся, чтобы извлечь из кварца огромный череп. Череп принадлежал мегатерию[90], гигантскому древнему ленивцу.
В том месяце среди гальки и каменных глыб Дарвин нашел еще много костей. В ноябре он купил у уругвайского фермера за 18 пенсов обломок громадного черепа другого вымершего млекопитающего – токсодона, который когда-то бродил по равнинам и напоминал носорога с огромными беличьими зубами. «Мне невероятно повезло, – писал Дарвин. – Некоторые млекопитающие просто огромны, и среди них много совершенно незнакомых». Чарльз нашел останки морской свинки размером с обычную свинью, панцирные пластины похожего на танк броненосца и довольно много костей тех слоноподобных ленивцев. Все это он уложил в ящики и отправил в Англию.
«Бигль» обогнул заостренный, по форме напоминающий челюсть архипелаг Огненная Земля и пошел вверх вдоль западного побережья Южной Америки. В 1835 году корабль покинул перуанскую столицу[91] Лиму и взял курс на Галапагосы, одинокую россыпь обугленных вулканических островов западнее Эквадора. По словам капитана, архипелаг представлял собой «мрачные черные груды <…> осколков лавы, формирующих береговую полосу, достойную преисподней». Это была дьявольская версия райского сада: девственный, уединенный, выжженный и скалистый ландшафт с навозоподобными кучами застывшей лавы, кишащими «мерзкими игуанами», черепахами и птицами. Корабль переходил от острова к острову, которых было примерно 18, и везде Дарвин выбирался на берег и карабкался по склонам из пемзы в поисках интересных экземпляров растений, птиц и ящериц. Экипаж выживал благодаря черепашьему мясному ассорти: казалось, что каждый остров предлагал новую разновидность черепах. За пять недель Дарвин пополнил свою коллекцию тушками вьюрков, пересмешников, дроздов, дубоносов, крапивников, альбатросов и игуан, а также рядом морских и наземных растений. Капитан морщился и качал головой.
20 октября корабль снова[92] вышел в открытое море и направился к Таити. Вернувшись в свою каюту, Дарвин приступил к систематическому анализу собранных птичьих тушек. Особенно его удивили пересмешники: их было две или три разновидности, каждая значительно отличалась от других и была эндемична для определенного острова. Тогда Дарвин небрежно нацарапал одно из самых значимых своих научных заключений: «Каждая разновидность привязана к своему острову». Распространялась ли эта закономерность на других животных – скажем, на черепах? Жила ли на каждом острове своя уникальная разновидность? Спохватившись, Чарльз решил выяснить, как обстоит дело с этими рептилиями, но опоздал: участники экспедиции, включая его самого, доели все образцы.
Когда Дарвин после пятилетнего плавания вернулся в Англию, среди естествоиспытателей он уже был в некоторой степени знаменит. Его богатый улов южноамериканских окаменелостей распаковывали, консервировали, каталогизировали и сортировали; находок Дарвина хватило бы не на один музей. Таксидермист и специализирующийся на пернатых художник Джон Гульд взял на себя классификацию птиц. Сам Лайель во время своего президентского обращения к членам Геологического общества продемонстрировал собранные Дарвином образцы. Ричард Оуэн, палеонтолог, который вознесся над всеми английскими естествоиспытателями подобно царственному соколу, спустился с высот Королевского хирургического общества, чтобы самостоятельно изучить и каталогизировать найденные Дарвином ископаемые скелеты.
Пока Оуэн, Гульд и Лайель определяли и систематизировали южноамериканские сокровища, Дарвин уже успел переключиться на другие проблемы. Он не относился к любителям дробить и распределять, он предпочитал улавливать общие принципы, познавать глубинную анатомию. В таксономии и номенклатуре он видел лишь средство, а не цель. Его гениальность заключалась в особом чутье на закономерности, или паттерны, – системы организации изучаемых образцов. Его захватывали не таксономические царства и порядки, а тот порядок, который царствует над всем биологическим миром. Тот же вопрос, который позже смутит Менделя на учительском экзамене, – почему живое организовано именно так? – поглотил Дарвина в 1836 году.
В тот год открылось два факта. Во-первых, разглядывая образцы, Оуэн и Лайель обнаружили четкую закономерность: скелеты, как правило, принадлежали гигантским вымершим разновидностям современных животных – обитателей именно тех мест, где были найдены окаменелости. Гигантские броненосцы когда-то бродили по тем же долинам, где сейчас пробираются сквозь кустарник маленькие броненосцы. Исполинские ленивцы жевали листья там же, где сейчас кормятся ленивцы поменьше. Огромные бедренные кости, которые выкопал Дарвин, принадлежали ламе размером со слона; подобная, только уменьшенная, разновидность ламы сейчас встречается исключительно в Южной Америке.
Второй странный факт установил Гульд. В начале весны 1837 года Гульд сообщил Дарвину, что те разнообразные крапивники, славки, дрозды и дубоносы, которых прислал Чарльз, вовсе не так разнообразны и даже не относятся к отдельным группам. Дарвин просто неверно их определил: все это были вьюрки – целых 13 видов! Их клювы, когти и оперение так различались, что только наметанный глаз мог разглядеть скрытое сходство. Похожая на крапивника «славка» с тонким горлышком и «дрозд» с мясистой шеей и клещевидным клювом на самом деле анатомически были очень близки – как вариации одного и того же вида. «Славка», вероятно, питалась фруктами и насекомыми (отсюда клюв в форме дудочки). Вьюрок с клювом в форме гаечного ключа склевывал крупные семена с земли. «Пересмешники», эндемичные для каждого острова, тоже оказались тремя видами вьюрков. Вьюрки, вьюрки, повсюду вьюрки. Казалось, что все острова породили собственные варианты: на каждом острове – птичка с уникальным «шрихкодом».
Перед Дарвином встал вопрос: как увязать эти два факта? И на краю сознания у него забрезжила идея – очень простая, но настолько радикальная, что ни один биолог до сих пор не отваживался рассматривать ее всерьез: что, если все вьюрки произошли от одного общего предка? Что, если маленькие, ныне живущие броненосцы – потомки огромного древнего броненосца? Лайель утверждал, что современный ландшафт Земли – результат кумулятивного действия природных сил на протяжении миллионов лет. В 1796 году французский физик Пьер-Симон Лаплас предположил, что даже Солнечная система сформировалась за миллионы лет в результате постепенного охлаждения и конденсации материи (когда Наполеон поинтересовался у Лапласа, почему же в его теории так очевидно не достает бога, тот ответил с восхитительным нахальством: «Сир, я не нуждался в этой гипотезе»). Быть может, современные формы животных – тоже результат длительного накопительного действия природных сил?
В июле 1837 года в удушающей жаре своего кабинета на Мальборо-стрит Дарвин начал набрасывать заметки в новой записной книжке (так называемой записной книжке «B»). Он фонтанировал идеями о том, каким образом животные могут изменяться во времени. Записи были неразборчивыми, стихийными и сырыми. На одной странице он набросал схему, к которой будет мысленно возвращаться вновь и вновь. Она отображала происхождение видов[93] больше похожим на ветвление дерева или на разделение реки на мелкие ручьи, чем на расхождение лучей от одного центрального «узла» – акта божественного творения. Ствол, обозначающий древнейшего предка, разделяется на все более мелкие ветви, и самые тонкие из них – это современные потомки предковой формы, ныне живущие виды. Возможно, растения и животные, подобно языкам, ландшафту, медленно остывающему космосу, произошли от более ранних форм путем постепенных, но постоянных изменений.
Дарвин осознавал, что его схема явственно богохульна. В христианской концепции видообразования бог находился четко в эпицентре; все животные, созданные им, разлетались подобно брызгам от акта творения. В рисунке Дарвина не было центра. 13 видов вьюрков не возникли по божественному капризу, а произошли естественным путем от изначальной предковой формы вьюрка. Дерево вьюрков, таким образом, росло вверх по мере увеличения числа поколений и вширь по мере накопления изменений. Тем же путем возникли и современные ламы – произошли от гигантского древнего животного. Вверху страницы Дарвин написал[94]: «Я так думаю» – будто отмечая, что покидает область общепринятой биологической и теологической логики.
Но если бог ни при чем, то какая сила движет происхождением видов? Что стало толчком к формированию 13 разновидностей вьюрков? Что заставило их предковый поток растечься извилистыми ручейками видообразования? Весной 1838 года, когда Дарвин начал новую записную книжку[95] – в красно-коричневой обложке и с маркировкой «C», – у него было уже больше мыслей насчет природы этой движущей силы.
Первая часть ответа была у Дарвина перед глазами с самого детства, проведенного в фермерских угодьях Шрусбери и Херефорда; но ему потребовалось преодолеть без малого 13 тысяч километров вокруг земного шара, чтобы увидеть знакомое явление новым взглядом. Этим явлением была изменчивость: животные время от времени рождали потомство с признаками, отличными от родительских. Фермеры пользовались этим феноменом тысячелетиями – скрещивали животных с интересующими признаками, а их потомков – друг с другом ради получения естественных вариантов, которые затем отбирали на протяжении многих поколений. Английские животноводы превратили выведение новых пород и форм в изощренную науку. Короткорогие быки из Херефорда в итоге мало походили на длиннорогих из Крейвена. Если бы такой же любознательный натуралист, как Дарвин, родился на Галапагосах и отправился в Англию, он, вероятно, изумился бы тому, что для каждого региона характерен свой вид коров. Но и Дарвин, и любой заводчик быков сказал бы вам, что породы не возникают случайно. Их намеренно создает человек путем избирательного скрещивания вариантов, полученных от одного предка.
Дарвин знал, что удачное сочетание изменчивости и искусственного отбора может дать потрясающие результаты. Можно получить голубей, напоминающих петухов или павлинов. Можно вывести собак с короткой шерстью, с длинной шерстью, пегих, в крапинку, кривоногих, лысых, с «обрубленным» хвостом; злых, кротких, робких, бойцовых, сторожевых. Но селекцию коров, собак и голубей направляла рука человека. Чья же рука вылепила таких непохожих друг на друга вьюрков на далеких вулканических островах или современных броненосцев из древних гигантов на равнинах Южной Америки?
Дарвин понимал, что балансирует на самой границе неизведанного, опасно кренясь в сторону ереси. Ему было бы проще приписать невидимую руку богу. Но ответ, который Чарльз нашел в октябре 1838 года[96] в книге другого священника, преподобного Томаса Мальтуса, не имел к божествам никакого отношения.
Томас Мальтус днем работал викарием в часовне деревни Оквуд в графстве Суррей, а по ночам тайно превращался в экономиста. Его истинной страстью было изучение популяций и их роста. В 1798 году Мальтус под псевдонимом[97] опубликовал провокационный труд «Опыт о законе народонаселения», где утверждал, что человеческая популяция находится в состоянии постоянной борьбы за ограниченные ресурсы. По мере роста населения ресурсы истощаются, доказывал Мальтус, и конкуренция между людьми ужесточается. Природная склонность популяции к увеличению жестко уравновешивается ограниченностью ресурсов; растущий спрос натыкается на падающее предложение. А затем мощные апокалиптические силы – «неурожаи, эпидемии, мор и бедствия[98] достигают ужасающих масштабов и уносят тысячи, десятки тысяч людей», выравнивая «численность населения с количеством пищи в мире». Пережившие этот «естественный отбор» вновь, подобно Сизифу, вступают в жестокий цикл, продвигаясь от одного фатального голода к другому.
В работе Мальтуса Дарвин сразу же нашел ответ на мучивший его вопрос. Борьба за выживание – вот та самая направляющая рука. Смерть – жнец природы, ее суровый скульптор. «Меня сразу поразила мысль[99], – писал Дарвин[100], – что при таких условиях благоприятные изменения должны иметь тенденцию сохраняться, а неблагоприятные – уничтожаться. Результатом этого и должно быть образование новых видов»[101].
У Дарвина сложился каркас его основной теории. Размножаясь, животные производят варианты, отличные от родителей[102]. Особи внутри вида постоянно конкурируют за дефицитные ресурсы. Когда недостаток ресурсов – во время голода, например, – выливается в «бутылочное горлышко»[103], лучше адаптированный к среде вариант «проходит естественный отбор». Адаптированные лучше всего – «наиболее приспособленные» – выживают (это выражение – «выживание наиболее приспособленных» – Дарвин позаимствовал[104] у последователя Мальтуса, экономиста Герберта Спенсера). Выжившие размножаются, производя все больше похожих на себя особей и направляя тем самым эволюционные изменения внутри вида.
Дарвин почти видел процесс, разворачивающийся в соленых заливах Пунта-Альта или на Галапагосских островах. Перед ним будто бы прокручивался на повышенной скорости – тысячелетие за минуту – фильм, длящийся эоны[105]. Стаи вьюрков питаются фруктами, у них все в порядке, и численность популяции быстро растет. Но вот, когда вьюрков уже очень, очень много, на острове наступает тяжелая пора – гнилостный сезон дождей или засушливое лето, – и запасы фруктов катастрофически сокращаются. Меж тем в одной из больших стай рождаются особи с нелепо большим клювом, позволяющим раскалывать зерна. По миру вьюрков прокатывается смертоносная волна голода, которую переживают большеклювые птицы, питаясь твердыми зернами. Новый вариант размножается, и вот начинает формироваться отдельный вид. Уродство становится нормой. А когда набирают силу очередные мальтузианские ограничения – болезни, голод, паразиты, – получают преимущество и размножаются другие новые линии, и в популяции снова происходит эволюционный сдвиг. Кто раньше был уродцем – теперь нормальный, а кто был нормальным – вымирает. Так, уродство за уродством, и движется эволюция.
К зиме 1839 года Дарвин выстроил каркас своей теории. Следующие несколько лет он одержимо возился с основными идеями, переставлял и так и этак «уродливые факты», словно экземпляры в коллекции окаменелостей, но все никак не удосуживался эту теорию опубликовать. В 1844 году он изложил ее главные моменты[106] в 255-страничном эссе и разослал своим друзьям для личного ознакомления. До полноценной публикации у него все не доходили руки. Вместо этого Дарвин занялся изучением усоногих раков, написанием статей по геологии, препарированием морских животных и заботой о семье. Его дочь Энни – старшая и самая любимая – подхватила инфекцию и умерла, оставив Дарвина в безутешном горе. На Крымском полуострове тем временем разгорелась жестокая война[107]. Мужчин призвали на фронт, и Европа погрузилась в депрессию. Казалось, материализовались образы описанной Мальтусом картины борьбы за выживание.
Летом 1855 года, больше чем через 15 лет после знакомства Дарвина с очерком Мальтуса и оформления его собственных идей по поводу видообразования, в издании Annals and Magazine of Natural History появилась статья молодого натуралиста Альфреда Рассела Уоллеса[108]. Содержание статьи оказалось весьма созвучным все еще не опубликованной теории Дарвина. Уоллес и Дарвин происходили из совершенно разных социальных и идеологических сред. В отличие от Дарвина – биолога и джентльмена, который вот-вот должен был снискать лавры самого прославленного естествоиспытателя Англии, – Уоллес родился в Монмутшире[109] в семье среднего класса. Он тоже читал очерк Мальтуса о народонаселении, но не в мягком кабинетном кресле, а на жесткой скамье в бесплатной библиотеке[110] Лестера (книга Мальтуса была очень популярна в британских интеллектуальных кругах). Как и Дарвин, Уоллес совершил путешествие[111] на борту корабля – в Бразилию – ради сбора образцов и окаменелостей, и это путешествие преобразило молодого человека.
В 1854 году Уоллес из-за кораблекрушения лишился всех собранных образцов и даже тех скромных средств, которыми располагал. Окончательно разоренный Уоллес отправился из бассейна Амазонки[112] к россыпи вулканических островов в Юго-Восточной Азии – к Малайскому архипелагу. Там, как и Дарвин, Уоллес заметил, что близкородственные виды, разделенные водой, поразительно отличаются друг от друга. К зиме 1857 года у него начала складываться глобальная теория о механизмах, определяющих столь высокую изменчивость на этих островах. Весной, прикованный к постели лихорадкой с галлюцинациями, он наконец нашел последнее недостающее звено своей теории. Он вспомнил работу Мальтуса. «Ответ был ясен[113], <…> [что] выживают наиболее приспособленные [варианты]. <…> Благодаря этому все детали строения животного могут изменяться так, как требуется». Даже язык его рассуждений – изменчивость, мутации, выживание, отбор – поразительно совпадал с терминологией Дарвина. Разделенные океанами и континентами, подгоняемые абсолютно разными интеллектуальными ветрами, два мыслителя прибыли в один порт.
В июне 1858 года Уоллес прислал Дарвину черновик статьи[114], где в общих чертах описывал свою теорию эволюции путем естественного отбора. Дарвин был потрясен сходством теории Уоллеса с его собственной и в панике примчался со своей рукописью к старому другу Лайелю. Осмотрительный Лайель порекомендовал Дарвину представить обе работы одновременно на летней встрече Линнеевского общества, чтобы ученые признали заслуги и Дарвина, и Уоллеса в этом открытии. 1 июля в Лондоне обе статьи[115] были по очереди зачитаны, после чего состоялось их публичное обсуждение. Ни одна из работ не вызвала особого интереса. В следующем мае президент общества[116] мимоходом заметил, что прошлый год не принес ни одного значимого открытия.
Подстегнутый произошедшим, Дарвин бросился дописывать монументальный опус, который должен был вместить все его открытия. В 1859 году он послал издателю Джону Мюррею нерешительное письмо: «Я искренне надеюсь, что моя книга[117] может оказаться достаточно успешной, чтобы Вы впоследствии не сожалели о ее издании». Холодным утром 24 ноября 1859 года, в четверг, книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» появилась на полках английских книжных магазинов. Она вышла тиражом 1250 экземпляров и продавалась по цене 15 шиллингов за штуку. Потрясенный Дарвин потом сделал запись: «Все копии были проданы в первый же день»[118].
Почти сразу пошел поток восторженных рецензий. Даже самые первые читатели «Происхождения видов…» осознавали далеко идущие последствия выхода этой книги. «Заключения, сделанные мистером Дарвином[119], в случае подтверждения повлекут за собой переворот фундаментальных доктрин естественной истории, – говорилось в одной из рецензий. – Мы полагаем, что это одна из самых важных работ[120], когда-либо подаренных обществу».
Поводы для критики тоже были. Дарвин сознательно обходил вопрос применимости своей теории к человеческой эволюции (что, вероятно, было мудро): единственное замечание по поводу происхождения человека в книге – «Много света будет пролито на происхождение человека[121] и на его историю»[122] – могло бы победить в конкурсе на лучшую научную недосказанность века. Но палеонтолог-систематик Ричард Оуэн, научный оппонент и друг Дарвина, быстро уловил философское значение теории: если виды возникают так, как предположил Дарвин, то в контексте эволюции человека это наводит на вполне определенную мысль. «Человек может быть видоизмененной обезьяной» – эта идея была так отвратительна, что Оуэн не вынес даже раздумий над ней. Он писал, что Дарвин без достаточных экспериментальных подтверждений выдвинул самую смелую из новых биологических теорий, предложив вместо плодов «интеллектуальную шелуху»[123]. «Вам придется призвать свое воображение[124], чтобы заполнить огромные пробелы», – сетовал Оуэн словами самого́ Дарвина.
«Огромный пробел»[125]
Интересно, мистер Дарвин когда-нибудь брал на себя труд подумать, как быстро истощится любой изначальный запас <…> геммул. <…> Мне кажется, если бы его хоть мимолетно посетила эта мысль, он бы точно оставил свои фантазии о «пангенезисе».
Александр Вилфорд Холл, 1880[126]
О научной смелости Дарвина говорит то, что он не боялся предполагать происхождение человека от обезьяноподобных предков. О его научной добросовестности говорит то, что гораздо больше неприятия его теории обществом он боялся нарушить целостность ее внутренней логики. Оставалось заполнить один особенно «огромный пробел»: наследственность.
Дарвин понимал, что теория наследственности не уступает по значимости теории эволюции; более того, она имеет решающее значение. Чтобы на Галапагосских островах в результате естественного отбора мог появиться вьюрок-дубонос, должны выполняться два, казалось бы, противоречивых условия. Во-первых, короткоклювый «нормальный» вьюрок должен быть способен время от времени производить потомков с большим клювом – монстров или уродцев (Дарвин называл таких особей «спортами» – выразительным словом, намекающим на бесконечные капризы природы, на ее жажду развлечений. Главным двигателем эволюции, по мнению Дарвина, было не стремление природы к определенной цели, а ее чувство юмора). Во-вторых, у вьюрка с большим клювом должна быть возможность передать свой признак потомству, зафиксировать свое отклонение в будущих поколениях. Если одно из условий не выполняется – в ходе размножения не появляется новых вариантов или их отклонения не наследуются, – природа вязнет в болоте, шестеренки эволюции останавливаются. Чтобы теория Дарвина работала, наследственность должна быть одновременно и консервативной, и допускающей изменения; ей должны быть свойственны и стабильность, и мутации.
Дарвин постоянно задавался вопросом, что за механизм мог бы воплотить эти противоположные свойства. В те времена считалось, что наиболее вероятный механизм наследственности описывает выстроенная в XVIII веке теория французского биолога Жан-Батиста Ламарка. По мнению Ламарка, наследственные признаки[127] передаются от родителей как сообщение или рассказ – то есть потомство получает инструкцию. Ламарк считал, что животные приспосабливаются к среде путем усиления или ослабления определенных черт, и «степень выраженности признака пропорциональна[128] времени его использования». Вьюрок, вынужденный питаться твердыми зернами, приспосабливается, делая свой клюв мощнее. На такой диете клюв вьюрка постепенно станет тверже и примет форму пассатижей. Это приобретенное свойство в виде инструкции перейдет его потомкам, и их клювы благодаря родителю тоже будут твердыми, уже подготовленными к расклевыванию зерен. По той же логике антилопы, объедающие высокие деревья, однажды понимают, что для доступа к верхней листве им нужно растянуть шеи. За счет «использования и неиспользования», по выражению Ламарка, шеи антилоп удлинятся, а потомство, унаследовавшее эту черту, даст начало жирафам (обратите внимание на сходство рассуждений Ламарка – о том, что в сперму от тела переходят «инструкции», – с пифагоровой концепцией человеческой наследственности, согласно которой сперма собирает сообщения от всех органов).
Непосредственная привлекательность концепции Ламарка заключалась в том, что она предлагала обнадеживающую историю прогрессивного развития: все животные постепенно приспосабливаются к своей среде, медленно, но верно взбираясь по эволюционной лестнице вверх, к совершенству. Эволюция и адаптация спаяны в единый механизм: адаптация и есть эволюция. Эта схема не только была интуитивно понятной, но и хорошо вписывалась в религиозную парадигму – по крайней мере, достаточно хорошо для биологической теории. Пусть изначально и созданные богом, животные все же имеют возможность совершенствовать свою форму, приспосабливаясь к изменчивому миру природы. На идею Великой Цепи Бытия[129] теория не посягала. И даже больше – укрепляла ее позиции, ведь в конце длинного пути адаптивной эволюции стояло самое приспособленное, идеально распрямленное, совершеннейшее из млекопитающих – человек.
Идеи Дарвина явно шли вразрез с эволюционными представлениями Ламарка. Жирафы не произошли от деформированных постоянной тягой к недоступной листве антилоп. Они появились потому, что антилопа-предок породила вариант антилопы с длинной шеей, и этот вариант потом постепенно отбирался под действием какой-то естественной силы вроде голода. Но Дарвин продолжал возвращаться к механизму наследственности: как появилась первая антилопа с длинной шеей?
Дарвин пытался придумать теорию наследственности, совместимую с идеей эволюции. Но здесь дала о себе знать слабая сторона Дарвина: он не был особо одаренным экспериментатором. Мендель, как мы увидим, был прирожденным садоводом, ему на интуитивном уровне удавалось скрещивать растения, считать семена, выделять признаки. Дарвин же был «садовым копателем»: классифицировал растения, сортировал образцы, очерчивал таксоны. Коньком Менделя был эксперимент: манипуляции с организмами, перекрестное опыление тщательно отобранных вариантов, проверка гипотез. Коньком Дарвина была естественная история – реконструкция прошлого планеты путем наблюдения за природой. Мендель, монах, выделял детали целого и виртуозно работал с дробностями; Дарвин, чуть не ставший когда-то священником, напротив, синтезировал из деталей целое.
Но наблюдать за природой, как оказалось, совсем не то же самое, что экспериментировать с ней. Как ни посмотри, ничто в мире природы не намекает на существование генов; напротив, чтобы дойти до идеи дискретных частиц наследственности, нужно совершить довольно причудливые экспериментальные манипуляции. Не имея возможности подобраться к теории наследственности экспериментальным путем, Дарвин был вынужден опираться исключительно на теоретические построения. Он бился над концепцией около двух лет и чуть не довел себя до нервного расстройства[130], когда наконец решил, что наткнулся на подходящую идею. Дарвин предположил, что клетки всех живых организмов производят мелкие частицы, в которых заключена наследственная информация. Он назвал их геммулами[131]. Геммулы циркулируют по телам родителей. Когда животное или растение достигает репродуктивного возраста, информация в геммулах переносится в половые клетки (сперматозоиды и яйцеклетки). Соответственно, информация о «состоянии» тела переходит от родителей к потомству во время зачатия. Как и у Пифагора, в модели Дарвина каждый организм несет информацию о строении органов и тканей в миниатюрных частицах, однако дарвиновская информационная система децентрализована: новый организм строится по результатам «парламентского голосования». Геммулы из руки содержат инструкцию по формированию новой руки, геммулы из уха кодируют построение нового уха.
Как геммулярные сообщения от матери и отца влияют на развивающийся плод? Здесь Дарвин вернулся к старой идее: инструкции от женщины и мужчины просто встречаются в эмбрионе и смешиваются, как краски. Идея смешения наследственного материала[132] большинству биологов была знакома: она лишь переформулировала мысль Аристотеля о смешении мужских и женских черт. Казалось, Дарвину чудом удалось объединить противоположные полюса биологии. В новой теории наследственности он сплавил пифагорова гомункула (геммулы) с аристотелевскими сообщениями и смешением признаков.
Дарвин назвал свою теорию «пангенезис»[133] – «зарождение от всего» (так как все органы формируют геммулы). В 1867 году, примерно через 10 лет после выхода «Происхождения видов…», Дарвин заканчивал новую рукопись – «Изменение животных и растений в домашнем состоянии»[134], в которой подробно излагал свой взгляд на наследственность. «Это поспешно выстроенная, сырая гипотеза[135], – признавался Дарвин, – но она принесла мне изрядное облегчение». Своему другу Эйсе Грею он написал: «Пангенезис, пожалуй, назовут больной фантазией[136], но в глубине души я верю, что эта теория содержит великую истину».
«Изрядное облегчение» оказалось непродолжительным: скоро «больная фантазия» Дарвина развеялась под натиском реальности. Тем летом, пока Дарвин работал над преобразованием рукописи «Изменения животных…» в полноценную книгу, в журнале North British Review вышла рецензия на его предыдущий труд, «Происхождение видов…». Рецензия таила аргумент против теории пангенезиса, самый мощный аргумент из всех, с которыми когда-либо доведется столкнуться Дарвину.
От автора рецензии сложно было ожидать критики работы Дарвина: Флеминг Дженкин, инженер-математик и изобретатель из Эдинбурга, вообще вряд ли до этого писал о биологии. Блестящий специалист, жесткий в суждениях, Дженкин имел широкий круг интересов, куда входили лингвистика, электротехника, механика, арифметика, физика, химия и экономика. Он читал невероятно много самой разной литературы: Диккенса, Дюма, Остин, Элиота, Ньютона, Мальтуса, Ламарка. Когда ему попалась книга Дарвина, Дженкин прочитал и ее, тщательно проследил логику рассуждений и немедленно нашел фатальный пробел в обосновании выводов.
Главная претензия Дженкина к работе Дарвина звучала так: если наследственные признаки в каждом поколении продолжают «смешиваться» друг с другом, то почему любая вариация при скрещиваниях ее носителя с исходными формами не «размывается» полностью? «[Вариант] будет задавлен[137] за счет численного превосходства, – писал Дженкин, – и спустя несколько поколений отличительные черты этого варианта исчезнут». В качестве примера Дженкин сочинил историю (пропитанную характерным для того времени расизмом): «Представим себе белого человека, потерпевшего кораблекрушение на острове, населенном неграми. <…> Наш выживший герой, возможно, станет там королем, убьет много чернокожих людей в борьбе за выживание и заведет много жен и детей».
Если наследственные инструкции смешиваются друг с другом, то «белый человек» Дженкина обречен – по крайней мере, в генетическом смысле. Его дети от черных жен унаследуют половину его наследственного материала, внуки – четверть, правнуки – восьмую часть, праправнуки – шестнадцатую, и так далее – пока через несколько поколений его материал не растворится полностью. Даже если бы «белые задатки» по качеству превосходили «черные» – то есть, по терминологии Дарвина, обеспечивали лучшую приспособленность, – ничто не спасло бы их от окончательного растворения после многократного смешивания с «черными». В конце концов единственный белокожий король стерся бы из генетической истории острова, несмотря на то, что детей у него было больше, чем у всех мужчин его поколения, и его наследственные задатки для выживания были самыми полезными.
Хотя Дженкин – возможно, нарочно – насытил свою историю отвратительными деталями, ее главная мысль была ясна. Если наследственность лишена механизма поддержания вариабельности (закрепления нового признака), это означает, что все измененные черты организмов в конце концов канут в небытие благодаря разбавлению. Уродцы навсегда останутся уродцами – если только не передадут свои признаки следующему поколению. Просперо мог без опаски пустить Калибана бродить по уединенному острову[138]. Сам принцип смешения создал бы естественную тюрьму для его наследственного материала. Даже если бы Калибану удалось продолжить род – точнее, именно в этом случае, – его наследственные черты постепенно растворились бы в океане «нормальности». Смешение – то же самое, что бесконечное разбавление, и никакая эволюционная информация в таких условиях не сохранится. Когда художник первый раз полощет кисть с краской в стакане с водой, вода становится синей или желтой. Но художник будет смывать с кисти и другие краски, и в какой-то момент вода неизбежно станет грязно-серой. Если ту же логику применить к животным и наследственности, то какая сила сможет спасти любую необычную черту от исчезновения? Почему, мог бы спросить Дженкин, все Дарвиновы вьюрки постепенно не посерели?[139]
Дарвина глубоко потрясли доводы Дженкина. «Флеминг Дженкин доставил мне много хлопот, – писал он, – но его комментарии были для меня полезнее, чем все прочие эссе и рецензии». Железную логику Дженкина нельзя было отрицать[140]: чтобы спасти свою теорию эволюции, Дарвину нужна была согласующаяся с ней теория наследственности.
Но какие свойства наследственности могли бы решить эту проблему? Чтобы дарвиновская эволюция работала, механизм наследования должен предполагать сохранение информации без разбавления или рассеяния. Смешение не подходит. Должны быть какие-то атомы информации – дискретные, нерастворимые, крайне стабильные частицы, которые передаются от родителя ребенку.
Но существовали ли доказательства такого «постоянства» в наследственности? Если бы Дарвин тщательнее просмотрел книги в своей обширной библиотеке, он нашел бы ссылку на малоизвестную статью малоизвестного ботаника из Брно. Скромно озаглавленная «Опыты над растительными гибридами»[141] и опубликованная в 1866 году в журнале, который почти никто не читал, статья была написана на сложном немецком и изобиловала математическими таблицами, которые Дарвин презирал. Тем не менее Дарвин был удивительно близок к прочтению этой статьи: в начале 1870-х, читая книгу о гибридах растений, он оставил развернутые пометки на страницах 50, 51, 53 и 54[142] – но таинственным образом пропустил страницу 52, где та самая статья о гибридах гороха подробно обсуждалась.
Если бы Дарвин прочитал ее – особенно когда писал «Изменение животных…» и строил концепцию пангенезиса, – он мог бы получить важнейший ключ к пониманию его собственной теории эволюции. Он был бы очарован ее идеями, поразился бы необыкновенной объяснительной силе и скрупулезности труда ее автора. Дарвин с его острым умом сразу оценил бы, какое значение имеет статья для понимания эволюции. Кроме того, он был бы рад увидеть, что автор статьи, Грегор Иоганн Мендель, – тоже клирик, августинский монах, который проделал другой, не менее грандиозный путь из теологии в биологию, приведший его за границы изведанного.
«Цветы он любил»[143]
Хотим познать лишь материю и силы, которые ей движут. Метафизика нас не интересует.
Манифест Общества естествоиспытателей города Брно, где в 1865 году впервые была прочитана статья Менделя[144]
Весь органический мир – результат бесчисленных сочетаний и вариаций относительно небольшого числа факторов. <…> Эти факторы – частицы, которые наука наследственности должна исследовать. Подобно тому, как физика и химия обращаются к молекулам и атомам, биологические науки должны постигать эти частицы, чтобы объяснить <…> феномены мира живого.
Хуго де Фриз[145]
Когда весной 1856 года Дарвин приступал к своему опусу об эволюции, Мендель решил вернуться в Вену[146], чтобы пересдать экзамен, заваленный в 1850-м. На этот раз он ощущал себя намного увереннее. Два года Грегор изучал физику, химию, геологию, ботанику и зоологию в Венском университете, после чего в 1853 году вернулся в монастырь и получил место замещающего учителя в Высшей реальной школе города Брно. Руководство школы очень трепетно относилось к экзаменационным проверкам и квалификации учителей, так что пришло время снова попытаться сдать сертификационный экзамен. Мендель подал соответствующую заявку в Вену.
К сожалению, вторая попытка тоже оказалась катастрофической. Мендель был болен – скорее всего, из-за сильной тревоги. Он прибыл в Вену с раскалывающейся головой и в ужасном настроении и в первый же из трех дней испытаний повздорил с экзаменатором по ботанике. Предмет разногласий в точности неизвестен, но вероятнее всего, спор касался образования видов, изменчивости и наследственности. Мендель решил не продолжать экзамен, вернулся в Брно и смирился с судьбой замещающего учителя. Больше он не предпринимал попыток получить сертификат.
В конце лета, все еще переживая из-за проваленного экзамена, Мендель собрал урожай гороха. Это был не первый его урожай: Грегор уже три года скрещивал горох в стеклянной монастырской теплице. В окрестных хозяйствах он добыл 34 сорта гороха и принялся скрещивать растения внутри каждого сорта, чтобы отобрать среди них «чистокровные» (или чистые линии) – такие сорта, в которых потомки ничем не отличаются от родителей: ни окраской цветков, ни текстурой семян[147]. Такие растения из поколения в поколение «оставались неизменными без всяких исключений»[148], писал Мендель. Подобное порождало подобное. Материал для экспериментов, таким образом, был готов.
Мендель заметил, что у чистых линий есть четкие наследуемые признаки с несколькими вариантами проявления. При скрещивании высоких растений получаются только высокие; низкорослые растения порождают только карликовые. У одних линий все семена гладкие, у других – угловатые и морщинистые. Незрелые стручки – или зеленые, или ярко-желтые; зрелые – или равномерно выпуклые, или с перетяжками между горошинами. Мендель перечислил семь признаков чистых линий:
Текстура поверхности семян (гладкая или морщинистая).
Цвет семян (желтый или зеленый).
Окраска цветков (белая или пурпурная).
Расположение цветка (верхушечное или пазушное).
Цвет стручка (зеленый или желтый).
Форма стручка (равномерно выпуклый или с перетяжками).
Высота растения (высокое или низкое).
Мендель заметил, что у каждого признака есть как минимум два варианта – как бывает два варианта произношения слова или расцветки пиджака (у признаков, с которыми работал Мендель, было всего два варианта проявления, но в природе часто встречаются признаки с большим числом вариантов – например, у некоторых растений цветки могут быть белыми, пурпурными, лиловыми или желтыми). Позже биологи назовут эти варианты аллелями, от латинского allos, что примерно означает «один из двух подтипов какого-то типа». Пурпурный и белый представляют два аллеля одного признака – окраски цветков. Высокое и низкое – два аллеля другого признака – высоты растений.
Чистые линии были лишь исходным материалом для эксперимента. Мендель знал: чтобы добраться до природы наследственности, нужны гибриды; только «бастард» (так немецкие ботаники называли экспериментальные гибриды) даст ключ к пониманию природы чистоты. Позже об этом забыли[149], но на самом деле Мендель отлично осознавал огромное значение своего исследования: он писал, что интересующий его вопрос критически важен в контексте «истории эволюции органических форм»[150]. Удивительно, но всего за два года ему удалось наработать базовый материал для изучения некоторых важных свойств наследственности. Если кратко, Мендель задался вопросом: получится ли растение средней высоты, если скрестить высокое растение с низким? Смешаются ли эти два аллеля?
Получение гибридов было утомительным занятием. В природе горох, как правило, самоопыляется. Пыльники и рыльце пестика зреют рядом в тесной «лодочке», и пыльца просто осыпается на рыльце родного цветка. Совсем другое дело перекрестное опыление. Чтобы создать гибриды, Менделю приходилось «кастрировать» каждый цветок, удаляя пыльники, и переносить оранжевый порошок пыльцы из одного цветка в другой. Он работал в одиночку, сгорбившись над грядками; в одной руке – кисточка для пыльцы, в другой – пинцет для отщипывания пыльников. Свою рабочую шляпу Грегор вешал на арфу, и потому на каждое посещение сада его напутствовал кристально чистый звук одной ноты. Это была его музыка.
Сложно сказать, насколько другие монахи аббатства были осведомлены о занятиях Менделя и интересовались ли ими вообще. Еще в начале 1850-х Мендель покушался на более смелый вариант эксперимента – тайком развел в своей келье белых и серых мышей и пытался получить их гибриды, – однако настоятель монастыря, обычно терпимый к причудам Менделя, на сей раз вмешался. Монах, склоняющий мышей к соитию, чтобы раскрыть природу наследственности, – это было уже слишком даже по меркам августинцев. Тогда Мендель переключился на растения и перенес свои эксперименты в теплицу. Противиться такому решению настоятель не стал: эксперименты с мышами он пресек, но гороху согласился дать шанс.
Поздним летом 1857 года монастырский сад[151] раскрасился белыми и пурпурными сполохами – зацвел первый гибридный горох. Мендель отметил окраску цветков каждого растения, а когда созрели стручки, раскрыл створки и изучил семена. Затем он провел новые гибридизации: скрестил низкие растения с высокими, желтостручковые – с зеленостручковыми, обладателей морщинистых горошин – с обладателями гладких. В следующем порыве вдохновения Мендель скрестил гибриды друг с другом и получил гибриды гибридов. В подобном духе эксперименты продолжались восемь лет. Посадки тем временем вышли за пределы теплицы и заняли прямоугольный участок суглинка 6 х 30 м рядом с трапезной. Этот участок Мендель мог видеть из окна своей кельи. Когда ветер вздымал занавески, комната будто бы превращалась в гигантский микроскоп с горохом на предметном стекле. Пальцы Менделя немели от бесконечного вылущивания гороха, а его рабочий журнал был под завязку заполнен таблицами и пометками с данными о тысячах скрещиваний.
«Как ни мала мысль, она все же может заполнить всю жизнь»[152], – сказал философ Людвиг Витгенштейн[153]. Действительно, жизнь Менделя, на первый взгляд, была заполнена крошечными мыслями. Посев, цветение, опыление, обрывание, вылущивание, подсчет – и опять все сначала. Этот процесс был мучительно скучным, но Мендель знал, что маленькие мысли часто вырастают в глобальные законы. Если бы мы могли выделить самое важное наследие мощной научной революции, прокатившейся по Европе XVIII века, это было бы осознание, что природа подчиняется единообразным и всеобъемлющим законам. Та же сила, что заставила яблоко упасть с ветки Ньютону на голову, заставляет планеты двигаться по своим орбитам. Если существует универсальный закон наследственности, значит, и зарождение гороха, и зарождение людей происходит в соответствии с ним. Опытная делянка Менделя, может, и была мала, но это вовсе не лишало его больших научных амбиций.
«Эксперименты продвигались медленно, – писал Мендель. – Сначала требовалось определенное терпение, но вскоре я обнаружил, что дела идут лучше, если вести несколько экспериментов одновременно». Проводя несколько скрещиваний параллельно, он получал данные быстрее и постепенно начал различать в них некоторые закономерности: непредвиденное постоянство, консервативные соотношения, количественную ритмичность. Наконец-то он вплотную подобрался к внутренней логике наследственности.
Первую закономерность было легко заметить. У гибридов первого поколения индивидуальные наследственные черты – растение высокое или низкое, с зелеными семенами или с желтыми – совершенно не смешивались. Высокие растения при скрещивании с карликовыми неизменно давали только высокие. От гибридизации обладателей круглых горошин с обладателями морщинистых получались экземпляры только с круглыми горошинами. Этой закономерности подчинялись все семь выделенных Менделем признаков. По его словам, «характер гибридов» не был промежуточным, а «повторял одну из родительских форм». Мендель назвал варианты признаков, которые «берут верх»[154] над другими, доминантными, а пропадающие – рецессивными.
Даже если бы Мендель на этом закончил эксперименты, огромный вклад в теорию наследственности уже был бы сделан. Существование доминантных и рецессивных аллелей признаков противоречило теориям XIX века о смешанном наследовании: у гибридов Менделя не было промежуточных черт. Проявлялся лишь один аллель, заставляя другой вариант признака исчезнуть.
Но куда пропадает рецессивный признак? Доминантный аллель его поглощает или устраняет? Чтобы ответить на этот вопрос, Мендель провел второй эксперимент. Он переопылил друг с другом гибриды от скрещивания высоких растений с низкими, получив третье поколение гороха[155]. Так как высокорослость – доминантный признак, все родительские особи в этом эксперименте были высокими, а признак низкорослости как бы пропадал. Результаты же их скрещивания оказались совершенно неожиданными. У части потомков низкорослость восстановилась[156] в первозданном виде после исчезновения на целое поколение. То же самое произошло и с остальными шестью признаками. Белые цветки исчезли у гибридов первого поколения, чтобы вновь появиться у гибридов второго. Мендель понял, что гибридный организм – составная структура с заявляющим о себе доминантным аллелем и скрытым рецессивным (Мендель называл такие варианты формами; термин «аллель» ввели генетики только в 1900-х).
Изучая математические связи – соотношения – между разными типами потомков от каждого скрещивания, Мендель начал строить модель наследования признаков[157]. Согласно этой модели, каждая форма признака определяется независимой неделимой частицей информации. Для каждого признака сушествуют два варианта частиц (два аллеля): определяющие высокий рост или низкий, белые цветы или фиолетовые, и так далее. Растение наследует по одной копии частиц от каждого родителя: один аллель – от отцовской особи через спермий, другой – от материнской через яйцеклетку. У гибрида сохраняются в целости оба аллеля, хотя обнаруживает свое существование только один.
Между 1857 и 1864 годами Мендель тысячами лущил плоды гороха и маниакально заносил в таблицы результаты гибридизаций («желтые семена, зеленые семядоли, белые цветы»). Данные оставались поразительно согласующимися. Маленькая делянка в монастырском саду поставляла ошеломляющие объемы данных для анализа: 28 тысяч растений, 40 тысяч цветков, около 400 тысяч семян. «В самом деле, нужна некоторая отвага[158], чтобы взяться за столь масштабный труд», – напишет позже Мендель. Но отвага – не то слово. В его работе больше проявлялось другое качество, которое можно было бы определить как чуткость (tenderness).
Этим словом редко описывают науку или ученых. Оно имеет общие корни с «уходом» (tending) – занятием фермера или садовника, но еще и с «натяжением» (tension), как у усика гороха, тянущегося к солнцу или к опоре. Мендель был в первую очередь садовником. Его гениальность подпитывалась не глубокими знаниями догматов биологии (к счастью, он провалил экзамен, притом дважды), а скорее инстинктивным знанием сада, сочетающимся с острой наблюдательностью. Кропотливое перекрестное опыление сеянцев, тщательное ведение таблиц с цветами семядолей и другими признаками вскоре наградили Менделя находками, необъяснимыми с позиций классического понимания наследования.
Эксперименты Менделя говорили, что наследственность можно объяснить только передачей дискретных единиц информации от родителей к потомкам. Спермий несет одну копию этой информации (аллель), яйцеклетка – другую (второй аллель); организм, таким образом, получает по одному аллелю от каждого из родителей. Когда этот организм сам производит спермии или яйцеклетки, аллели разделяются вновь: в яйцеклетку или спермий попадает лишь один из них – чтобы соединиться в новой комбинации в следующем поколении. Один аллель может доминировать над другим, когда они вместе. В присутствии доминантного аллеля рецессивный будто бы исчезает. Но если растение следующего поколения получает два рецессивных аллеля, свойства этого аллеля снова проявляются. Содержащаяся в одном аллеле информация неделима; сами частицы наследственности всегда остаются целыми.
Пример Доплера вернулся к Менделю: за шумом пряталась музыка, за кажущимся беспорядком скрывались законы, и только глубоко искусственный эксперимент – выведение гибридов чистых линий с простыми признаками – мог выявить эти скрытые закономерности. В основе великого разнообразия живых организмов – высоких, низких, морщинистых, гладких, зеленых, желтых – лежали частицы наследственной информации, передающиеся от поколения к поколению. Каждый признак наследуется как единое целое, самостоятельное, отчетливое и постоянное. Хоть Мендель и не дал название своей единице наследственности, он открыл ключевые свойства гена[159].
8 февраля 1865 года, через семь лет после выступления Дарвина и Уоллеса на встрече Линнеевского общества в Лондоне, Мендель представил первую часть своей статьи[160] на собрании куда менее помпезном: он обращался к фермерам, ботаникам и прочим биологам в Обществе естествоиспытателей города Брно (вторую часть он прочитал 8 марта, месяцем позже). Об этом историческом событии осталось мало записей. Известно, что в небольшом помещении Менделя слушали примерно 40 человек. Статья, набитая десятками таблиц и таинственными обозначениями признаков и вариантов, была весьма непростой даже для статистиков. Биологам же она, вероятно, казалась полной абракадаброй. Ботаники изучали в основном морфологию, не нумерологию. Подсчеты вариантов семян и цветков у десятков тысяч гибридных образцов должны были сильно озадачить современников Менделя; идея скрывающихся в природе мистических числовых «гармоний» вышла из моды вместе с Пифагором. После доклада Менделя один профессор ботаники решил обсудить «Происхождение видов…» Дарвина и теорию эволюции. Никто из слушателей не понял, как связаны эти темы. Даже если Мендель знал о возможной связи между «единицами наследственности» и эволюцией – а его черновые записи указывают на поиски такой связи, – в тот момент он не высказал об этом ничего определенного.
Статью Менделя опубликовал ежегодный журнал Proceedings of the Brno Natural Science Society[161]. Немногословный в жизни, на бумаге Мендель был еще лаконичнее: итог почти десятилетней работы он уместил всего на 44 удивительно унылых страницах. Копии были отправлены в десятки учреждений, включая английские Королевское и Линнеевское общества и Смитсоновский институт в Вашингтоне. Сам Мендель запросил 40 оттисков, которые, снабдив подробным предисловием, разослал ученым. Вполне вероятно, среди них был и Дарвин[162], но нет никаких свидетельств прочтения им этой статьи.
А далее воцарилось, как выразился один генетик, «одно из самых странных затиший в истории биологии»[163]. С 1866 по 1900 год статью процитировали всего четыре раза, что фактически означало ее научную кончину. Даже в 1890-е, когда вопросами человеческой наследственности и манипулирования ею серьезно озаботились политики США и Европы, имя и работа Менделя оставались неизвестными. Исследование, ставшее основой современной биологии, было погребено на страницах местечкового журнала, который читали в основном растениеводы затерянного в Центральной Европе городка.
В канун нового 1867 года Мендель отправил письмо в Мюнхен физиологу растений швейцарского происхождения Карлу фон Негели, приложив описание своих экспериментов. Негели ответил только через два месяца (что уже само по себе говорило о дистанцировании) сообщением вежливого, но ледяного тона. Авторитетный ботаник, Негели не уделил особого внимания Менделю и его работе. Питая инстинктивное недоверие к ученым-любителям, он небрежно приписал к своему ответу: «лишь эмпирически, <…> нельзя доказать рационально»[164], – будто бы экспериментально выведенные законы были хуже умозрительных.
Но Мендель не сдался и продолжил писать. Из всех коллег-ученых уважения Негели он искал больше всего, и следующие его письма были почти надрывными, в них сквозило отчаяние. «Я знал, что полученные мной результаты трудно увязать с современной наукой»[165], – писал Мендель. И добавлял, что, конечно, «изолированный эксперимент – рискованный вдвойне»[166]. Но Негели оставался скептичным и пренебрежительным, часто даже резким. Ему казалось абсурдным даже допущение, что Менделю удалось вывести фундаментальный закон природы – на что вообще покушаться рискованно, – лишь составляя таблицы гороховых гибридов. Если Мендель верил в святость Церкви, то должен был придерживаться ее воззрений; сам Негели верил в святость Науки.
Негели изучал другое растение – ястребинку с желтыми цветками – и убедил Менделя попробовать воспроизвести свои открытия на нем. Это был катастрофически неудачный выбор. На горохе Мендель остановился после тщательных раздумий: доводами в пользу этого объекта служили половое размножение, четко различающиеся варианты признаков и – при должном старании селекционера – возможность перекрестного опыления. Ястребинка же, хоть Мендель и Негели об этом не подозревали, может размножаться бесполым путем (без пыльцы и яйцеклеток). Перекрестно опылить ястребинку практически невозможно, ее гибриды получаются очень редко. Результаты предсказуемо оказались полной ерундой. Мендель пытался разобраться в математике гибридных ястребинок (которые в действительности и гибридами-то не были), но не мог уловить никаких закономерностей, типичных для гороха. Между 1867 и 1871 годами Мендель трудился еще усерднее, чем раньше. Он выращивал тысячи ястребинок на другом участке сада, кастрируя цветы тем же пинцетом и перенося пыльцу той же кисточкой, что и в опытах с горохом. Письма к Негели становились все более удручающими. Негели отвечал время от времени, но его ответы были редкими и снисходительными. Видного ботаника мало заботили все более и более путаные бредни монаха-самоучки из Брно.
В ноябре 1873 года Мендель написал Негели в последний раз[167]. Страшно сокрушаясь, он сообщал, что не может довести эксперименты до конца: его избрали на должность аббата, и новые административные обязанности не оставляют возможностей для опытов с растениями. «Я чувствую себя по-настоящему несчастным[168] из-за того, что должен забросить свои растения <…> полностью», – писал Мендель. Наука отодвинулась на задний план. Копились налоги. Ждали назначения новые священнослужители. Счет за счетом, письмо за письмом, научное воображение Менделя постепенно задыхалось под грузом административной работы.
Грегор Мендель написал лишь одну монументальную статью о гибридах гороха. Здоровье стало подводить его в 1880-х, постепенно заставляя отойти от дел – всех, кроме организации садовых работ и любимой метеорологии. 6 января 1884 года он умер[169] в Брно от почечной недостаточности. В местной газете вышел некролог, но там ни слова не было об экспериментах Менделя. Пожалуй, самой лучшей в нем была короткая цитата из стихотворения, которое молодой монах посвятил своему аббату: «Мягкий, щедрый и добрый <…> Цветы он любил»[170].
«Некий Мендель»
Происхождение видов – естественное явление.
Жан-Батист Ламарк[171]
Происхождение видов – объект изучения.
Чарльз Дарвин[172]
Происхождение видов – объект экспериментального исследования.
Хуго де Фриз[173]
В 1878 году 30-летний голландский ботаник Хуго де Фриз отправился в Англию, чтобы увидеть Дарвина[174]. Это было скорее паломничество, нежели научный визит. Дарвин летом отдыхал в поместье своей сестры в Доркинге, но де Фриз выследил его и там. Тощий, напряженный и вспыльчивый, со взглядом пронзительным, как у Распутина, и бородой, способной соревноваться с дарвиновской, де Фриз внешне походил на молодую версию своего кумира. Кроме того, у него было дарвиновское упорство. Встреча, должно быть, оказалась изматывающей: всего через два часа Дарвин вынужден был извиниться и пойти отдохнуть. Но де Фриз покинул Англию другим человеком. Короткой беседы хватило, чтобы Дарвин вмонтировал шлюз в его стремительный разум, навсегда изменив направление мыслей. Вернувшись в Амстердам, де Фриз резко оборвал свои исследования, посвященные движению усиков растений, и погрузился в разгадывание тайн наследственности.
К концу XIX столетия проблема наследственности обрела почти мистическую ауру притягательности – как Великая теорема Ферма́, только в биологии. Как и Ферма – чудаковатый французский математик, который заинтриговал всех замечанием, что нашел «изумительное доказательство» своей теоремы[175], но не смог его записать из-за «слишком узких полей», – Дарвин мимоходом объявил, что разгадал тайну наследственности, но так и не опубликовал свое открытие. «В другой работе, если время и здоровье позволят[176], я буду говорить об изменчивости организованных существ в естественном состоянии»[177], – написал он в 1868 году.
Дарвин осознавал, насколько высокую ставку он делает. Теория наследственности имела критическое значение для теории эволюции: без механизмов возникновения новых вариантов признаков и стабильной передачи их следующим поколениям живые организмы не могли бы эволюционировать. Но прошло 10 лет, а Дарвин так и не опубликовал обещанную книгу о природе изменчивости. А в 1882 году, всего через четыре года[178] после визита де Фриза, Дарвин умер, и новое поколение биологов зарылось в его труды в поисках ключей к недостающей теории.
Де Фриз тоже штудировал книги Дарвина и ухватился за теорию пангенезиса, согласно которой «частицы информации» со всего тела каким-то образом скапливаются и распределяются в сперматозоидах и яйцеклетках. Но идея, что сообщения от клеток поступают в сперму и объединяются там в руководство по построению организма, казалась совсем уж спекулятивной – как если бы сперма пыталась писать Книгу Человека, составляя ее из телеграмм.
Против пангенезиса и геммул накапливались и экспериментальные свидетельства. В 1883 году немецкий зоолог и эмбриолог Август Вейсман[179] с беспощадной решимостью провел эксперимент, прицельно атакующий дарвиновскую теорию геммул как основы наследственности. Вейсман отреза́л хвосты пяти поколениям мышей и скрещивал бесхвостых животных между собой, чтобы проверить, будет ли потомство тоже бесхвостым. Но из поколения в поколение ничего не менялось, мыши упорно рождались с полноценными хвостами. Если бы геммулы существовали, у грызунов с хирургически удаленными хвостами были бы бесхвостые дети. В общей сложности Вейсман получил 901 потомка, но все они родились абсолютно нормальными, с хвостами ничуть не короче обычных; истребить этот «наследственный порок» (во всяком случае, «наследственный хвост») было невозможно. Каким бы жутким этот эксперимент ни был, он показал, что Дарвин и Ламарк ошибались.
Вейсман предложил радикальную альтернативу: быть может, наследственная информация содержится исключительно в сперматозоидах и яйцеклетках, а механизма прямого переноса приобретенных признаков в половые клетки не существует? Как бы старательно предок жирафа ни вытягивал шею, эта информация не могла попасть в его наследственный материал, который Вейсман назвал зародышевой плазмой[180]. Он утверждал, что только с ее помощью один организм может породить другой. И в самом деле, всю эволюцию можно представить как вертикальный перенос зародышевой плазмы от одного поколения к другому: для курицы яйцо – единственный способ передать информацию другой курице.
Вопросом о материальной природе зародышевой плазмы задался де Фриз. Подобна ли она краске, то есть может ли смешиваться и разбавляться? Или информация в ней дискретна и упакована порциями, каждая из которых – цельное, неразрывное сообщение? Де Фризу пока не попадалась статья Менделя. Но, подобно Менделю, ученый принялся обыскивать окрестности Амстердама в поисках необычных вариантов растений. В его гербарии оказался не только горох, но и огромное множество других растений с перекрученными стеблями или раздвоенными листьями, с цветками в крапинку или с ворсистыми пыльниками, с семенами в форме летучей мыши – набралась целая коллекция монстров. Скрещивая странные растения с нормальными, де Фриз вслед за Менделем обнаружил, что варианты признаков не растворяются, а в дискретной и независимой форме сохраняются в поколениях. Де Фриз понял, что у каждого растения есть набор признаков: окраска цветков, форма листьев, текстура семян – и каждый из этих признаков кодируется независимой, дискретной порцией информации, которая передается от поколения к поколению.
Но де Фризу не хватало ключевого озарения Менделя – того «луча» математической аргументации, который так ярко осветил эксперименты с гибридами гороха в 1865 году. Из собственных опытов с растительными гибридами де Фриз с трудом вывел только то, что изменчивые признаки вроде высоты стебля кодируются неделимыми частицами информации. Но сколько частиц нужно, чтобы закодировать один такой признак? Одна? Сто? Тысяча?
В 1880-х де Фриз, все еще не знакомый с работой Менделя, стоял на пороге количественного осмысления своих экспериментов с растениями. В эпохальной статье 1897 года, озаглавленной «Наследственные уродства» (Hereditary Monstrosities)[181], он проанализировал свои данные и заключил, что каждый признак обусловлен единичной частицей информации. Гибрид наследует две такие частицы: одну – от спермия, другую – от яйцеклетки. Затем в целости и сохранности эти частицы передаются в составе половых клеток следующему поколению. Ничто не смешивается. Не теряется ни капли информации. Де Фриз назвал такие частицы пангенами[182]. Это название противоречило собственному происхождению: хотя ученый систематически опровергал дарвиновскую теорию пангенезиса, таким образом он отдал дань уважения своему наставнику. Весной 1900 года де Фризу, с головой погруженному в работу с гибридными растениями, друг прислал копию старой статьи из недр своей библиотеки. «Я знаю, ты изучаешь гибриды[183], – писал друг, – так что, возможно, приложенный к этому письму оттиск статьи 1865 года за авторством некоего Менделя <…> все еще представляет для тебя интерес».
Легко вообразить, как серым мартовским утром де Фриз в своем амстердамском кабинете развернул этот оттиск и пробежал глазами первый абзац. От мощного дежавю он должен был ощутить в позвоночнике типичный холодок: «некий Мендель» совершенно точно опередил де Фриза на три с лишним десятилетия. В статье Менделя ученый нашел ответ на свой вопрос, идеальное подтверждение результатов собственных экспериментов – и серьезный вызов их научной новизне. Ему будто бы выпало вновь пережить старую сагу о Дарвине и Уоллесе: открытие, которое он надеялся объявить своим, в действительности уже было сделано кем-то другим. В панике де Фриз быстро расправился со своей статьей о гибридах растений, тщательно избегая любых упоминаний работы Менделя, и опубликовал ее в марте 1900 года. Быть может, мир уже забыл «некоего Менделя» и его эксперименты с гибридами гороха в каком-то Брно. «Скромность – это добродетель[184], – напишет де Фриз позже, – но без нее можно продвинуться дальше».
Хуго де Фриз не был единственным, кто самостоятельно пришел к менделевской идее независимых и неделимых наследственных инструкций. В тот же год, когда он опубликовал свое монументальное исследование[185] растительных вариантов, вышла статья тюбингенского ботаника Карла Корренса об эксперименте с гибридами гороха и кукурузы, где в точности воспроизводились результаты Менделя. По иронии судьбы Корренс учился у Негели в Мюнхене. Но Негели не соизволил рассказать Корренсу о куче посвященных гороховым гибридам писем от «некоего Менделя», чудака-дилетанта.
В своих экспериментальных садах в Мюнхене и Тюбингене, расположенных всего в 650 км от брненского аббатства, Корренс кропотливо скрещивал высокие растения с низкими, а полученные гибриды – между собой, не подозревая, что лишь методично повторяет эксперименты Менделя. Завершив свои исследования и начав готовить статью к публикации, он решил поискать в библиотеке какие-нибудь работы научных предшественников. Там-то Корренс и наткнулся на погребенную в местечковом журнале статью Менделя.
В Вене – в том самом городе, где Мендель в 1856 году провалил экзамен по ботанике, – переоткрыл его законы другой молодой ботаник, Эрих Чермак-Зейзенегг[186]. Чермак учился в университетах Галле и Гента и работал с гибридами гороха. Он тоже заметил, что наследственные признаки передаются между поколениями гибридов независимо, по отдельности, как частицы. Самый молодой из трех ученых, Чермак сначала узнал о двух параллельных исследованиях, в точности подтверждающих его результаты, а уже потом вновь погрузился в научную литературу и нашел работу Менделя. У него, вероятно, тоже бежал холодок по спине во время чтения первых строк. «Тогда я тоже еще верил, что открыл что-то новое»[187], – позже писал Чермак с плохо скрываемыми завистью и унынием.
Если открытие переоткрыли единожды – это подтверждение чьей-то научной прозорливости. Если трижды – это уже скандал. За каких-то три месяца в 1900 году вышли три статьи, повторявших работу Менделя. Они подтверждали беспросветную близорукость биологов, игнорировавших его исследования почти 40 лет. Даже де Фриз, «забывший» упомянуть Менделя в своей первой статье, был вынужден признать его вклад. Той же весной, вскоре после выхода статьи де Фриза, Карл Корренс предположил, что автор умышленно присвоил труд Менделя, а значит, его работа попахивает плагиатом (как ерничал Корренс, «по странному совпадению»[188] де Фриз в свою статью привнес даже «лексикон Дарвина»). И де Фриз сдался. В следующей версии анализа растительных гибридов он уже с энтузиазмом упоминал Менделя и признавался, что лишь «развил» его более ранние наработки.
На самом же деле де Фриз экспериментально продвинулся дальше Менделя. Пусть тот и опередил его в открытии единиц наследственности, но де Фриза по мере погружения в проблему связи наследственности и эволюции все больше занимала мысль, когда-то озадачившая и Менделя: как возникают новые варианты признаков? Что за сила делает растения гороха высокими или низкими, а его цветы – пурпурными или белыми?
И вновь ответ таился в саду. В очередной раз скитаясь по сельской местности в поисках интересных образцов, де Фриз наткнулся на громадную куртину дикой энотеры[189], которая быстро отвоевывала пространство у соседних растений. История снова проявила чувство юмора: этот вид энотеры, как позже выяснит де Фриз, был назван в честь Ламарка – Oenothera lamarckiana[190]. Де Фриз собрал в тех зарослях 50 тысяч семян и посеял их у себя. В следующие годы, когда эта агрессивная энотера хорошенько размножилась, де Фриз насчитал 800 самопроизвольно возникших новых вариантов – растений с гигантскими листьями, ворсистыми стеблями, цветами необычной формы. Природа спонтанно породила редких уродцев – именно этот механизм, по мнению Дарвина, должен обеспечивать первый этап эволюции. Вместо дарвиновских «спортов» де Фриз выбрал для таких редких форм более солидное название – мутанты[191] (от латинского «изменяться»)[192].
Де Фриз быстро осознал важность своих наблюдений: эти мутанты должны были играть роль недостающих фрагментов эволюционной мозаики Дарвина. Действительно, если совместить самопроизвольное появление мутантов – скажем, энотеры с гигантскими листьями – с естественным отбором, это автоматически приведет в движение дарвиновский вечный двигатель. За счет мутаций в природе возникают новые варианты: длинношеие антилопы, короткоклювые вьюрки, растения с гигантскими листьями. Такие формы спонтанно появляются среди множества нормальных особей (в отличие от Ламарка, де Фриз решил, что мутанты формируются не целенаправленно, а случайным образом). Вариативные признаки наследуются, то есть передаются в виде дискретных инструкций, содержащихся в половых клетках. Животные борются за выживание, и самые приспособленные варианты – то есть самые полезные мутации – последовательно отбираются. Потомство выживших наследует эти удачные мутации и формирует новые виды, тем самым направляя эволюцию. Иными словами, естественный отбор работает не с организмами, а с их единицами наследственности. В курице де Фриз в конце концов увидел лишь способ яйца создать яйцо получше.