Нашествие бесплатное чтение
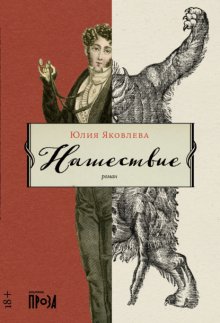
Издательство благодарит Banke, Goumen & Smirnova Literary Agency за содействие в приобретении прав
Издатель П. Подкосов
Продюсер Т. Соловьёва
Руководитель проекта М. Ведюшкина
Художественное оформление и макет Ю. Буга
Корректоры Т. Мёдингер, Ю. Сысоева
Компьютерная верстка А. Ларионов
© Ю. Яковлева, 2022
© Художественное оформление, макет. ООО «Альпина нон-фикшн», 2022
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
Глава 1
Охота на человека не отличается от охоты на любого другого зверя с тёплой кровью. Тем более когда человек – сам зверь.
С собой нужно: пристрелянное ружьё, сумка с порохом, дробь. Дробь – это, конечно, так, только чтобы подранить, остановить. Добивать всё равно надо ножом или рогатиной. Потом следует подвесить за ноги и дать крови стечь. Её надо вылить поодаль. А голову – отделить от тела.
Некоторые советуют напоследок вбивать в грудь кол. Но скорее всего, просто путают с вурдалаками, а это не то же самое.
Иван с разбега вжался в дерево, шлёпнул ладонями по стволу, боясь шевельнуться. Высоко в кронах заливались птицы.
Услышать бы что. Но грудь сипела, заглушая все другие звуки.
Увидеть бы. Но перед глазами плясали серые точки.
Унюхать бы. Но мир весь состоял из одного запаха – его собственного: резкого, пронзительного запаха страха. На потный лоб сел овод. Иван мотнул головой, мазнул рукавом. Согнал. С бровей скользнула капля пота. Сморгнул. Вытаращился.
Просека казалась ему пропастью. На той стороне ели приподнимали колючий полог: мол, сигай, спрячем.
Но просеку ещё надо было как-то перебежать! Если они поджидают его в схроне, лучше места не найти: снимут одним выстрелом.
Иван прикинул. Сигануть? Пан или пропал.
А если пропал?
Знать бы, где они. Посопел. Но от бега нос пересох. Иван сунул в рот палец, обслюнявил. Ткнул в ноздрю, в другую. Осторожно потянул воздух.
Кислый хлеб, дёготь, ружейная смазка, порох. Пакостный человеческий дух ел глаза: густой, как дым. Они не отстали, шли по следу. Близко ль? Далеко? Казалось: рядом.
Наклонил голову. Весь стал собственным ухом.
Воздух колебался. Звенел, шуршал. Пройти сквозь него бесшумно они не могли, так же как не могли просочиться сквозь паутину, не задев ни одной нити. Иван слышал всех четверых. Стреляли под ногами сухие травинки. Хрупали сучки. Пыхал мох. О железо клацало железо.
Дурни. Охотнички, царя небесного олухи. Эк звенят. Могли бы тогда уж и в чугунные горшки колотить.
Он ощутил собственное превосходство. Ухмылка поползла сама. Глянул на тот берег, на зелёный полог. Решился. Пан!
Вынул из травы одну ногу, бесшумно опустил, слушая землю всей подошвой. Потом другую. Отделился от ствола, не уронив с коры ни чешуйки.
Сиганул через солнечный коридор. Молотя локтями. Чуть не хлеща себя пятками по заду. Юркнул в зелёный сумрак с банным звуком – хлестнули по груди, по лицу листья.
И напоролся, как на штырь:
– Стоять, Иван.
Вместе с дыханием вырвался запах: запах рта, который не трескал кислого хлеба. Барский.
Иван обмер. Вылупился. Сердце билось так, что в такт подрагивало небо.
Вороной глазок ружья смотрел в грудь.
Барин был незнакомый. Не мочалинский барин уж во всяком случае.
– Не шевелись, – предупредил барин.
Было в этом запахе ещё что-то. Что-то такое, от чего заскребло под коленями, защипало под мышками, защекотало в затылке. Запах барина заполнял Ивану голову, как тьма.
Дуло качнулось.
– Стой, сказал! Я тебе худого не сделаю. Я друг.
«Хотел бы прикончить, давно б выстрелил, – соображал Иван. – Вот только прикончить – это ещё не самое худшее, что такой, как он, может сделать с таким, как я».
Иван сглотнул сухой комок в горле:
– Ружьишко бы опустил, что ли. Раз друг.
Вороной глазок медленно потупился.
Барин, видать, то ли дурной, то ли ни разу не линявший.
Иван брызнул в кусты быстрее, чем мысли успели за телом.
Калёный неподвижный запах созревающих колосьев. Белое невыносимое небо. И пыль. Пыль на крыльях коляски, в складках платья, на лицах и шляпах.
– Вы давно здесь не бывали?
Мари отвернулась от леса и оборотилась к спутникам, что сидели перед ней. Это были немолодая дама, дальняя родственница, княгиня Печерская, и её зять – чиновник средних лет. Оба ехали в смоленское имение, только что полученное по завещанию.
– Шесть лет, – ответила.
Коляска подпрыгнула на выбоине. Подпрыгнули на сиденьях и пассажиры, а собачка клацнула зубами. Разговор оборвался, и все забыли, о чём он был.
Щёки зятя тряслись на неровной дороге, бакенбарды от пыли стали как войлочные. Воздух вокруг него пах скисшим сладким вином. Он то и дело утирал пот и видимо страдал от похмелья. Жара доконала его. Коляска в очередной раз подпрыгнула, Мари вспомнила фамилию этого толстяка: Марков. Лицо старой княгини Печерской было тоже покрыто пылью. Пыль забилась в морщины. Княгиня держала на коленях собачку. В Москве собачка была белой. Теперь стала серой.
«Наверное, и у меня лицо в пыли». Мари расстегнула ридикюль, чтобы вынуть зеркальце, посмотреть, отряхнуть платком. Но не вынула. Застегнула ридикюль. Какая разница? Через несколько минут опять будет всё то же. Мари ограничилась тем, что развязала, ослабила на шее косынку и расставила локти, чтобы не чувствовать отвратительную влагу батиста под мышками. Под лентами шляпы чесалось. Назад уплывали, покачиваясь, зелёные каскады берёз. Трепетал, как розовый флажок, язык болонки.
Коляска въехала в лес. Из белого зноя – в зелёный полумрак. Через несколько минут глаза пассажиров привыкли к тени и окрасились смыслом. Собачка, облизнув напоследок нос, втянула язык и закрыла пасть. Все четверо глядели по сторонам. Мари чувствовала, как засосало отчего-то под ложечкой. Лес всей массой зелени, света, теней валил назад. Блики, тёмные провалы. За рябой кутерьмой листвы угадывалась глубина, как угадывается глубина под ребристой поверхностью моря. Тёмная, неподвижная, холодная – и обитаемая.
– Шесть лет, вы говорите? – ожила, удивилась княгиня.
– С тех пор, как вышла замуж, – пояснила Мари.
– Странно, должно быть, вновь оказаться в родных местах, – заметил толстый Марков.
Кучер чмокнул, прикрикнул:
– Н-да, родимые.
Но не лихо прикрикнул. В голосе его была тревога. Хлопнул вожжами. Копыта стали бить чаще. Коляска покатила быстрее. Пассажиры ухватились за борта.
– А что, любезный, – обернулся к толстой заднице кучера и спросил по-русски Марков, – говорят, волков в этом году пропасть?
– Бывают, – ответил кучер.
Зять княгини не отстал:
– Охотники сказывали. Давно такого в окрестностях не видали. Скот режет. Слыхал что?
– Развелось, грят, – неохотно согласился кучер. – В Бурминовке, в Карповке, в Мочаловке только и разговоров, что развелось.
– Что ж охотники? Спят?
– Не спят. Да только это такеи волки, капкан чуют. Собак рвут. У домов рыскают. Страх потеряли.
Дамы тревожно переглянулись. Старуха осуждающе глянула на зятя. Но тот не унялся:
– Ишь ты. А что, и на людей нападали?
Старуха сердито и быстро приказала по-французски:
– Прекратите, пожалуйста, этот вздор.
Кучер тем временем говорил:
– А то! К войне это, грят. Волк, грят, он мертвечину если распробовал, обратно ходу нет.
Пассажиры скривились. Старуха вперила в зятя негодующий взгляд. Под его калёным жаром Марков громко по-русски перебил кучера:
– Ты врать-то брось!
Обернулся виновато к дамам. Старуха поджала губы:
– Найдёте же вы, о чём разговор завести, – упрекнула зятя.
Ей за многое хотелось его поддеть, укусить. Он источал густой сивушный запах: ртом, всеми порами. Княгиня старалась делать вид, что не замечает, не упрекать, не кусать. Зять её, говоря по-русски, крепко закладывал за галстук. Старуха решила прекратить это раз и навсегда. Но совсем не тем методом, каким на Руси издавна такое прекращают, а… Его недуг она решила победить во что бы то ни стало. За тем и ехала в Смоленск, забрав зятя под наполовину выдуманным предлогом. Ссориться с ним на пути к цели она не могла. Большой стратегический план требовал тактических жертв, и, сказав себе: «Не время сейчас», она поджала губы.
Зять тихо икнул, прикрыв рот кулаком.
– Вы слыхали наши последние московские новости, дорогая? – Наклонилась к Мари: – Граф Безухов разъехался с женой.
– Вот как?
Об этом судачили и в Петербурге.
– Удивляюсь, как бедная Элен его столько терпела. Святая женщина, – болтала Печерская. – Другая бы на её месте уехала от такого мужа сама.
Княгиня Печерская и её пьяница-зять сидели спиной к движению. А Мари со своего сиденья, лицом к ним, увидела, что кучер весь подобрался. Стал озираться: налево, направо, налево, направо.
«До чего неприятно, в самом деле».
– Неужели вы не скучали по родным местам все эти шесть лет? – светски завёл снова краснолицый Марков.
Вдруг собачка на коленях у старухи вскочила на коротенькие кривые ножки. Затряслась. Шерсть на загривке дыбом. Глазки выпучились.
Все трое пассажиров невольно подумали одно и то же. Но день был дивный, любая самая мрачная мысль тут же лопалась на солнце. Лопнула и эта.
– Фидель, Фидель, – захлопотала старая дама.
Собачка оскалила мелкие редкие зубки: звук такой смешной, что и рычанием не назвать. Жужжание маленького моторчика.
– Тубо, Фидель. Да что с тобой? Тубо!
Что столь крошечное существо вызывалось грозить кому бы то ни было, смешило и умиляло.
– Давайте я его возьму, – с улыбкой предложила Мари. – Отважный мал…
Фидель закинул вверх косматую моську – и завыл. Лошади всхрапнули.
А потом грохнул выстрел. Плеснул рукавом вспугнутых птиц: фррррррр. Лошади вытянули шеи и рванули так резко, что Мари выронила сумочку, мотнула концом шали, ухватилась за сиденье, клюнула полями шляпы колени толстяка, тот и княгиня завалились назад, собачка ткнулась хозяйке в живот.
– Тпру! Шельмы! – Кучер, откидываясь всем телом, наматывал на кулак поводья. Тщетно! Лошади летели как шальные.
Княгиня обеими руками прижимала к себе ридикюль и собачку. Марков упирался ногами, прищемив чей-то подол. Мари одной рукой вцепилась в борт, другой тянула сбившуюся назад шляпу – та хлопала, как парус на ветру. Концы косынки выскользнули, хлестнули Мари по лицу на прощание – косынка улетела.
– Боже мой… Да остановите же… Держитесь!
На полу коляски каталась и стукалась её сумочка.
Вот опять это чувство. Смотрит прямо в глаза. Эта дама с жёлтой розой. Только глаза и удались, счёл Облаков. Чтобы избавиться от наваждения, рассмотрел портрет придирчивым глазом покупателя. Дурно и грубо написанная рука, что сжимала розу, выдавала работу доморощенного крепостного живописца; а сам цветок художник из крестьян изобразил куда приметливее и точнее. Платье и пудреная причёска дедовых времён соответствовали немодной обстановке гостиной. Она не изменилась за шесть лет. С тех пор, как Облаков был здесь в последний раз.
Бр-р-р-р, передёрнул он плечами, так что дрогнули жирные золотые червяки погон. Тот – последний раз – вспоминать не хотелось.
Облаков отошёл от портрета. Скрипнул креслом, сдвинул, развернул. На пальцах осталось неприятное чувство, отряхнул руки. Ну и пылища. А слуги-то на что? Экономка? Ключница хотя бы?
На крыльце его встретил старый Клим, он же проводил сюда.
Других Облаков не видел.
«Может, и нет никаких слуг?» – с новой мыслью огляделся Облаков.
Подёрнутая серой пылью полка над камином была пуста. Ни часов, ни портретов в рамках, ни фарфоровой дребедени, милой дамам. Камин разевал давно не чищенную пасть. Диван и добрая половина кресел были в чехлах. Обои потускнели. Шторы выцвели. С потолка свисал сероватый кокон: хрустальную люстру давно не зажигали. Под сапогом мелко похрустывало – пол не мели, не мыли. Давно не вощённый паркет рассохся и был тускл. Ковёр был скатан у стены. Всё носило следы запустения и пренебрежения. Облаков прислушался. Дом был тих. Той тишиной, которой никогда не бывает в доме, где работает кухня, где моют посуду, где стирают, где гладят, где носят дрова, где чистят серебро, где разводят огонь, где греют воду, где перестилают постели, словом, где для дворни найдётся тысяча дел каждый день. Похоже, слуг в этом доме и правда не было. Но как так? «Бурмин – среди наших крупнейших землевладельцев, – только что, утром, сказал губернатор. – Если уговорите его, остальные задумаются». Не разорился же Бурмин, с утра-то?
Взгляд дамы с розой ответил с вызовом. «Не твоё дело», – говорил он.
Облаков решил пересесть от него подальше. На сей раз осмотрев обивку, прежде чем коснуться задом и спиной. Не хотелось запачкать мундир. Похоже, переодеться до вечера ему уже не успеть. В кресле недавно сидели, пыльным оно хотя бы не было. Облаков сел. Перебросил одну ногу через другую. Но пронзительный взгляд сверлил ему затылок. «Ерунда. Просто портрет. Есть специальный приём, говорят, чтобы писать глаза. Иллюзия». Но всё же не сдержался, обернулся.
Взгляд дамы опять пробрал его до мурашек.
Просто портрет, просто такой приём. Или просто признать, что не по себе ему в этом доме? Чужом доме. Доме друга. А друга ли?
Кем ему сейчас считает себя Бурмин?
Последний раз они виделись шесть лет назад. Последний раз Бурмин ответил на его письмо – тоже шесть лет назад. Их отношения не были ни разорваны официально, с положенными словами. Ни прояснены. Ни восстановлены. Ни то ни сё. Точно обморок, что длится вот уже шесть лет. За шесть лет Бурмин мог измениться. Многое могло измениться. Всё!
Облаков вскочил.
Ждать больше не хотелось. Хотелось убраться отсюда поскорее.
– Клим! – крикнул. Послушал тишину.
Потом зашаркали шаги. Дверь скрипнула.
– Ваше сиятельство.
Но тут Облаков вспомнил то дело, что привело его сюда, и что ждать – придётся, столько, сколько придётся, и что другого выхода нет, друг ему Бурмин или не друг, начать с него Облаков был вынужден. Сел:
– Что ж твой барин? Скоро будет?
– Не изволили сказать. До рассвета в лес уехали.
Махнул на старика:
– Ладно. Ступай.
– Не изволите чего подать? Воды? Чаю? Трубку?
– Ступай.
Дверь скрипнула. Опять тишина. Глубокая, чуть звенящая, точно дом давно покинут. Она заливала в уши, заполняла голову. От неё тяжелели колени и локти. Всё тело, измученное скорой тряской ездой по смоленским трактам. Веки слиплись. Облаков не видел вошедшего. Не видел, как лицо того напряглось. Как рука, схватившаяся было за пуговицу на вороте сюртука, опустилась. Облаков почувствовал, что дремлет и через секунду захрапит, когда от громкого – «Облаков!» – сон его разлетелся вдребезги.
Облаков грохнул креслом, стукнул сапогами, вскочил, моргая, обернулся. Бурмин уже шёл ему навстречу, протягивая обе руки:
– Дорогой мой Облаков!
Улыбался.
– Бурмин!
Облаков почувствовал облегчение, просиял в ответ. Он обрадовался тону Бурмина – естественному и непринуждённому, точно расстались вчера на светском чаепитии, а не шесть лет назад и при обстоятельствах, вспоминать которые Облакову не хотелось. Он уже стал было поднимать руки для объятия. Но Бурмин лишь сжал его ладонь обеими руками, как бы отстраняя. Кивнул себе на грудь:
– Весь перепачкан. А ты каков! Покажись.
И отступил на шаг. Облаков смущённо отстранился, смахнул с рукава пыль, показал себя, забормотал:
– Это новые совсем. Только ввели. Многие пошить ещё не успели. Великого князя собственноручные эскизы… Государь…
– Игрушечка! – Но в похвале Бурмина Облаков услышал насмешку.
– Да уж, – согласился. – И это уже переделали. Но ты бы видел первые! На смотре с ними вышел конфуз. Ты помнишь Радова?
– Этот повеса!
Бурмин бросил перчатки на каминную полку. Два кожаных комка тут же начали медленно расправлять сморщенные пустые пальцы.
Облаков оживлённо рассказывал – сыпал слова. Он боялся первого неловкого молчания. Первых неловких вопросов.
– Его Величество подъехал к строю. Все стоят, разубраны, как рождественские ёлки. Тут Радов принялся командовать своим людям. Садись! – С коня. – Садись! – С коня… Такая катавасия началась! Кто в лес, кто по дрова. Шнуры на куртках цепляются за сбрую. Мишура сыплется. Рукава трещат. Его величество хмурится. Великий князь красен как рак. Его эскизы-то были. А Радову хоть бы хны.
Облаков говорил и не сводил взгляда с Бурмина, пытаясь прочесть его лицо.
– Мундиры тотчас велено было перешить.
Бурмин с улыбкой покачал головой.
– Ну вот. Я болтаю и болтаю, – улыбался Облаков. – Похвастайся же ты.
– Чем?
– Добычей.
На лбу Бурмина мелькнула тень.
– Твой Клим сказал, ты на охоте, – пояснил Облаков.
– А. Ничего не поймал. Ты голоден? Присядем. Расскажи. Как ты?
Оба сели в кресла напротив друг друга. Облаков участливо заглянул Бурмину в лицо:
– Как – ты?
Бурмин пожал плечом:
– Чудесно.
– Вот не мог бы представить тебя деревенским жителем. В уединении…
– Я люблю уединение, – перебил Бурмин.
– Ты… Но… Среди людей…
– Что ж. Они мне надоели.
Лицо Облакова замерло на долю секунды. Но он уже снова улыбался:
– Да, с возрастом взгляды и мнения меняются. Посмотри-ка на нас. Шесть лет! Подумать только.
– Ты тот же.
Бурмин сказал это с улыбкой.
Облаков крякнул, провёл ладонью себе по затылку:
– Плешь нарисовалась. И в холодные дни, знаешь, суставы уже напоминают: не мальчик.
– Так ты ради климата приехал?
Рука Облакова остановилась на затылке. Медленно легла в сгиб локтя другой, как бы отгораживая тело от собеседника. Бурмин пожалел, что слова его могли звучать грубо, и постарался смягчить тон:
– Прости. В деревне дичают, и я решил не оригинальничать и не быть исключением. Но оставим это. Я вижу, что тебя привело дело. Скажи же как есть.
Облаков вздохнул. И рассказал, как есть.
– Рекрутский набор? – удивился Бурмин. – Но ведь рекрутов набрали.
– Дополнительный.
– Вот как.
– Манифеста императора об этом ещё нет. Но будет. Видишь ли, губернское дворянство… Хотелось бы вначале заручиться твоим… вашим…
Бурмин хмыкнул:
– Овацией? М-да, государь как опытный актёр не выходит на сцену, если клака не на местах.
– Что же ты скажешь?
Бурмин махнул рукой на окно:
– Вон там всё сказано.
Облаков послушно посмотрел. Но видел лишь, что окно давно не мыто, а в лучах солнца танцует пыль.
Бурмин фыркнул и пояснил:
– Лето. Полевые работы в разгаре. Мужики заняты от темна до темна. Никто работников сейчас отрывать не будет.
Облаков изумлённо уставился на него. Бурмин пожал плечом:
– Знаешь, как мужики говорят. Своя рубашка ближе к телу.
– Но ты! Ты же не мужик! – не сдержался Облаков, и на лице Бурмина тут же появилось замкнуто-холодное выражение:
– В деревне у дворян и мужиков общие интересы.
– Только не списывай на то, что в деревне дичают! Остановить Наполеона есть долг, который отечество…
– Отечество? – перебил Бурмин презрительно. – Отечество для мужика – вот эта деревня, вот эта речка, вот этот лес, этот луг, это поле. А не какой-нибудь Аустерлиц, где ему предлагается сложить голову во имя цели, которая ему чужда и непонятна.
Облаков был поражён. Лишь воспитание не позволило ему показать насколько.
– И это говоришь ты, – с оттенком горечи произнёс он, – ты, который шесть лет назад под этим самым Аустерлицем…
– За эти шесть лет я о многом успел подумать. А вот почему так рвёшься ты? Для меня загадка. – Бурмин говорил лениво-насмешливо. – Разве ты разорён? Или медальку хочешь? Так ведь, поди, после прошлой кампании уже места нет, чтобы дырочку проверчивать.
Судя по гримасе Облакова, на этот раз воспитание не удержало бы его от тирады.
– В любом случае, – со вздохом продолжил Бурмин, точно не заметив, – боюсь, ничем помочь не могу. Так называемые мои крестьяне…
Но договорить не успел. Дверь позади мяукнула. Оба обернулись. Старый слуга растерянно переводил взгляд то на барина, то на его гостя.
– Вашество… – пробормотал. – Это… беспокоить…
За спиной его, потряхивая нарядной сбруей и горячо дыша, как жеребец, которому не терпится вскачь, топтался молодой офицер.
– Нестеров! – воскликнул Облаков, узнав своего адъютанта, которому было велено дожидаться в коляске у крыльца. Извинился перед Бурминым, вставая. – Тут, должно быть, что-то срочное.
– Клим, – приказал Бурмин скорее взглядом, чем голосом.
Слуга посторонился, пропуская адъютанта.
– Ваше превосходительство, – вытянулся тот. – Прошу прощения, дело безотлагательное.
Облаков бросил на Бурмина строгий взгляд, как бы говоря, что не уступил. И обернулся к адъютанту:
– Докладывай.
– Солдат прибежал. Нашли убитыми четверых человек, опознаны все четверо как записанные в рекруты…
– О господи.
– Прикажете вызвать из Смоленска дознавателя?
Облаков ухватился за лоб, принялся скрести пальцами:
– Только этого не хватало… Нет, ни в коем случае. Поменьше шума. Сами разберёмся.
Он обернул к Бурмину озабоченное лицо:
– Прости, я должен немедленно ехать.
– Конечно. Прости ты меня, что не смог оказаться полезным. В любом другом, более прозаическом деле буду рад оказать услугу.
Облаков глянул на него рассеянно. Снова обратился к адъютанту:
– Точно рекруты? Это наверное? Ошибки нет? Кто их опознал? Где солдат этот?
– Солдата я обратно отправил, присмотреть за телами. До дальнейшего разбирательства.
– У трактира небось нашли? П-пьянь. Всякий сброд в рекруты записывают, что самим негоже, – начал распаляться Облаков.
– Никак нет. Не у трактира. В лесу.
– В лесу? – опешил Облаков. – Даёшь ты, Нестеров… Отослал солдата. Как же мы теперь это место сами отыщем?
– Извольте. Там просто. Отсюда до Днепра. По правому берегу лес.
– В моём лесу?! – резко поднялся из кресла Бурмин, до того молчавший.
– Это твой лес? – удивился Облаков.
Бурмин схватил с полки перчатки и уже у двери обернулся:
– Я еду с вами. Сядем в мою коляску. Если не возражаешь. Там одно только название, что дорога.
– Буду рад, – кисло ответствовал Облаков.
– Отсюда пешком. – Бурмин натянул поводья, останавливая лошадь.
Облаков с адъютантом переглянулись. По плюмажам на их шляпах пробегал ветерок, движению вторили длинные зелёные плети берёз. В траве трещали кузнечики. Небо ещё не раскалилось, только обещало жару: ни облачка не было в его голубизне. Оба чувствовали себя здесь чужаками.
Бурмин проверил, крепко ли обвязан повод, и только тогда спрыгнул. Адъютант Нестеров, стоя в коляске, опасливо высматривал что-то за деревьями.
– Идёмте, – поторопил Бурмин. И тотчас махнул кому-то рукой: – Вон, выслали нам провожатого.
Облаков сошёл с подножки. Сдвинул край шляпы, промокнул платком лоб. Трава здесь доходила до края его высоких сапог. Следом спрыгнул адъютант.
Из леса к ним спешил, всей спиной выражая усердие, молодой рыжеватый мужик, лоб его был перехвачен тесёмкой. Широкие бугристые плечи распирали рубаху. При виде мундиров он так и разинул рот.
– Ты чей? – спросил его Бурмин.
Мужик ожил:
– Мочалинский.
Бурмин по-французски пояснил Облакову:
– Мочаловку, имение князя Мочалина по соседству, недавно купил некто Шишкин.
– Веди, – шагнул Облаков к мужику. – Ты тела нашёл? Ну?
Тот не сразу оторвал взгляд от их диковинных шляп.
– Не, ваше сиятельство. Пантелей с сыном. Он сына-то сразу в деревню и послал.
– Ладно. Веди же.
Мужик зашагал к лесу, приминая траву. Порхнула птица.
– Полагаю, вся деревня уже сюда сбежалась, – проворчал по-французски Облаков.
Лес тотчас накрыл их прохладной тенью. Землю усеивала рыжая хвоя. Траве здесь не хватало света. Адъютант Нестеров, придерживая шляпу рукой, задрал голову на пушистые еловые облака. Пахло разогретой смолой.
Бурмин крикнул в спину мужику:
– А что Пантелей-то с сыном здесь потеряли?
Спина чуть напряглась:
– Не могу знать, барин, – донеслось.
– А как же, – сердито буркнул по-французски Бурмин. – Зато я знаю.
– Вот как? – по-французски спросил и Облаков.
– Либо сеть ставили, – недовольно ответил ему Бурмин, – либо силки… Попросту говоря, воровали. В моем лесу. Думаю, мне стоит сделать визит этому господину Шишкину.
– О боже, – остановился Облаков.
Он увидел тела. Они лежали рядом. Головы были накрыты армяками. Торчали ступни.
– Эй! – крикнул провожатый.
При виде генерала солдат торопливо вскочил, одёрнул мундир, вытянулся, пролаял по уставу:
– Здра жела, ваш выблародь.
– Отставь, – махнул Облаков.
Увиденное расстроило его. «Как некстати. Только этого не хватало».
– Ты уверен, что наши рекруты?
– Точно так, ваш выблародь.
«Как некстати».
Спиной к стволу стоял и курил мужик с пегой бородой. Не суетясь, затушил самокрутку, убрал. Отлепился от дерева. С достоинством ждал, когда баре обратятся.
– Ты Пантелей? – спросил Бурмин.
Мужик наклонил голову.
– Он самый.
Облаков уставился на топор, заткнутый у Пантелея за поясом. Тот уловил взгляд, положил руку топору на затылок: мол, да, топор, и мне скрывать нечего.
Бурмин подошёл к лежавшим, сел на корточки, приподнял полу армяка, подняв эскадрон мух. Воздух немедленно окрасился запахом. Запах пролитой, быстро тухнущей крови. Облаков поморщился, но заставил себя внимательно рассматривать тела, раны так же, как Бурмин:
– Господь всемогущий… Посмотри на эти длинные порезы. Когтями их рвали, что ли. Слушай, может, задрал медведь?
Бурмин не ответил. Сунулся рукой в карман трупу. Обшарил остальных. Адъютант не выдержал, отвёл взгляд. Стал нервно отмахиваться от мух, носившихся с жирным жужжанием.
Бурмин показал Облакову: мешочек с порохом.
– Медведь бы не унёс с собой его ружьё, – сказал по-французски Бурмин.
Облаков закатил глаза, пыхнул губами. Мужик, не понимавший ни слова из их речи, безмятежно подпирал ствол. Он видел их лица, а лицо Бурмина было сковано самообладанием:
– Не удивлюсь, впрочем, если ружьё унёс сын этого Пантелея.
Так же, как лицо Облакова:
– Ты хочешь сказать, убийца стоит у нас за спиной?
– В деревне подкову оброни, гвоздь без присмотра оставь, сопрут – и глазом не успеешь моргнуть. А тут ружьё брошенное. Целое состояние.
Бурмин снова накрыл убитых. Поднялся:
– Нет, я не думаю, что он убийца.
– У него топор, – возразил всё так же по-французски Облаков, – очень чистый топор. Такой чистый, что я бы предположил, он недавно спустился к воде и хорошенько оттёр его песком и вымыл.
– И я бы с тобой согласился, что он убийца, – наклонил голову Бурмин.
Мужик наблюдал за ними издали. Не сводил глаз.
– …если бы не этот самый топор.
Бурмин поглядел на мужика.
– Топором рубят. А не перерезают горло, мой милый Облаков. К тому же одежда на нем чистая. Ни пятна крови.
– Одежда, – покачал головой Облаков. – Не спорю. Может, ты и прав. Тогда кто это сделал? Чёрт возьми, как всё запутано – и как некстати. Именно рекруты! Только этого сейчас не хватало.
В сердцах хлестнул перчаткой по лучистым мордам ромашек и зашагал обратно к коляске.
Бурмин подошёл и заговорил с Пантелеем по-русски:
– Я их знаю. Это ваши, мочалинские.
– Ну да. Как есть. Я ж мальца своего в Мочаловку за народом и отправил.
Пантелей показал пальцем на убитых – один за одним:
– Васька Игнатов. Лукин Мишка. Антоха Чудилов. И старостин племянник Андрюха.
– Что ж мочалинские мужики тут делали? В моем лесу.
– Дак они, поди, уже не скажут.
– А ты в моем лесу что делал?
– Гулял.
– С топором.
– Всяк по-своему гуляет.
Бурмин обернулся к солдату:
– Эй! Мальчишка-то, который про убитых рассказал, на телеге был?
– Чаво?
– В деревню мальчишка на телеге прикатил?
– А то. Не на своих же двоих он так быстро прискакал.
Бурмин снова повернулся к Пантелею:
– Ты, значит, гулял у меня в лесу. С топором. На телеге.
Тот и ухом не повёл:
– Ладно, поймал.
Мужик был вор и воровал его лес, но держался с достоинством, и его самообладание понравилось Бурмину.
– Ты, стало быть, их нашёл, рядком сложил и головы покрыл?
Мужик перекрестился:
– По-людски ж надо.
Треск подъехавшей телеги заставил всех обернуться. Мальчишка, сын Пантелея, сидел на козлах рядом с чернобородым мужиком. Глаза мальчика горели.
– Вон мертвяки, вон! – возбуждённо тыкал он пальцем.
То, что он оказался в центре столь громкого происшествия, уже сделало его в деревне известной персоной, и мальчишка решил приумножить свою славу, вызнав как можно больше, чтобы было о чём рассказывать потом.
Чернобородый мужик сошёл, стянул шапку перед Облаковым, поклонился со странным оттенком подобострастия и презрения, затем кивнул Пантелею. И сразу направился к мертвецам.
– Родственник? – спросил о нём по-русски Бурмин у Пантелея.
– Староста.
Среди убитых был его племянник.
Староста, присогнув ноги и уперевшись руками в колени, разглядывал тела. Разогнулся, отмахнул муху, сказал только:
– М-да, – и крикнул: – Чего лупишься, Пантелей! На телегу кладём. Или как… барин? – Та же смесь подобострастия и хамства.
«А с ним ухо надо востро», – подумал Бурмин.
– Увози, – велел Бурмин.
– Ты куда? – по-французски крикнул Облаков.
– Просто осмотрюсь немного вокруг.
– Ах, да всё одно: без дознавателя теперь никак.
Но Бурмин махнул, не ответив. Отошёл по нежно хрустящей рыжей хвое. Сделал несколько шагов к берегу – сам берег был не виден, но сквозистая пустота за деревьями дышала прохладой: вода. Постоял на невысоком обрыве. Посмотрел на плюшевые заплатки мха на камнях. Пошёл к просеке, по которой шла дорога. Взгляд его бесцельно шарил вокруг. По траве, по стволам. Прошёл мимо колючих мотков ежевики. Подошёл к Облакову. Тот стоял у пыльного крыла коляски и смотрел, как Пантелей и староста, один за руки, другой за ноги, тащат провисающих в поясе мертвецов и кладут на телегу, забрасывая половчее руки и ноги, будто это были поленья. Мальчишка вился и суетился вокруг.
– Тела ещё мягкие, – заметил по-французски Облаков. Прикрыл глаза и покачал головой: – Зверство какое.
Он был бледен. Рука неловко теребила застёжку на жёстком воротнике. Расстегнула. Подёргала шёлковый галстук, ослабляя.
– А тебе? Не жарко? Доверху застегнут.
Бурмин покачал головой сочувственно:
– Нет.
Быстро отвязал повод:
– Послушай, поезжай в моей коляске. Так выйдет скорее.
Облаков благодарно положил руку поверх его рукава, сжал:
– А ты?
– А пройдусь. Проветрюсь.
– Да уж. – Облаков скривился. Он выглядел усталым и жалким. – Вот ведь начался денёк.
– Что бы здесь ни случилось, это случилось, уж конечно, не потому, что все четверо отданы в рекруты.
– Бьюсь об заклад, толпа начнёт кричать, что именно поэтому. А мне теперь эту кашу расхлёбывай.
Он сказал по-русски: kasha.
Но Бурмин не ушёл. Он стоял за толстым стволом. Послушал, как стихает топот копыт, кожаный скрип, нежное позвякивание сбруи. Стихли. Облаков уехал. Послушал привычные лесные звуки: шелестотрескожужжание. Осторожно обошёл так, чтобы ветер его не выдал. Привычно выбрал направление так, чтобы ветер дул от него. Ни ветка не качнулась там, где он прошёл. Он весь обратился в зрение. Телега стояла, лошадь качала хвостом, отгоняла слепней. Она не чуяла его. Мертвецы топорщили вверх ступни. Имущество должно быть возвращено владельцу – Шишкину, даже неживое. Голоса живых отдавались под куполом леса, как в церкви. Мочалинские мужики были озабочены и напуганы, но не знали, как выразить чувства иначе, и потому просто огрызались друг на друга. Мальчишка что-то подобрал с земли, получил затрещину. Бурмина это не занимало. Он тихо скользнул мимо, между тонкими серебристыми стволами, будто усеянными чёрными глазками. К колючим моткам ежевики.
Ему было всё равно, о чём они говорили.
Он весь стал глазами.
Затаил дыхание.
Протянул между ветвями руку – и бесшумно снял шёлковую косынку. Как ядовитая змея, не качнув и листка, не зацепив и колючку, она будто уползла в заросли сама по себе, никем не замеченная.
Бурмин убедился: никем?
Крестьяне стояли вокруг трупов. Глядели. Староста сплюнул на мёртвых. Даром что один из них был его племянником. Но может, как раз поэтому. И натянул поверх трупов рогожу. Все трое потопали к козлам, полезли.
Бурмин не удержался: сунул косынку к носу, вдохнул. Потом затолкал себе за пазуху. Поверх бешено заколотившегося сердца. Тихо отступил.
Пошёл. Побежал.
Он бежал, не глядя под ноги. Сапоги съезжали по скользким от мха камням. Ветки хлестали по лицу. Сухие сучья рвали платье. Оступился, упал. Поднялся не мешкая.
Вбежав в дом, хлопнул дверью. Бокам было тесно в сюртуке. Воздуха не хватало. В глазах темнело. Они не сразу привыкали после солнечного воздуха к прохладному сумраку передней. Привыкли.
Разобрали сумрак на очертания: предметы, знакомые с детства. Озёрной прохладой блестело старинное высокое зеркало с чёрными пятнами по углам.
Косынка жгла грудь под сюртуком.
Сорвал, выронил на пол перчатки. Пальцы не поспевали, возились с петлями сюртука. Упала, подпрыгнула, покатилась пуговица. Отвороты раскрылись. Он подхватил шёлковый, его теплом нагретый комок. Сжал. Так легко было думать, что это тепло – всё ещё её. Или?.. Может ли быть в мире два одинаковых запаха? И хотя он знал: не может, не бывает, сунул горсть к носу. Вдохнул. Встретился взглядом с отражением в зеркале: взъерошенный, со скомканной косынкой у лица.
И попятился. Выронил косынку. Опомнился, бросился к двери и запер на ключ.
В гостиной кресла так и стояли, как их бросили этим утром: развёрнутые друг к другу. Над одним ещё стоял призрак сидящего Облакова: запах сукна, дорожной пыли, одеколона, дёгтя и денщика, который дёгтем эти сапоги надраил. Но уже плыл и перекрывал другие новый запах – тот, который Бурмин принёс с собой, который не спутать ни с чем. Потому что только кровь пахнет кровью.
Бурмин рывком соединил шторы на всех трёх высоких окнах.
Выполз, извиваясь, из сюртука, выдрал руки из рукавов. Швырнул на пол.
Размотал и содрал галстук, сорвал рубаху. Распялил её в руках. Пятна были впереди. Обернул. Вот ещё одно. На спине. Завёл руку за спину, пошарил по коже. Изогнулся перед зеркалом. Кажется? Повернулся грудью. Ни царапины. Он был цел. Кровь была не его.
Мягко стукнули сапоги. Гармошкой опали штаны. Выпростал ноги из панталон. Стащил чулки.
Упал на колени рядом с грудой одежды. Переворошил.
Вынимал и по очереди подносил к глазам. К носу.
Пробовал читать пятна и прорехи. Прочесть, что же случилось.
Бесполезно.
Бурмин схватил всё в охапку и, шлёпая босыми ногами по паркету, потащил к камину, затолкал в холодную пасть.
Сжечь. Он сожжёт. Ему вспомнились тела в лесу с торчащими неживыми ступнями – как ходил вокруг них, наклоняя голову, Облаков. Тела в его лесу.
– Это сделал я? – спросил Бурмин сумрак, кресла, паркет.
Попробовал, как звучит. Звучало страшно.
Слишком страшно.
Ум заметался. Переставлял одни и те же кусочки мозаики. Менял местами факт и вывод. Причину и следствие. Переставлял всякий раз по-новому. Всё смахивал – выстраивал новую цепочку.
Она там была. Она всё видела. Это сделал я.
Это сделал я. А она там была – и всё видела.
Она там была – но не значит, видела.
Она там была. Значит, видела. Значит, она знает: я ли это сделал.
А кто ж ещё?
Её косынка была там.
По коже водил пёрышком озноб.
Босой и нагой, Бурмин вернулся в переднюю. Наклонился к шёлковой змейке. Поднял за угол. Посмотрел, точно та могла развеять сомнения – или окончательно его добить.
– Что же ты видела?
Поднёс к лицу. Скользкий шёлк пах её духами. Её кожей.
Лизнул шёлк.
Сквозь шторы на пол ложился клин света.
Бурмин уронил косынку на пол. Устало вытянулся сверху. Закрыл глаза. Перевернулся, чувствуя всем телом скользящее прикосновение ткани. Обернул руку шёлковым концом, погладил себя по шее, по груди, по животу – сжал член. Гладкий шёлк был тёплым. Спасение – простым, мимолётным и лживым. Но уж лучше такое, чем никакое.
И мысли наконец покинули его.
Он полежал ещё, глядя на тишину, что заполняла комнату под самый потолок. Одиночество отдавало звоном в ушах. Паркет стал прохладным, ощущение липкой влаги – нестерпимым. И мысль о том, что вот это всё – то, что ему осталось, вдруг переполнила его таким отвращением, что он резко сел. Сердце гулко билось. Он чувствовал, что решение, которое он примет – или не примет – сейчас, то, что он предпримет – или не предпримет – сейчас, изменит его жизнь. К добру или худу. Но как бы потом ни обернулось, всё было лучше, чем остаться как было – наедине с этой тишиной, с этим потолком, с тошнотворными вопросами, с этим звенящим в ушах одиночеством.
При виде комка одежды в камине его передёрнуло. Косынка Мари лежала там, где он отбросил её, успев не замарать. «Наскучившая любовница», – он усмехнулся ей. Поднял. Поднёс к носу, с нежностью вдохнул.
А потом крикнул во всю мощь лёгких:
– Кли-и-им!
Послушал, как звук прокатился. Тишина. В глубине дома зашаркали шаги.
– Клим! – крикнул открывшейся двери.
– Господи… – попятился старик, прикрыв козырьком глаза, – заголился среди дня…
– А то ты ничего из этого никогда не видел.
Бурмин был уже у стола. Выдвигал ящики, поднимал слежавшиеся бумаги. Ничего!
Старик убрал ладонь.
– Видел, конечно. Ещё когда всё твоё хозяйство было вот… – Он отмерил кончик мизинца. Уел, мол.
Бурмин закатил глаза:
– Ванну приготовь.
Он оглядывал вокруг, хмурясь.
– Да что ты рыскаешь-то? – удивился старик.
Бурмин за уши поволок от камина корзину с бумагами, которые сберегали для растопки. Опрокинул, её с шорохом вытошнило на паркет неразрезанными письмами, нераспечатанными конвертами. Сел себе на пятки, стал ворошить. Читал, бросал обратно в кучу.
Не находил – стал злиться:
– Клим, здесь всё, что приходило?
– Ну дак.
– Приглашение от губернатора. На бал и фейерверк… Его здесь нет.
– Может, не присылали, – заметил Клим. Подошёл, стал сгребать всё обратно в корзину.
Бурмин придержал его руку:
– Погоди.
И снова окунулся в бумаги.
– Да не пригласили! – опять попытался Клим.
– Быть такого не может. Чтоб не прислали. На всякий бал присылают.
– Вы ни на какое не отвечали. Они и перестали. Приглашать.
Но тут Бурмин издал торжествующий возглас и быстро пальцем надорвал маленький голубой конверт. Выпростал сложенную бумагу. Пробежал глазами:
– Отлично. Танцы и мороженое.
«Знал бы – сжёг сразу». Клим готов был хлопнуть кулаком свою дурную голову.
– Готовь фрак.
– Барин! Богом заклинаю! – взмолился Клим.
– Что такое? – нахмурился Бурмин.
– Как бы не стряслось… какой-нибудь глупости.
– Брось.
– Зачем это, барин?
– Пишут, будет фейерверк. Давно не видел фейерверков.
Клим ухватился за голого барина:
– Батюшка! Не губи! Уж шесть лет выстоял! А тут за ерунду пропадёшь…
Бурмин оттолкнул его руки. Нахмурился:
– А ты шесть лет делал вид, что ничего не замечаешь. Вот и делай впредь.
Но добавил мягко:
– Всю жизнь не отсидишься. На черта тогда вообще жизнь? Рубашку под жилет, галстук, – распорядился. – Ступай.
Пнул походя ногой груду бумаг на полу:
– И разожги в гостиной камин!
Он знал, что то, что он сделает, может разрушить его жизнь, но почему-то чувствовал радостный подъём.
Как кавалерист перед атакой, из которой – и он это знает сам – может не вернуться.
Но между «может» и «не вернётся» была пропасть, полная радостного возбуждения, похожего на счастье.
Бурмин подхватил косынку, тряхнул за концы, перекинул, перехватил и, складывая на ходу, босиком пошлёпал в свою спальню.
– Доехали хорошо, благодарю. Один раз только, когда ехали через лес…
Но мать уже потеряла интерес. Махнула рукой:
– Ах, ну и прекрасно, раз всё хорошо. С этими деревенскими дорогами ничего не поймёшь. Что старуха Печерская? Очень тебя уболтала? А как тебе её зять? Не помню, которой он дочери муж. Старшая, Евпраксия, вышла замуж… – И графиня завела разговор, интересный ей, но нимало не занимавший дочь (до чего, впрочем, матери не было дела).
Мари загляделась в окно. Мужик приставил лестницу к старой яблоне. Залез. Зажёг свёрнутую жгутом тряпку. Стал потряхивать, разгоняя густой дым. Обволакивая им себя, как завесой. Мари заметила в ветвях серый шершавый шар. Мужик зажал зубами жгут. Голову его тут же окутал дым. Взялся за шар обеими руками.
Голос матери плескал и журчал где-то в отдалении.
Обсуждали чужие свадьбы.
– Что? Простите, мама, – обернулась она, услышав, что её позвали по имени. Графиня повторила вопрос. Дети. Взглянуть. Мари спохватилась, кивнула.
Показала на окно:
– Это же Василий, верно?
Мужик за окном бережным движением свернул шар, как большое яблоко с черенка. Мотая головой, точно отмахиваясь от чего-то, стал спускаться с ношей.
– Ты его разве помнишь?
– Как забыть. Всегда столько выдумок и проделок. Мы детьми его обожали.
Графиня поморщилась, отмахиваясь от неинтересного ей мемуара:
– Ах, ну скорее же покажи своих!
Мари щёлкнула сумочкой. Вынула, раскрыла и передала матери миниатюрный двойной портрет.
– Какая прелесть. – Одной рукой графиня поднесла к лицу раскрытую рамку, другой придерживала шаль. Но не выразила сожаления, что внуков не привезли.
– К сожалению, у меня только старые, – извинилась Мари. – Новые заказали, да не было готово, когда я выезжала.
– Сколько им здесь?
– Год и два с половиной. Когда писали эти портреты, старший…
– Они такие прелести в этом возрасте, – вздохнула мать, возвращая Мари портреты детей. Прозвучало, как всегда у матери, с ощущением многоточия, за которым должно было стоять нечто вроде: «…в каких мерзких взрослых они потом вырастают. Взять хоть тебя, дорогая Мари».
– У Мортье новые заказали? – поинтересовалась мать. – Сейчас все заказывают у Мортье. Сходство, говорят, поразительное. В его акварелях столько воздуха и есть особая прозрачность, которая отличает подлинное искусство, – повторила графиня то, что повторяли все.
– В её. – Мари сложила и убрала рамку.
– Что, дорогая?
– Мортье – мадемуазель. Нет, не у неё. У неё слишком дорого.
– А, в самом деле? Какая разница. Тем более, – весело согласилась мать.
Вошёл граф. Вид у него был распаренный, глаза ошалелые. Вытер лысину платком:
– Фу-ух, Василий этот. Чуть не уморил. Насилу от него удрал.
– Что на сей раз? – усмехнулась графиня.
Отец подошёл к дочери:
– Здравствуй, дорогая. Как доехала? Хорошо? Все благополучны? Муж здоров? Дети с нянькой?
И не выслушав ответа ни на один вопрос, упал в кресло, прошёлся платком по лысине и лицу:
– Как что? Новая идея. Что ж ещё?
– Василий? Мы с maman о нём как раз вспоминали. Как он нам с Алёшей паровую машину построил, – вспомнила Мари с улыбкой, – и ещё тележку: надо было толкаться ногами, и…
– Он, – кивнул граф. – Только теперь он утверждает, что нам надо всё бросить и начать варить бумагу.
– Прошу прощения? – засмеялась графиня. – Зачем нам варить бумагу? Как, извините, кашу? И что с ней потом делать? Ложками есть? С маслом и сахаром?
Граф отмахнулся:
– Из дерева варить. Фабрику завести.
– Зачем нам столько бумаги? Если всегда можно послать в лавку и купить сколько надо.
Граф отмахнулся:
– …Не спрашивай больше. Сил моих больше нет на эти его фантазии.
Графиня охотно сменила тему:
– Мари очень хвалит художницу Мортье в Петербурге. Я о ней и от Несвицких слышала.
– Несвицкие здесь? В Смоленске? – удивилась Мари.
– А ты не знала?
– Откуда? Дети так много болели в последнее время, я никуда не выезжала и ни с кем особо и не видалась.
Болезни внуков бабушку не заинтересовали.
– Знаешь, и у нас в провинции, бывает, съезжается общество, – весело съязвила она. – Шишкины тоже будут на бале. Ради фейерверка уж точно притащатся. Они из тех, кто любит простые радости. Ты их не знаешь? Баснословно богатые, смехотворные тоже, хороший вкус, знаешь ли, за деньги не купишь. Но богаты очень…
Графиня Ивина обернулась к мужу:
– Мой дорогой, у меня появилась чудесная идея. Давай закажем твой портрет у мадемуазель Мортье. Пока она во Францию опять не уехала. А то мы с Бонапартом то дружим, то не дружим, то опять дружим. Надо поспешить! Такая возможность восхитительная!
– Но мама… – начала было Мари.
Графиня будто не слышала:
– Помнишь, пустое место над диваном? Над тем зелёным… В маленькой гостиной… Ты ещё жаловался, что там, когда сидишь в кресле в углу, взгляду как-то пусто, нехорошо…
– Моя дорогая, я жаловался, что нечем любоваться. Моя физиономия не поправит дело. Закажем портрет с тебя.
Графиня ответила кокетливой улыбкой.
– Но знаешь ли, Мари… – Граф сделал озабоченное лицо и наклонился к дочери: – У меня к тебе есть небольшая просьба.
«Так, – обречённо подумала Мари, – а сейчас что?» Но предположить не успела.
– Не могла бы ты поговорить с Алёшей.
– А что с Алёшей?
«Он поступает в гвардию и ему нужны мундир и лошади? Он проигрался? Он отселяется отдельным домом? Он…»
– Он задумал жениться.
«Я почти успела это предположить».
– Это замечательно.
– Милая, это замечательно только в том смысле, что ужаснее положения не может быть! – встряла мать.
Мари удивлённо посмотрела на неё, на отца.
– Вопрос – на ком, – ответил тот.
Жена положила руку ему на рукав, как бы говоря, что теперь дело изложит она. И обратилась к дочери:
– Мы все любим Оленьку. Любим как дочь – бог свидетель, мы никогда не относились к ней иначе, чем к собственным детям.
– Я понимаю, мама, – остановила Мари.
Оленька жила у Ивиных, была сиротой, её взяли из милости, когда овдовел, а потом спился отец – мелкий чиновник.
Но, видимо, Мари не могла понять весь ужас положения, как того хотела графиня, поэтому та с улыбкой покачала головой и погрозила ей пальцем:
– Всё из-за тебя, дорогая.
– Из-за меня? – искренне изумилась Мари.
– Конечно, мы тебя не виним.
«Но это, конечно же, твоя вина», предполагалось.
– Если бы только ты взяла Оленьку к себе, когда вышла замуж. Ведь в доме, в семье всегда нужна помощница. Ты бы увезла её в Петербург, и всё бы у них с Алёшей развязалось само.
– Но вы не…
– Мы полагали, что ты сама догадаешься. Мы ждали, думали, вот уж пойдут дети, тогда. Детям нужна нянька. Кто может присматривать за детьми лучше, чем родной, гм, почти… человек.
– Как было бы чудно. – И граф растерянно развёл руками. – А что ж теперь?
– А теперь поздно! – с несколько излишней драматичностью воскликнула мать. Так что Мари испугалась, предположив худшее. Мать поняла это по её лицу.
– О, дорогая, не-е-е-ет. Не в этом смысле.
И весело расхохоталась над своей оплошностью:
– О, боже мой… Нет-нет… боже, я совсем не подумала, как это могло прозвучать.
Граф тоже не выдержал, прыснул.
– Нет-нет. В этом смысле пока ещё не поздно. Но за молодыми людьми поди угляди! Сегодня ещё не поздно. А завтра – уже ничего не поделать.
Графиня смахнула платочком выступившие от смеха слёзы.
– Так ты поговори с Алёшей, милая, хорошо? А ещё лучше – с Оленькой. Граф, не слушайте нас сейчас, – кокетливо приказала она.
Тот замахал руками: мол, не слушаю и не думал. Раскрыл ящик с сигарами. Выбрал. Стал обрезать щегольским ножичком.
– Мы, женщины, прекрасно знаем, что мужчинам только кажется, что это они решают, когда влюбиться, когда объясниться, когда сделать предложение. В сердечных делах именно у женщины власть дать всему ход – или остановить, – нажала она, многозначительно глядя на Мари.
Граф пыхнул сигарой. Посмотрел на дочь сквозь дым.
Та отвела взгляд от обоих:
– Я понимаю, мама.
– Так мы можем быть спокойны, что ты это уладишь?
– Ах, чудно! Чудно! – поспешил свернуть разговор граф.
«Он что, боится, что я откажусь?» – подумала Мари.
– Вот и славно! – Отец хлопнул себя по коленям. – Теперь мы можем быть по-настоящему спокойны. Что, Влас? – обернулся он на вошедшего старосту. – Я тебя разве звал?
– Вы назначили на одиннадцать.
Граф, держа сигару на отлёте, затравленно глянул на часы на каминной полке. Потом – на бумаги в руках у старосты. Цифры, цифры, цифры.
– Только присел, тут же врываются, опять дёргают! Эдак невозможно. Мари, как хорошо, что ты приехала. Не могу и выразить, как я рад тебя видеть! Душенька, займись с Василием.
– С Василием?
Граф замотал головой:
– Вот видишь, как меня запутали. Голова кругом. Все эти заботы и дела положительно сушат мозг. А ещё этот фейерверк сегодня! Невозможно так! Я хотел сказать – с Власом. Поговори с ним. Посмотри с ним его бумажки. Тебе это не скучно. Ты у нас всё равно веселиться не любишь. А впрочем, если ты и с Василием поговоришь, очень меня этим выручишь.
– К тебе скука не липнет, – вставила мать. – Ты у нас такая серьёзная.
– Но я…
– Разве ты собиралась сегодня вечером на бал к губернатору? Ну тем более. Тебе же не хочется краснеть за родителей.
– Но я…
– Боже, с этим балом столько хлопот. Уже полдень почти. А я ещё даже свой туалет не проверяла.
Мари растерянно глядела то на отца, то на мать, то на старосту Власа. Тот терпеливо стоял, глядя в пол, и ждал внимания к своей персоне.
– Но я… – Горло Мари сжалось. И больше ни звука не удавалось протолкнуть.
Граф почувствовал нечто вроде укола совести:
– А вы с Власом устройтесь в моем кабинете. Мы туда купили новый стол и кресла. Гардины поменяли. Тебе там будет очень чудно и удобно.
– Дорогой. – Графиня продела руку ему под локоть и повлекла к двери. – Идём. Я должна и твой фрак осмотреть. Мы фрак из Парижа выписали. Пока с Бонапартом опять не рассорились.
– А, – обернулся граф, – кстати. Василий. Он стал такой докучный. Его фантазии всё безумнее. Я вот думаю, как бы он не спятил. Может, продать его, пока не поздно? Разберись, душенька.
Мари закашлялась. В горле першило, точно его присыпали битым стеклом. Знакомое ощущение, которое возвращалось всякий раз, когда она сама возвращалась в родительский дом.
– Всё хорошо, душенька? Ты не простудилась ли дорогой?
Кивнула – да. Помотала головой сквозь кашель – нет.
Горло сжималось, и сквозь стеклянные крошки невозможно протолкнуть ни звука.
– Ну так сделаешь, душенька?
Кивнула.
– Барынин саквояж! – взвизгнула горничная. – Зырь, куда топаешь!
Лакей прогудел смущённо.
– Здесь поставь. Её сиятельству саквояж сама отнесу. Деревенщина.
Крепостная прислуга свесила головы. Разглядывали и судили прибывшую. Горничная приехала отдельно от барыни – вместе с багажом. Лакеи вносили саквояжи, портпледы, картонки. Прислуга пялилась, перешёптывалась, обсмеивала, но глядела на новенькую во все глаза – впитывая столичные манеры, фасоны, моды.
– Глянь, глянь. Экая фря! Столичная.
– Ну и платье. Кошка полосатая.
Горничная, шурша полосатым платьем, толкнула, задвинула ногой саквояж.
– Генеральшина?
– А чья ж? Глянь, сама как генеральша.
– Завидки за жопу хватают – завидуй молча.
– А кофурты?.. – сунулся к щеголеватой горничной другой лакей.
– В гардеробную её сиятельства.
Она никогда не называла хозяйку ни «барыней», ни «генеральшей». Чтобы не ронять себя в собственных глазах.
А позади уже дёргала за край косынки старуха-нянька:
– Ты, Анфиса…
– Анфиса Пална, – презрительно поправила горничная и бросилась наперерез: – Этот портплед дайте мне! – перехватила из рук лакея.
Тот вдруг не пустил. Посмотрел прямо в глаза. Прожёг нутро насквозь. Оценил. Усмехнулся в лицо. Разжал пальцы. Горничная не сразу нашлась. А когда нашлась, лакей уже прошествовал мимо – важный, как персидский царь. Анфиса глядела ему вслед. Нянька меленько кивала позади:
– Анфиса Пална, Анфиса Пална… Так тебе вот постелили на антресолях.
Та обдала презрением поверх старухиного темени. Подхватила саквояж, портплед:
– Где спальня её сиятельства?
Староста Влас потоптался. Помял в руках бумаги. Шумно выпустил воздух вдоль пегой бороды. Мари подняла голову.
– Изволите в кабинет пройти, ваше сиятельство?
– Прошу, Влас. Присядь. Сюда.
Она указала на кресло напротив ломберного стола.
– Показывай. Рассказывай.
С мрачным торжеством Влас принялся раскладывать бумаги на зелёном сукне, поясняя каждый счёт.
– Изволите видеть, ваше сиятельство, – смачно заключил он.
Несколько мгновений Мари молчала. Родители жили не по средствам, тратили больше, чем имели дохода с имений. Потом, чтобы заткнуть дыры, продавали кусочки имений, тем самым уменьшали будущий доход, в результате новые дыры были шире прежних, чтобы заткнуть их, продавали ещё больше, тем самым ещё урезая будущие доходы… Она подозревала, что дела родителей не блестящи. Но что они плохи и расстроены настолько, не могла и предположить.
«Алёша… Долги… Оленька… А теперь ещё и это».
Хотелось провалиться, испариться, улетучиться. Уснуть прямо сейчас – и проснуться, когда всё как-то развяжется. Само. Она прикрыла глаза. Само ничего никогда не развязывается. Никогда.
– Ваше сиятельство. Какие будут распоряжения? – почтительно, но с мстительным удовольствием напомнил о себе староста Влас.
Только когда в дверях показалась её горничная, напомнила, что пора причёсываться и одеваться к вечеру, Мари протянула старосте руку и отдала последние распоряжения. На сегодня.
Но далеко не последние, это ей было ясно. Она медленно поднималась по лестнице, чувствуя бессмысленную усталость человека, который весь день вычерпывал болото чайной ложкой.
– Ваше сиятельство.
Мари посмотрела вниз. Красивый высокий лакей – давешний «персидский царь» – глядел на неё почтительно, но от взгляда его ей отчего-то стало не по себе.
– Чего тебе, Яков?
– Тут Василий-мужик нижайше просят вашу милость.
– Что ему надобно?
Горничная вышла ей навстречу:
– Всё готово, ваше сиятельство.
– Показать вам что-то. Дело обсудить, – ответил снизу лакей Яков.
Горничная при звуках его голоса вдруг покраснела.
Мари обернулась на лакея.
Гримаса выражала его большие сомнения в том, что у крепостного мужика есть что показать барыне.
– Что показать?
Яков презрительно заметил:
– Не имею чести быть осведомлённым, ваше сиятельство.
«Василий и его идея», – вспомнила Мари. Сил не было вникать. Она махнула рукой:
– Яков, передай ему: не сейчас, потом.
Лакей надменно поклонился ей.
Горничная старательно отводила глаза, чтобы ненароком не встретиться с его наглым, будоражащим взглядом.
– Всё готово, ваше сиятельство, – повторила глуховато. Щёки её розовели.
– Ты знакома с Яковом? – спросила Мари.
– Я? Нет. Кто это?
Мари прошла.
В гардеробной пахло раскалёнными щипцами для волос.
Горничная помогла снять платье.
У Мари был секрет. Немного постыдный, учитывая положение и доходы мужа.
Мари причёсывалась сама. Осторожно зажимала щипцами прядь, с приятным страхом чувствуя щекой близкий жар металла. Оттягивала к концу. Завёртывала. Вынимала. Горничная держала шпильки наготове.
– Анфиса, шпильки.
Привычные движения, привычный результат. Воткнув в узел волос последнюю шпильку, Мари почувствовала себя успокоившейся.
Горничная осторожно поднесла к её убранной голове голубую шёлковую трубу платья. Мари просунула, не касаясь, голову, с наслаждением, как в прохладную воду, нырнула руками, плечами. Горничная принялась прикалывать на платье цветы.
Несвицкие приехали на бал, как приезжали в Петербурге: чтобы не среди первых и не среди последних. Но это был не Петербург.
Несколько мгновений они недоумённо стояли в пустой передней зале перед большим зеркалом. Лакей убежал звать хозяйку. В пол отдавало дрожью – танцевали мазурку. Доносились отдалённые залпы, похожие на пушечные, когда все кавалеры разом припадали в прыжке. Бал был в разгаре.
– Однако, – иронически молвил за голыми плечами своих дам князь.
– Где все? – шепнул сестре Мишель.
– О, как я рада! – звонко расцеловалась запыхавшаяся губернаторша: сперва с княгиней, потом с… но Алина в последний момент надменно отшатнулась, и губернаторша чмокнула воздух в нескольких вершках от её напудренной щеки.
– Мы уже думали, вы не приедете! – простодушно призналась губернаторша. – А хозяин танцует, – объяснила отсутствие мужа.
– Завидно, – отозвался князь.
– Вы любите танцевать? – тут же подхватила губернаторша.
Князь Несвицкий ответил поднятой бровью: она что – всерьёз?
– Нас задержали горничные, так досадно. Чувствую, мы пропустили всё веселье, – тут же пропела княгиня.
Алина закатила глаза. Мишель усмехнулся.
– О, веселья ещё хватит. – И хозяйка повела припозднившихся гостей в пёстрый шум бальной залы.
Скоро князь присоединился к разговору по душе. В том смысле, что он мог слушать его вполуха. Княгиня уселась в креслах, откуда другие дамы наблюдали за своими дочерями-невестами. Первый танец Мишель танцевал с сестрой:
– Не допущу, чтобы моя сестра отиралась у стены с кислыми старыми девами.
– Ты очень мил. Но мне всё равно, где скучать – у стены или с каким-нибудь унылым кавалером.
– Может, не все унылые, – заметил Мишель, обводя её в танце.
– На тебя засматриваются, – сообщила сестра.
– Хорошенькие?
Алина улыбнулась:
– На твой вкус или на мой?
– Пусть на твой.
– Боже, посмотри. Что за перья у неё на голове, сорочьи?
– А как тебе граф Ивин?
– Который из двух?
– Алексей забавен.
– На твой вкус, – парировала сестра.
– Хорошо. А Шишкин?
– Кто это?
– Вон тот.
– С бараньей причёской?
– Тебе не угодить. Он сын миллионщика Шишкина.
– Почему они все такие пресные?
– Посоли – и не будут пресные.
Музыканты заиграли каденцию. Мишель подвёл сестру к креслу, где сидела мать. Иронически щёлкнул каблуками и уронил голову на грудь:
– Княжна Несвицкая.
– Шут гороховый.
– А где папа?
– Там, среди местных знаменитостей, – махнула веером княгиня. – Боже, как ужасно одеты дамы. Ты посмотри на эту, в таком возрасте розовое… Я маленькая миленькая сорокалетняя девочка… А у этой что за перо, сорочье?
– А я что говорила? – обернулась к брату Алина.
– Вот эта только ничего. Хотя бы не так провинциальна.
Мишель и Алина посмотрели, куда она показала: на даму в голубом с жемчугом в волосах и индийской шалью на плечах. Мать и дочь подумали об одном: сколько же за такую шаль плачено. Вслух, разумеется, не высказались. Мишель шаль и не заметил – для него не было разницы между той, за которую плачено три тысячи червонцев, и трёхрублевой:
– Она и не местная. Из Петербурга. Приехала вчера вместе со старухой Печерской, мне её зять сказал.
– Из Петербурга? – эхом переспросила внизу княгиня, оживлённую злобу её как рукой сняло. Лишний свидетель случившегося был ей здесь ни к чему.
Алина ответила поверх высокой причёски матери:
– А ты, гляжу, со многими уже перезнакомился.
– Мы, мужчины, быстрее находим общий язык, – ухмыльнулся Мишель. – Нас сплачивает много интересов: карты, вино, лошади.
– Эта в голубом – лошадь?
Княгиня их не слушала, сидела как на иголках. «Петербургских дам здесь сейчас только не хватало». А вторая мысль была: «Знает она – или нет?» Княгиня понадеялась, что нет. Но опасалась, что да. Судя по наряду и манерам, эта дама принадлежала тому же кругу, что сами Несвицкие.
Музыканты на хорах подняли смычки. Мишель двинулся с места:
– Пойду приглашу эту из Петербурга. Хотя бы ноги мне не оттопчет.
Княгиня нашла глазами мужа – спросила его глазами, тот ответил взглядом: а, не хочу ничего знать. Княгиня подняла лицо на дочь. Но Алина смотрела перед собой, поверх голов – прикрыла зевок веером.
– Здесь так вульгарно, так скучно. Я вас оставлю ненадолго, мама. – Алина придержала подол. Проскользнула мимо.
Княгиня проводила дочь злым взглядом. «Ненадолго. Как же. Натворила дел… Теперь нигде нет покоя».
Дамская уборная оказалась лучше, чем Алина ожидала. Это разочаровало: она предвкушала, как сатирически опишет её Мишелю. Но растения в кадках и вазах были свежие. Зеркало – большим и чистым. Пахло духами. Горничная девка, посаженная на случай, если у какой-то дамы развяжется лента, лопнет тесёмка, оторвётся оборка, была в опрятном сером фартуке. И при виде Алины тут же поднялась, поздоровалась – и оказалась не девкой, а француженкой.
Алина сделала знак: ничего не надо. Горничная села и снова превратилась в слепоглухонемого истукана. Алина подошла к зеркалу. Петербургская дама приехала так некстати. Именно сейчас. Как назло. Могла она знать про ту историю? А не знать? Петербург – город большой. Даже в узком светском кругу. Отсиживаться теперь в уборных всю жизнь? Что делать, она не знала.
Алина взяла пуховку. На коробке стояло тиснение по-французски: «Москва, Кузнецкий мост». Алина вздохнула и припудрила лицо.
Шум платьев и голоса заставили её удивлённо опустить пуховку. В зеркало Алина видела, как из-за ширмы бросились две девицы. Без перчаток и с босыми ногами.
– Моя очередь! – воскликнула одна.
Третья, слегка запыхавшись, вбежала из залы. Она на ходу стягивала перчатки.
Босая бросилась к её ступням, схватилась за туфельки.
– Да развяжи сперва, – притопнула вошедшая.
Одна тут же принялась натягивать перчатки. А вошедшая уже скатывала с ног чулки, подпрыгивая на одной ноге.
Сброшенные туфли валялись рядом.
Горничная и ухом не повела. Не вскочила, не присела, не бросилась помогать. Очевидно, и девицы, и всё их странное поведение были ей знакомы.
Не было сомнений, что все три – сёстры. И наконец они заметили Алину, застывшую у зеркала в таком глубоком изумлении, что её можно было принять за неодушевлённый предмет.
– Ой.
Все три начали медленно наливаться краской. В руках у одной висел чулок.
Алина всё сообразила мгновенно. Одна пара туфель на троих. Одна пара перчаток на троих. Танцуют по очереди. В надежде зацепить жениха. Они не были ей соперницами. Они могли стать её союзницами: сейчас не нужны, но никогда ведь не знаешь! Если только успеть приручить. Алина не выразила ни удивления, ни вопроса. Как будто босых девиц встречала на балах каждый день. Как будто быть босой и без чулок на бале – самое обычное дело. Дружелюбно улыбнулась, показала на мятую туфельку:
– Испачкалась.
– Ой. Где… Что ж делать… Моя очередь… А я пообещала танец господину Егошину, – заверещали все три.
Алина села с пуховкой в руке, платье облаком опало вокруг.
– А вот что.
Плюнула на пятно. Обсыпала пудрой. Стряхнула лишнее. Протянула с улыбкой:
– Вот и нет пятна. Перебирайте быстро своими ножками, милая. И никто ничего не заметит.
В конце концов, она тоже была воспитанной дамой.
Три сестры просияли благодарными взглядами. Младшая сунула ступню в большую, не по размеру, туфельку, быстро перехлестнула ленты вокруг щиколотки, затянула. Оправила платье, остановила на Алине робкий благодарный взгляд. Все три глядели на свою спасительницу настолько простодушно, были так жалки в своих дешёвых платьицах на розовом чехле, что на миг Алина подумала, не одолжить ли свои перчатки и туфли, – к танцующим ей всё равно не хотелось. Но только на миг, потом прошло.
– Алина, – представилась.
– Елена… Катя… Лиза…
– Лиза, бегите же, ну! – Алина хлопнула в ладоши.
И сестра, которой достались перчатки и туфли, унеслась.
Алина села на диван. Грациозно показала рядом. Сёстры уселись по обе стороны, болтая голыми ногами. Горничная бросила на эти босые ноги презрительный взгляд. Алина метнула в ответ такой, что пригвоздил француженку к стулу, как копьё.
– А вы? – осмелела первой Елена.
«Старшая», – догадалась Алина.
– Неужели вам не хочется туда? Танцевать?
«Вот она, провинциальная простота», – внутренне скривилась Алина. С простыми людьми, знала она по опыту, труднее всего: такое ляпнут, только успей увернуться. Вот что ответить на эдакое? Она очаровательно улыбнулась. И не сказала ничего.
– Есть интересные, – заметила на это Катя.
«Вам – может», – подумала Алина. Ответила с улыбкой:
– Кто же? Я почти ни с кем не знакома.
Обе сестры так и сорвались с дивана:
– Как? Вы не знаете? Все барышни в ажитации. Вы не слыхали? На бале – сегодня! – господин Бурмин.
Алина равнодушно пожала плечами. «Интересно», – подумала, фамилия была ей знакома, ибо род был известный и старинный.
– Вы не знаете, – отстранилась Елена.
– Что же я должна знать?
– Красавец.
– Вылитый Эдмунд.
– Манфред!
Алина не читала ни того ни другого, да и литературные аналогии её не влекли:
– И до сих пор не женат?
– Он не появлялся в обществе чуть не пять лет.
– Где же он был всё это время?
– У себя в имении.
«А вот это нехорошо, – задумалась Алина. – С чего честному человеку зарываться в деревне. Если только он не развратник с гаремом из крепостных девок». Но плюс был существеннее: если человек сторонится общества, до него вряд ли быстро дойдут слухи о… Ограничилась кратким:
– Красавец?
– Не верите, – разочарованно потянула Елена.
– Идёмте, – взяла её за руку Катя.
Алину мало что могло испугать. Алина не боялась страшного. Она боялась смешного. А показаться в обществе босоногих девиц с голыми руками – хоть и в Смоленске, но всё же на губернаторском бале, – было глупым и жалким. Женихи могут простить позор. Но не прощают смешного.
– Но вы же… А туфли? А перчатки? А чулки?
– Мы знаем место.
Они потащили её какой-то тёмной узкой лестницей. «Что я делаю», – ужасалась Алина, но от отступления её отвлекали заботы, как бы не наступить себе на подол и не окончить свои дни здесь, упав и сломав шею. Обе девицы прыскали и фыркали. Пропихнули Алину, протиснулись сами. Пахло пылью. Музыка слышалась отчётливее. Алина поняла, что они на галерее. Катерина и Елена притиснулись, сминая розы на её платье. Алина ощутила запах их пота. Блестели в темноте только глаза.
Съездив по носу, мимо протянулась рука. На что-то надавила. Что-то щёлкнуло. Отвела в сторону – и темноту прорезал клин света. Елена припала глазом к щели. Отпрянула, зашептала:
– Вон там. Глядите. У колонны, у третьей справа.
Алина приблизила к щели глаза. Сморгнула.
Слева. Справа. Колонна. Первая, вторая, третья.
Сперва она увидела даму в голубом. Ту, из Петербурга.
– Мы полагаем, – дунул в ухо голос Елены, – что господин Бурмин заскучал от холостой жизни и решил подыскать себе партию.
Дама стояла вполоборота, индийская шаль спустилась с плеча. «Шестнадцать тысяч», – уверенно определила её стоимость Алина. Пальцы дамы сжимали сложенный веер. Слишком нервно. А лицо спокойно, губы растянуты в улыбке. Светская дама, которая привыкла скрывать чувства. Которой есть что скрывать.
«Интересно, – задумалась Алина, – что на свете может обескуражить даму, когда на ней такая шаль?»
Шею и плечи Алины защекотали сзади локоны.
– Ну как он вам? Правда, душка? – тянулась на цыпочках, толкалась лбом Елена.
Алина нехотя отвела взгляд от занятной дамы.
– Он такой бледный. Интересный, – шептала в ухо Катя.
– Этот?
– Душка, – опять дунула ей в ухо Елена.
…Алина ненавидела слово «душка» – от него веяло институтом благородных девиц, бедных и восторженных. Она не была ни той ни другой. Но пришлось признать, что в сём случае глупая провинциальная цыпочка была отчасти права.
Господин Бурмин вдруг поднял голову. Поверх шума, поверх движущейся массы танцующих, поверх причёсок, поверх цветов, поверх смычков. Будто почуял взгляд. Будто знал, что смотрят. Кто смотрит. Посмотрел Алине прямо в глаза.
Он не мог видеть её отсюда. Даже знать, что она там. И всё-таки Алина отпрянула, закрыв щель ладонью.
– Что такое? Ты никак вернулась? Внезапно обнаружила, что не так уж всё вульгарно и скучно? – спросила мать, когда Алина снова подошла к диванам и креслам, в которых расположились матери взрослых дочерей и старухи, которые не танцевали.
Алина привычно пропустила её шипение мимо ушей. Разговор провинциальных сплетниц занял её.
– Что-то господин Бурмин не танцует. Зачем тогда было ехать на бал?
– Ему не надо танцевать. Господин Бурмин уже сделал сенсацию своим появлением, – ответила дама в палевом чепце.
Дама рядом с ней навела на танцующих лорнет – проверить, как там дела у её птенчика. А поскольку её птенчика господин Бурмин тоже не пригласил танцевать, сообщила:
– Решительно не вижу почему. Надутый, спесивый. Сам веселиться не умеет и другим мешает. Что за манеры у нынешней молодёжи! Это теперь модно? Так пыжиться?
– Как почему? Имения в Пензенской губернии. Тульское. Нижегородское.
– Уже нет. Говорят, с тех пор как он дал вольную своим крестьянам, его состояние сильно поубавилось.
– Всем?
– Мне муж сказывал. Делопроизводители мозоли себе натёрли. Отпускные письма выписывать.
– Он фармазон, – отрезала дама, дочь которой не танцевала с Бурминым, – и пьяница. Потому и отпустил мужиков. Вот помяните моё слово. Такие господа сперва книжки французские читают. Потом крестьян на волю отпускают. А потом и против правительства заговорят.
– Нищеброд.
– Говорят, ненадолго. Он единственный наследник старой Солоухиной.
Дамский кружок дружно призадумался.
– А что? Старая Солоухина плоха?
– Солоухины и нам родня. Дальняя.
Алина с сомнением посмотрела на говорившую это даму: швы на её платье потёрлись и были замазаны домашним способом. «Да уж. Старая ведьма, похоже, и не знает об эдакой родне», – подумала Алина.
– А толку такому с наследства? Так же и профукает, как своё.
– Если только этого Бурмина не приберёт себе мудрая жена. Которая не даст профукать солоухинские миллионы.
Над этим выводом дамский кружок крепко задумался.