Цена утопии. История российской модернизации бесплатное чтение
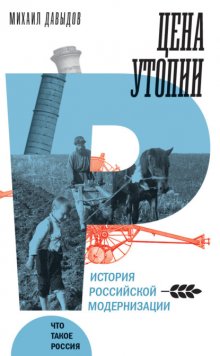
© М. Давыдов, 2022
© В. Тян, иллюстрации, 2022
© Д. Черногаев, дизайн серии, 2022
© ООО «Новое литературное обозрение», 2022
От автора
Эта книга о бремени истории. О том, какую власть имеют над нами вековые демоны. О живучести отживших, казалось бы, идей, реализация которых уже не раз ставила нашу страну на край гибели.
Все мы – современники неудачных масштабных реформ, кто в большей, кто в меньшей степени, поэтому неудивительно, что в последние годы мы все чаще задумываемся о том, почему попытки либерализации России в течение последних 160 лет оказываются бесплодными (по крайней мере, так это представляется со стороны).
Не так давно мой коллега и друг С. В. Мироненко, касаясь этой темы, апеллировал к своим воспоминаниям о перестройке. В частности, он заметил, что чем чаще М. С. Горбачев повторял, что «перестройка необратима», тем явственнее эти слова представлялись ему «заклинанием человека, боящегося как раз обратного и убеждающего самого себя в правильности выбранного пути».
И действительно, продолжает ученый,
каждый раз, когда в истории России начиналось коренное переустройство страны, опасность возврата к прошлому оказывалась жестокой реальностью. После реформ следовал период контрреформ, либеральный курс сменялся завинчиванием гаек, усилением реакции. Страна… не решалась встать на путь коренных перемен, хотя, казалось бы, осознавала их необходимость и даже неизбежность.
Посыл С. В. Мироненко осмыслить феномен своеобразной ватной стены, на которую натыкаются попытки сделать жизнь России свободнее, вполне понятен. У меня, как и у многих, есть собственный опыт приобщения к размышлениям такого рода.
Долгие годы изучения различных аспектов социально-экономической истории конца XIX – начала XX века привели меня к убеждению, что модернизация Витте – Столыпина была временем успешных реформ, превративших Россию в одну из самых динамично развивающихся стран в мире. Вместе с тем я настаиваю, что это, в сущности, была «модернизация вопреки», поскольку сопровождавшие ее преобразования значительная и влиятельная часть русского общества отвергала. Именно с 1890-х годов, когда правительство начало проводить политику, шедшую вразрез с доминирующими в общественном мнении тенденциями, Россия начала эффективно преодолевать громадное отставание от передовых стран Запада, зафиксированное в середине XIX столетия. Но пореформенный период развития Российской империи мог быть намного успешнее, если бы модернизации не сопротивлялись элиты. Природе данного противодействия и его многообразным последствиям во многом посвящена наша книга.
Эта тема куда интереснее и масштабнее, чем может показаться на первый взгляд: ее анализ позволяет увидеть ключевые проблемы нашей истории с не вполне обычного ракурса и тем самым прояснить их.
В 1985 году, закончив аспирантуру, но еще не защитив кандидатскую диссертацию на тему «Монополия и конкуренция в сахарной промышленности России начала ХХ века», я начал писать книгу «Оппозиция Его Величества» о генералах М. С. Воронцове, Д. В. Давыдове, А. П. Ермолове, А. А. Закревском, П. Д. Киселеве, И. В. Сабанееве. Люди необычных судеб, герои удивительного времени, они – в разной, конечно, степени – давали пример того, как человек может встать над своей судьбой, определяемой рождением и воспитанием. Я пытался выяснить их взгляды на Россию и русскую армию в 1815–1825 годах, то есть в период, вместивший и последний приступ Александра I к коренным реформам страны, и переход к реакции.
Не вдаваясь в детали, скажу, что на излете застоя в историографии была популярна мысль, что русское дворянство той эпохи как бы стояло перед выбором – либо в декабристы, либо к Аракчееву. Мне это казалось натяжкой, и я постарался показать, что все было намного сложнее. Ведь мои герои относились к числу наиболее ярких представителей большинства русского дворянства, которому были чужды как революционные «мечтания», так и аракчеевщина.
В ту пору – издержки советского истфака – мне казалось, что эта книга связана с моей диссертацией не больше, чем, к примеру, с греко-скифской археологией. Однако стоило мне со временем перейти от анализа статистики начала ХХ века к живым людям, чью жизнь описывали эти цифры, как выяснилось: многое из того, что волновало моих героев в 1815–1825 годах, было вполне актуальным поводом для беспокойства и через полвека, в период Великих реформ, и почти через сто лет, в эпоху реформ П. А. Столыпина. За три четверти века – от Александра I до Русско-японской войны – очень важные, жгучие вопросы русской жизни так и не были решены, их поместили, условно говоря, в вечную социально-политическую мерзлоту, в которой многие из них существуют и сегодня.
У многих наших современников царская Россия ассоциируется с понятиями «отсталость», «незавершенные реформы», «обреченность на революцию». Я не имею в виду метафизические аспекты проблемы отсталости, породившие обширную литературу, начиная с Гершенкрона. Я говорю о нашем, если так можно выразиться, повседневном идейном обиходе, в котором эта отсталость как бы обрела отдельную самостоятельную жизнь и воспринимается как некий объективный факт мироздания, вроде строения Солнечной системы.
С одной стороны, удивляться тут нечему: Россия не относилась к числу передовых стран. Однако следует иметь в виду: на то, чтобы мы с пеленок помнили об этом, за последние сто лет были израсходованы гигантские ресурсы и методы убеждения, включающие ГУЛАГ. Ведь образ царской России как отсталой страны с незавершенными реформами и ограниченными возможностями имеет смысл только в соотнесении с Россией Советской – страной успешных реформ и неограниченных возможностей, включая практику неограниченного геноцида собственного народа.
С другой стороны, парадигма отсталости и кризиса не позволяет ответить на очень простые вопросы. Прежде всего – как она совмещается с тем, что именно после 1861 года русская культура завоевала безоговорочное мировое признание, в том числе первые Нобелевские премии в области науки? Отсталая страна может дать одно-два великих имени, но не мощный взлет культуры на протяжении десятилетий.
При всех сложностях дореволюционная индустриализация отнюдь не была, условно говоря, ни строительством вертолета на Демидовской мануфактуре XVIII века, ни разведением цитрусовых на берегу моря Лаптевых, ни даже «пятилеткой в четыре года». Самые современные заводы во второй половине XIX – начале ХХ века строились, как мы увидим, за год-полтора-два, и для этого не нужна была «сплошная коллективизация». Столыпинская аграрная реформа за несколько лет безусловно преобразила страну к лучшему. Оказалось, что царизм способен проводить успешные масштабные преобразования. Однако почему же тогда заводов строили недостаточно? И почему реформа Столыпина была проведена, как полагают многие, слишком поздно?
Мой ответ таков.
Я считаю, что после 1861 года Россия во многом сознательно де-факто реализовывала антикапиталистическую утопию, согласно которой в индустриальную эпоху, во второй половине XIX века можно быть «самобытной» великой державой, то есть влиять на судьбы мира, принципиально отвергая все то, за счет чего конкуренты добились преуспеяния, и в первую очередь – общегражданский правовой строй и свободу предпринимательства. Естественным следствием этой политики стало унизительное поражение в Русско-японской войне, спровоцировавшее революцию 1905 года. И лишь с 1906 года вектор развития страны начал меняться.
Сказанное поворачивает в другой ракурс тему вечной отсталости России, и нам предстоит в этом разобраться.
Чтобы уяснить причины возникновения утопии и факторы, обеспечившие ее устойчивость во времени и популярность среди представителей разных политических течений, необходимо охарактеризовать эволюцию положения дворянства и крестьянства до 1861 года, восприятия первым второго, аграрной политики самодержавия, правосознания, а также особенности идейного развития русского общества во второй четверти XIX века, повлиявшие на конструкцию Великой реформы и ход модернизации.
В сущности, нам нужно получить развернутые ответы на два вопроса.
1. Каким образом элементарный как будто хозяйственный сюжет – как выгоднее получать с крестьян подати, посадив их на участки, передаваемые по наследству, или заставляя уравнивать землю сообразно переменам в составе семей либо достатка, – превратился в проблему крестьянской общины, «в социальную проблему, в вопрос о судьбах России»?
2. Почему П. А. Столыпин в 1906 году считал, что «наша земельная община – гнилой анахронизм, здравствующий только благодаря искусственному, беспочвенному сентиментализму последнего полувека, наперекор здравому смыслу и важнейшим государственным потребностям»?
Мне необходимо сказать так много, а объем текста столь ограничен, что известный схематизм изложения неизбежен. Поневоле приходится жертвовать не только существенными деталями, но и некоторыми важными сюжетами. Однако те, кого заинтересует изучаемая проблематика, имеют возможность обратиться к работам моих коллег и моим собственным из библиографии в конце книги.
Всеобщее закрепощение сословий
Начать нам придется издалека, с феномена всеобщего закрепощения сословий, без осознания и учета которого понять историю России невозможно.
Крепостное право ассоциируется у нас, как правило, только с крестьянством. Тот факт, что дворянство, точнее, служилые люди по отечеству, стали крепостными государства раньше крестьян как минимум на век, а то и полтора (как считать), у большинства неисториков вызывает искреннее удивление.
Между тем термин «всеобщее закрепощение сословий» означает, что в течение нескольких столетий, в основном в XVI–XVIII веках, большинство, а при Петре I – практически все население России, от бояр до крестьян и холопов, от священнослужителей до посадских, было закрепощено государством, корпорациями (то есть общинами, либо церковной иерархией) или частными лицами. В большей или меньшей степени, в том или ином виде – но закрепощено.
Крепостное право – это комплекс юридических норм, устанавливавших и закреплявших личную зависимость человека от его господина. Диапазон этой зависимости был очень широк и соотносился с местом и временем, поэтому термин «крепостное право», покрывающий явления разного порядка, нередко вводит нас в заблуждение.
Если в Западной Европе XI–XV веков речь, как правило, идет о сравнительно мягких формах личной и поземельной зависимости, то в Центральной и особенно Восточной Европе – о том, что человек был лишен большей части личных прав, включая право владеть собственностью и совершать от своего имени гражданские сделки, был ограничен в передвижении и не имел социальной защиты. Это приближало юридический статус крепостного к статусу раба.
«Всеобщее закрепление сословий было неизбежным последствием тех условий, при которых слагалось Русское государство», – писал один из создателей этой теории историк и философ Б. Н. Чичерин.
Борьба с Ордой, создание и укрепление независимой России потребовали полной концентрации всех человеческих ресурсов в руках государства и привели к закрепощению населения – сначала элит, а затем крестьянства, которое обеспечивало несение военной службы боярами и дворянством. При этом монгольское влияние предопределило отношение государя к его подданным как к холопам.
Это была тяжелая служба, которую все должны были нести для пользы отечества. Этою службой выросла и окрепла Россия, которая через это сделалась одною из самых могущественных держав в мире.
В этой суровой школе закалился русский человек, который привык всем жертвовать и все переносить с мужественною стойкостью. Но зато он потерял чувство права и свободы, без которого нет истинно человеческого достоинства, нет жизни, достойной человека, –
писал Б. Н. Чичерин.
Вместе с тем русский народ нес в себе «семена высшего развития и сознание своего человеческого призвания», а их реализация невозможна без свободы.
Пришло время, когда Россия стала настолько сильной, что закрепощение изжило себя и начался обратный процесс – раскрепощения населения, увенчавшийся в 1861 году освобождением крестьян. Однако психология, порожденная «способом создания государства», не могла вдруг бесследно исчезнуть из жизни страны.
В сущности, моя книга – в большой мере об этом.
Две ипостаси дворянства
Чичерин писал, что в Европе благодаря феодализму у людей развивались «чувства чести, права и свободы», в то время как у нас владычество Орды, тирания Ивана Грозного, всеобщее крепостничество и его эволюция утвердили «привычку к беспрекословному повиновению».
В 1240 году, когда Батый взял Киев, Русь была свободной страной, хотя в ней, разумеется, как и в Европе, были зависимые люди. А через двести сорок лет как бы вышедшее из монгольского ига Русское государство во многом оказалось православной калькой с Золотой Орды.
Первой в зависимость от государства попала элита.
Иван III (правил в 1462–1505 годах) на глазах одного поколения русских людей – за двадцать пять лет – присоединил к Москве почти все земли Северо-Восточной Руси. Окончание удельного периода и образование единого государства стало началом самодержавия, поэтому в эпохе Ивана III – корни всей последующей русской истории.
Он стал господином, вотчинником государства, и это резко изменило модус его отношений со знатью, которая из товарищей, сподвижников великого князя превратилась в его слуг, точнее, холопов. Они так себя и именовали, подписываясь уменьшительными именами (например, «Васюк Шуйский»).
Раньше бояре и вольные слуги имели право свободного отъезда, то есть могли переходить от одного князя к другому. Безжалостный Иван III препятствовал переезду бояр даже к своим родным братьям, а отъезд в Литву стал считаться государственной изменой.
Он создал свою социальную базу – войско из поместного дворянства, что потребовало радикального изменения отношений собственности в стране. Проблема размещения дворян была решена за счет вновь присоединяемых к Москве территорий.
На этих землях широко практиковался «вывод», то есть переселение части местной элиты во внутренние московские города. Конфискованные у них земли получали московские дворяне Ивана, за что они обязаны были нести военную службу.
Поместье, в отличие от вотчины, было условной собственностью, его нельзя было ни продавать, ни передавать по наследству, ни дарить, ни завещать в монастырь на помин души.
Создание поместной системы стало началом огосударствления земельной собственности в масштабах страны. Зародившись на северо-западе Руси, поместье очень быстро проникло во внутренние уезды.
Параллельно власть начала массированное наступление на права церковных и светских вотчинников, все больше стесняя их право распоряжаться родовыми землями и сделав службу обязательной для всех землевладельцев, то есть и для бояр тоже.
Усилиями Ивана III, Василия III и Ивана Грозного к середине XVI века ни светская, ни церковная вотчина не имели правовой защиты, что практически доказала опричнина с ее конфискациями, выселениями, переселениями. Самый знатный человек мог лишиться собственности в любой момент, часто – вместе с жизнью.
Служилые люди как натуральную повинность несли обязательную военную службу, не вознаграждаемую никакими гражданскими привилегиями, порядок которой окончательно установило Уложение о службе 1556 года.
Служба начиналась с пятнадцати лет и была пожизненной. У тех, кто уклонялся от службы, землю отбирали и пускали в раздачу. Помещик владел поместьем, пока нес службу в армии. Если у него не было взрослого сына, который мог принять на себя обязательства отца, земля уходила в казну и перераспределялась. Правда, де-факто служебные обязанности могли перелагаться на зятьев и родственников.
Итак, служилые люди по отечеству, то есть помещики, были крепостными государства, и это постепенно привело к закрепощению значительной части крестьян, поскольку только они могли стабильно обеспечивать потребности солдат-дворян и их семей.
Важно понимать, что создание поместной системы было вызвано объективными причинами, а не было только проявлением скверного характера Ивана III и его потомков.
Дело в том, что Россия того времени – это отрезанная от морей бедная страна с огромной территорией, редким населением и слабой торговлей, не имеющая никаких залежей цветных металлов и веками ввозившая их.
Власть поэтому не имела возможности платить армии полноценное жалованье, как это было на Западе. Поэтому поместье стало своего рода натуральной платой за военную службу. Однако эту специфичную зарплату требовалось еще превратить в еду, дом, одежду, вооружение и т. д.
Сделать это могли прежде всего крестьяне (хотя на Руси пахали и дворяне), однако они еще были свободными. Судебник 1497 года лишь узаконил старую норму о возможности ухода от помещиков в течение плюс-минус недели от Юрьева дня осеннего (26 ноября ст. стиля) с уплатой 1 рубля денежного сбора, так называемого пожилого. Судебник 1550 года повторил ее, увеличив пожилое до 1,5 рублей.
Забегая вперед, отмечу, что Иван III, несомненно, закрепостил бы крестьян, имей он такую возможность. Но власть смогла сделать это лишь в 1590-е годы, когда страна была обессилена безумным правлением Ивана Грозного – более чем 30-летние беспрерывные войны и ужасы опричного террора привели к тому, что в науке называется «хозяйственным разорением и запустением русских земель 1570–1580-х годов».
Есть мнение, что в Средневековье степень свободы элиты косвенно позволяет судить о степени свободы простого народа. Приниженное положение русской знати всегда бросалось в глаза иностранцам. Еще посланник Священной Римской империи Сигизмунд фон Герберштейн писал, что объемом своей власти Василий III «легко превосходит всех монархов всего мира… Всех одинаково гнетет он жестоким рабством… Он применяет свою власть к духовным так же, как и к мирянам, распоряжаясь беспрепятственно и по своей воле жизнью и имуществом всех… Они открыто заявляют, что воля государя есть воля Божья».
Рафаэль Барберини в 1565 году удивлялся тому, что царь «приказывает сечь, растянув на земле, знатнейших бояр… Нет почти ни одного не высеченного чиновника, но они не гонятся за честью и больше чувствуют побои, чем знают, что такое стыд». Это и понятно: поскольку в обществе не было уважения к правам личности, телесные наказания не имели позорящего значения, как на Западе.
Иван Грозный довел эти тенденции до немыслимых для христианской страны пределов. Опричнина и ее продолжение после 1572 года ясно показали, что никто в стране – включая царского сына – не защищен от самой жестокой смертной расправы.
Гражданская война начала XVII века (Смута) разрушила старый социальный порядок, однако после ее окончания он стал быстро возрождаться, а в 1649 году Соборное уложение закрепостило крестьян и посадских людей, прикрепив их к месту жительства (при этом кое-какие права за крестьянами оставались).
Телесные наказания, которые считались нормальным средством устранения любых непорядков, по-прежнему распространялись на все без различия чины, в том числе и на служилых людей.
Насилие было неотъемлемым компонентом ткани русской жизни. Нэнси Коллманн отмечает, что оно «буквально пронизывало Россию изученного периода… Россия была в данный период социумом с очень высоким уровнем насилия». Это, конечно, не означает, что в стране круглосуточно шли расправы.
Раболепство придворных по-прежнему поражало иностранцев, отмечавших, что даже турки «не изъявляют с более отвратительной покорностью своего принижения перед скипетром султана». До 1680 года в дворянских челобитных сохранялась фраза: «Чтобы государь пожаловал, умилосердился как Бог».
Если таким было положение элиты, легко представить, в какой ситуации оказалось остальное население. Понятно, что схема отношений царя со знатью автоматически репродуцировалась по нисходящей.
Так на всех уровнях самовоспроизводилось крепостное право.
Петр I, вступив на престол, унаследовал этот порядок, при котором жестокость была условием выполнения любого дела, хоть частного, хоть государственного, и усилил его до максимума.
В строительстве той России, о которой он мечтал, должны были участвовать все ее жители, все его подданные, и именно таким образом, какой он считал целесообразным.
Дворянство обязано было постоянно служить и давать кадры военных и гражданских чиновников, купечество – платить и давать кадры менеджеров, желательно эффективных, духовенство – молиться за победу православного оружия и следить за оппонентами власти, а посадские и крестьяне – платить подати и поставлять солдат и рабочих для бесчисленных строек необъявленных петровских пятилеток.
Так, по неполным данным, только за 1699–1714 годы было мобилизовано свыше 330 тысяч даточных людей и рекрутов, то есть 5,92 % мужчин даже относительно 5570 тысяч душ мужского пола, зафиксированных 1-й ревизией (1718–1724). Это примерно соответствует четырем с небольшим миллионам мужчин в наши дни.
Окончательно закрепостив подданных, Петр максимально ужесточил государственные требования ко всем категориям населения. В армии и на флоте теперь служили те, кто раньше не служил, а налоги платили те, кто прежде не платил. Для увеличения контингента плательщиков подушной подати и рекрутов он ликвидировал холопство (холопы несли повинности только в пользу своих господ) и маргинальное состояние вольных-гулящих людей (отпущенных на свободу холопов, слуг, пленных, всех, кто по каким-то причинам не был записан в писцовые книги, и других).
Такова была плата за Империю.
В результате Северной войны в России появились регулярные армия и флот европейского уровня, а их сохранение и развитие в будущем стали приоритетом Петра.
Весьма серьезно изменилось положение служилых людей. Они по-прежнему служат бессрочно – до «дряхлости или увечий», но меняется сам характер службы: из периодической она становится круглогодичной и для всех начинается с низшей солдатской ступени. При этом де-факто они по-прежнему могли лишиться своих земель, не обладая правом собственности на них, и подвергнуться репрессиям, вплоть до смертной казни.
Указ о единонаследии 1714 года уравнял поместье и вотчину. Первое стало наследственным владением, и указ разрешал наследовать недвижимость лишь одному из сыновей, а не всем, как раньше. Это должно было создать армию военных и гражданских чиновников, которые не имели бы отныне иного источника доходов, кроме жалованья. Кроме того, с 1714 года дворянских детей обязали учиться под угрозой запрета женитьбы.
Создается чиновная номенклатура. Петр исповедует принцип служебной годности человека в противовес знатности и закрепляет это в Табели о рангах 1722 года, радикально расширившей социальную базу империи.
Служба при этом была настолько тяжелой, что немало дворян уклонялись от нее, как могли. Известны случаи, когда они записывались в купечество, в однодворцы, скитались по стране, скрывая свое дворянство, и даже «поступали в дворовые к помещикам».
Один за другим следовали указы о карах за неявку на смотры и службу, сама частота которых лучше всего говорит о масштабе проблемы. «Нетчики» были постоянной тревожной заботой Петра I.
Он боролся с ними весьма сурово, используя широкий диапазон угроз и взысканий – вплоть до конфискации имущества и лишения прав состояния, причем одновременно он материально поощрял доносчиков, получавших имущество объекта доноса. Известно, что при Петре 20 % поместий сменили хозяев.
Более того, указ от 11 января 1722 года фактически поставил «уклонистов» вне закона и приравнял к изменникам; их можно было даже безнаказанно убить. Тем же, кто их поймает и сдаст властям, обещалась половина имущества «нетчиков», хотя бы это были «их собственные люди».
При Петре обычным делом был приказ гвардейскому капралу арестовать виновных в упущениях чиновников вплоть до московского вице-губернатора и «держать в цепях, и в железах скованных», пока «совершенно не исправятся»; предусматривались наказание кнутом, клеймение и «вечная ссылка» за нарушение царского запрета рубить лес и др. Источники говорят, что дворян подвергали телесным наказаниям и пытали наравне с крестьянами.
Как известно, всю жизнь Петр собственноручно избивал своих подданных любого звания, а бывало, и граждан других стран. Вторые не всегда переносили это так спокойно, как первые. Когда Петр ударил палкой гениального архитектора Ж.-Б. Леблона, нанятого им для строительства Петербурга, тот умер от унижения и позора.
Однако.
Однако мы должны понимать и то, что, обратив всех в полных рабов, Петр создал великую державу.
Что благодаря ему у русских дворян и, можно думать, у русского народа появилось доселе не очень им знакомое и крайне важное чувство победителей, причем не кого-нибудь, а могучей шведской армии во главе с героем тогдашней Европы Карлом XII.
Это чувство со временем укрепится славой Семилетней войны, победами над турками, присоединением Крыма, созданием Новороссии и разделами Польши.
Я, избави Бог, сейчас не пытаюсь сказать, что обретенное государственное величие оправдывает измывательство над подданными и их страдания, и весьма далек от этой столь любимой сталинистами схемы.
Я лишь хочу подчеркнуть, что вне этого чувства победителей, без учета этих эмоций нам не понять людей XVIII–XIX веков.
После смерти Петра начинается постепенное раскрепощение дворянства (а также духовенства и горожан), служить становится легче, петровские строгости понемногу смягчаются.
По мнению А. Б. Каменского, с Петровской эпохи «процесс складывания дворянства как единого сословия начинается как процесс консолидации русского дворянства. Суть его была в постепенном обретении сословных прав и привилегий и одновременном освобождении от государственного рабства, что означало начало борьбы дворянства с государством за свою свободу, под знаком которой прошло все XVIII столетие. Борьба эта имела определяющее значение для исторических судеб страны».
В 1736 году пожизненная служба дворян сокращается до двадцати пяти лет, а 18 февраля 1762 года Петр III подписывает «Манифест о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству», уничтожающий обязательность службы и разрешающий неслужащим дворянам выезжать за границу. То есть дворяне официально перестали быть крепостными государства.
С 1760-х годов начинается отсчет первого, а с 1780-х – второго поколения «непоротых русских дворян». Первое поколение дало генералов – героев 1812 года, второе – и генералов и офицеров – героев 1812 года, а также старших декабристов.
Наконец, в 1785 году Жалованная грамота дворянству официально закрепила сословные права дворян, в том числе и дарованное им в 1782 году право собственности на землю.
То есть за полвека после Петра I положение дворянства радикально изменилось: юридически оно стало свободным. Самодержавие пошло на ограничение своей власти.
Но здесь самое время подумать над промежуточным вопросом: какие человеческие типажи уже успели сформироваться за триста лет такой истории?
Часть ответа очевидна – такие, которые носили в себе все следы оскорбительного, пренебрежительного отношения государства к человеку и его правам и в целом, и в бесчисленных частностях.
Могли ли забыться вчерашние, позавчерашние и более давние незащищенность, издевательства и др.?
Уместно также спросить: могло ли что-то всерьез измениться в сознании дворян от того, что их перестали пороть?
Могло – и постепенно стало меняться.
Спору нет, во множестве случаев раскрепощаемый, а позже освобожденный раб продолжал психологически оставаться рабом. Однако у части дворян, поначалу, естественно, меньшей, чтение и приобщение к культуре, полученной благодаря Петру, постепенно породило то самое чувство собственного достоинства, об отсутствии которого как о примете русского Средневековья говорит Чичерин.
Впрочем, у многих дворян это чувство появилось и зримо проявилось по меньшей мере уже в 1730 году, когда членами Верховного тайного совета была предпринята попытка ограничения самодержавия Анны Ивановны, хотя и неудачная.
Далее оно развивалось во многом благодаря более гуманным, в сравнении с петровским, правлениям Елизаветы и Екатерины II.
В лице своих лучших представителей дворянство демонстрировало не только европейский уровень образования, но и достаточно независимый стиль отношений с носителями верховной власти. Таковы родившиеся еще при Петре братья Никита Иванович и Петр Иванович Панины. Таковы родившиеся при Елизавете братья Александр Романович и Семен Романович Воронцовы.
Однако не будем лучших отождествлять со всеми и преувеличивать масштабы психологического раскрепощения дворянства – оно только начиналось и явно отставало от юридического.
Павел I попытался воскресить многое из того, что уже начало забываться. Его царствование во многом было попыткой вернуть дворянство в прошлое – не буквально в петровское время, конечно, но как бы в стилистику страха.
Однако в одну реку не входят дважды, и дворяне – как умели – продемонстрировали Павлу, что его самодержавие ограничено их удавкой.
Предвижу возражение: разве дворцовые перевороты не говорят о свободном сознании дворянства? Думаю, что нет. Ведь и преторианцы в Древнем Риме – отнюдь не свободные люди. Это рабы, сделавшие бунт доходным ремеслом.
В 1802 году М. М. Сперанский писал Александру I следующее:
Я бы желал, чтоб кто-нибудь показал различие между зависимостью крестьян от помещиков и дворян от государя; чтоб кто-нибудь открыл, не все ли то право имеет государь на помещиков, какое имеют помещики на крестьян своих…
Вместо всех пышных разделений свободного народа русского на свободнейшие классы дворянства, купечества и проч. я нахожу в России два состояния: рабы государевы и рабы помещичьи. Первые называются свободными только в отношении ко вторым, действительно же свободных людей в России нет, кроме нищих и философов.
Вместе с тем оба «непоротых» поколения, вступивших в жизнь в конце XVIII – начале XIX века, в лице своих лучших представителей ощущали себя не рабами, а слугами престола, хотя жизнь, конечно, иногда вносила коррективы в это мироощущение.
Для них Россия – не деспотия, а европейская монархия в трактовке Монтескье, император – монарх, а они, дворяне, – носители принципа Чести, системообразующего начала монархии. Их понимание чести соответствует формуле того же Монтескье: желание почестей при сохранении независимости от власти. Честь, несомненно, ключевое понятие, на которое замкнуто все мироощущение множества дворян той эпохи.
Они ясно различали понятия «Государь» и «Отечество». Приверженность «собственно Государю» и «любовь к Отечеству» не тождественны. Эти понятия могли совпадать, точнее накладываться друг на друга, а могли и не совпадать. Характерно сделанное в 1812 году замечание М. С. Воронцова: «Приятно жертвовать жизнию, когда любовь к Отечеству ничем не отделяется от любви к своим Государям и ничто иное, как одно и то же».
При этом десять лет беспрерывных войн, которые Россия вела в 1804–1815 годах, заметно повысили у дворянства чувство ответственности за судьбы страны, а значит, и собственной значимости, чем отчасти и порожден феномен декабризма. Не зря цесаревич Константин считал, что война портит армию – люди начинают чувствовать себя свободнее.
В то же время массе дворян не были близки поиски свободы, в том числе и крестьянской, ни в духе Александра I, ни в декабристском ключе. Их устраивало статус-кво, и они не ощущали свою зависимость от престола как нечто дискомфортное, отчасти потому, что это, в свою очередь, делало их повелителями крестьян и подначальных; так, в частности, проявляется крепостническое сознание.
Все по Державину: «Я царь – я раб – я червь – я Бог…»
Хотя Гаврила Романович, можно думать, имел в виду менее прозаические сюжеты.
Однако – еще и еще повторю – все суждения о зависимости дворянства от государства будут односторонними, если не иметь в виду, что к 1815 году чувство принадлежности к непобедимой державе у русских людей усилилось еще больше.
Ведь Россия действительно открыла и закончила свой XVIII век в совершенно разных статусах. Начала она с позора Нарвы, а закончила Итальянским походом 1799 года, когда, по выражению Марка Алданова, Суворов «достиг высшего предела славы, при котором именем человека начинают называть шляпы, пироги, прически, улицы. Все это и делалось в ту пору в Европе, особенно в Англии». А потом Россия в конечном счете низвергла такого колосса, как Наполеон.
«Русские – первый в мире народ», «Россия – первая в мире держава», – часто повторяет в своих письмах после вступления в Париж А. П. Ермолов, и с ним, безусловно, было солидарно подавляющее большинство русских дворян.
При этом Ермолов отнюдь не закрывал глаза на негативные стороны жизни страны. Однако ради такого величия с ними можно было худо-бедно мириться – в надежде на будущее их исправление.
Ощущение того, что ты часть победоносного, пусть и несовершенного мира, – огромная вещь. Для многих людей это часто оправдание даже мрачного статус-кво – и серьезное оправдание.
Отечественная война 1812 года стала важнейшей вехой в нашей истории вообще и в идейном развитии в частности.
Самосознание русских людей поднялось на новый, неизмеримо более высокий уровень, закономерно усилив чувство национальной исключительности – ведь только России удалось остановить Наполеона.
Несколько промежуточных выводов.
1. Итак, с одной стороны, дворянство было «первым среди бесправных». На него вплоть до середины XVIII века распространялись основные «прелести» режима – личная и социальная незащищенность, возможность наказания вплоть до лишения чести, имущества и жизни.
А с другой стороны, будучи «рабами верховной власти», дворяне в то же время были господами, а потом и повелителями крепостных.
Понятно, что одновременное пребывание в двух человеческих измерениях не могло не отразиться на их психологии. Во многом из-за этого и сегодня нередко становится стыдно за взрослых и, казалось бы, крупных людей, ведущих себя как среднестатистические дворовые.
Очень долго дворянство ощущало свою значимость и важность только в соотнесении с бесправностью нижестоящих. А элита, у которой нет подлинного сознания своих прав и своего достоинства, не будет уважать права и достоинство других людей.
И то и другое после веков деспотизма приобретается с немалым трудом.
2. При этом ясно, что страна, жизнь которой стоит на нерегламентированном, по сути, крепостном праве, в значительной мере находится вне правового поля. Вряд ли в этих условиях может возникнуть уважение к закону: ему просто неоткуда взяться.
Тем более что гражданские права, в том числе и право частной собственности, появляются в русском законодательстве только за пять-семь лет до Великой французской революции в Жалованных грамотах Екатерины II дворянству и городам.
3. Победоносная история империи после 1708 года была одним из ключевых факторов, сформировавших мироощущение русского дворянства.
Война 1812 года и заграничные походы русской армии показали, что феномен империи Петра I, мощного в военном отношении государства, которое в 1721 г. основывалось на полном бесправии населения, а в начале XIX века – на крепостном праве, по-прежнему существует и работает, несмотря на все издержки.
«Видно, наша отсталость более пригодна для защиты Отечества, нежели европейская образованность», – этот мотив звучал в публицистике 1812 года.
Вместе с тем очевидно, что для власти население страны было расходным материалом, без особого различия в социальном положении. Веками люди были для нее, как сказали бы в XXI веке, чем-то вроде одноразовой посуды – это восточная схема отношений с подданными.
«Очернитель» Текутьев
Если, с одной стороны, в истории нашей остановилось и замедлилось развитие самостоятельной личности, то, с другой стороны, масса населения получила прочное обеспечение в имуществе, которое служит лучшим обеспечением первых потребностей, – в поземельном наделе, и еще в постоянной обязательной связи своей с государством.
К. П. Победоносцев
Я хорошо помню, что люди моего поколения со школы сохраняли некоторое общее представление о том, что крепостничество, доходившее иногда до настоящего зверства, как в случае с Салтычихой и ей подобными, означает тяжелое и унизительное положение народа. Думаю, что забывать о таких вещах нельзя, хотя, конечно, бывали и совсем другие помещики.
За последнюю четверть века восприятие крепостного права несколько изменилось. Недавно я с удивлением обнаружил, что даже мои студенты-историки не совсем адекватно судят о нем, что, конечно, не случайно.
Какой, впрочем, спрос со студентов, если председатель Конституционного суда России В. Д. Зорькин публично заявил: «При всех издержках крепостничества именно оно было главной скрепой, удерживающей внутреннее единство нации».
Мысль Зорькина, думаю, войдет в анналы, но сама по себе она – безусловный симптом происшедшего за 25 лет сдвига в восприятии крепостного права. Полагаю, не только мне хочется задать бестактный вопрос о том, с какой стороны «скрепы» Зорькин предпочел бы оказаться. При этом сиюминутные мотивы такого оригинального заявления вполне очевидны. Благостное отношение к крепостничеству не случайно совпало с ужесточением внутренней политики.
Вообще говоря, некий флер пасторальной сентиментальности окутал крепостничество примерно с середины 1990-х. Тогда, с одной стороны, в качестве главного объяснения проблем нашей истории большую популярность внезапно обрел суровый климат, одним из якобы закономерных последствий которого стало считаться и крепостное право.
С другой стороны, в моду стремительно вошел «патернализм», ставший второй универсальной «отмычкой» к русской истории; отныне он не фигурировал, кажется, только в кулинарных рецептах. Идея патернализма, неизбежного, как климат, должна была смягчать наше восприятие негативных сторон крепостничества.
Отчасти это было компенсацией одностороннего подхода советской историографии, которая рассматривала проблемы крепостного права преимущественно в аспекте насилия, не слишком углубляясь в многогранный характер этого явления.
Но, как это часто бывает (и не только у нас), немедленно начался перекос в другую сторону, и крепостничество сейчас иногда трактуется в духе адмирала Шишкова, написавшего в 1814 году в манифесте об окончании войны с Наполеоном о «давней» связи между помещиками и крестьянами, основанной «на обоюдной пользе… русским нравам и добродетелям свойственной», с чем категорически не согласился Александр I, вычеркнувший эти строки.
Да, эти отношения с хозяйственной точки зрения часто были взаимовыгодны. Крестьянин пользовался лесом, получал топливо, семена, а иногда и скот, но не стоит забывать, чем вызывалась такая забота. Лошади, в том числе и рабочие, требуют определенного ухода.
Однако чем больше мы акцентируем патриархальные, патерналистские, «патронатные» (теперь это так называется!) отношения между барином и крестьянами, тем дальше в тень уходит суть, основа явления крепостничества – принуждение и насилие.
Впрочем, такого рода ситуативная смена фокуса внимания – либо Салтычиха и убитый крестьянами за жестокость фельдмаршал Каменский, либо Венецианов с Клодтом, то есть усадебная культура с патернализмом – весьма характерна для нашей историографии.
Вышесказанное вынуждает меня остановиться на этой проблематике подробнее.
Как понять, что такое крепостное право?
Чем было крепостничество как система?
Можно ли говорить о «типичном» крепостном?
Вопросы непростые. Среднестатистического колхозника, полагаю, вывести легче, потому что положение колхозников в целом разнилось меньше.
Самые элементарные личные и имущественные права крестьян зависели от усмотрения барина (по закону он был обязан лишь кормить их в голодные годы и не допускать до нищенства). Поэтому положение крестьян было очень разным.
Оброчные крестьяне жили иначе, чем крестьяне барщинные. Очень важную роль играли также местоположение имения, возможности хозяйственной деятельности и т. д.
Едва ли не ключевым фактором была личность владельца. И здесь на одном полюсе будут тысячи крестьян-предпринимателей – и таких, как Гарелин, Ямановский, Грачев, и других, не столь оборотистых, в которых господа, как правило, видели людей и не очень мешали им проявлять свои таланты, впрочем, иногда запрещая им строить каменные хоромы – в целях борьбы с гордыней (как, например, графы Шереметевы).
А на другом – крестьяне тех садистов и садисток, о которых пишет В. И. Семевский в книге «Крестьяне при Екатерине II», где материала хватит не на один исторический фильм задокументированных ужасов.
Между ними располагалась основная многомиллионная масса крестьян-земледельцев, помещики которых не выделялись резко ни в ту, ни в другую сторону.
Итак, увидеть, как жила крепостная деревня до 1861 года, мы не сумеем, но попытаться представить можем, ибо у нас есть источник, позволяющий это сделать. Особенности жанра, само его построение и специфика личности автора дают возможность, как кажется, без особых сложностей включить воображение и попробовать приблизиться к той жизни.
1-я. Едва не все холопи и крестьяня должности к Господу Богу не знают и в церковь для молитвы не толко в свободное время, но в великия праздники, в воскресныя и торжественныя дни ходить, в положенныя посты говеть и исповедыватца не любят.
2-я. Должности к Государю и общеи ползе не толко не внимают, но и подумать не хотят.
3-я. Леность, обман, ложь, воровство бутто наследственно в них положено.
4-я. Пьянство, лакомство, суеверство, примечание, шептуны – лутчее их удоволствие.
5-я. За вино и пиво господина и соседеи своих со всею их и ево собственною ползою продать готов. И потому в них верности и чистои совести нет.
6-я. Господина своего обманывают притворными болезнми, старостию, скудостию, ложным воздыханием, в работе леностию, приготовленное общими трудами крадут; отданного для збережения прибрать, вычистить, вымазать, вымыть, высушить, починить не хотят.
В приплоде скота и птиц, от неприсмотру поморя, вымышляя разныя случаи, лгут. Определенныя в началство в росходах денег и хлеба меры не знают, остатков к предбудущему времяни весма не любят, и бутто как нарошно стараютца в разорение приводить, и над теми, кто к чему приставлен, чтоб верно и в свое время исправлялось, не смотрят, в плутовстве за дружбу и по чести молчат и покрывают, а на простосердечных и добрых людеи нападают, теснят и гонят.
7-я. Милости, показываннои к ним в награждении хлебом, денгами, одеждою, скотом, свободою, не помнят, и вместо благодарности и заслуг в грубость, леность, в злобу и хитрость входят.
8-я. Божия наказания, голоду, бед, болезнеи и самои смерти не чувствуют, о воскресении мертвых, о будущем суде и о воздаянии каждому по делам подумать не хотят и смерть свою за покои щитают…
И по таким обстоятелствам каждому разумному и добросовестному господину в приведении упомянутых злых и коварных людеи в доброи порядок – великои труд и безпокоиство.
Странное впечатление оставляют эти строки, определенно не шедевр человеколюбия. Скорее, набросок эпитафии Homo sapiens – уровень авторской мизантропии, да что там, самого настоящего человеконенавистничества просто зашкаливает.
Кажется, что автор – очернитель человечества. Созданный им коллективный портрет внушает отвращение.
Что это за мир?
Кто его населяет?
Банда разбойников или каторжники на поселении?
В любом случае тут в пору вспомнить Босха, а лучше – тех грешников, которые населяют сцены Страшного суда в ярославских, например, церквях XVII века.
Между тем это всего лишь мнение небогатого помещика середины XVIII века о своих крепостных.
В 1998 году Е. Б. Смилянская опубликовала обнаруженную ею в 1989 году в археографической экспедиции и приобретенную для Научной библиотеки МГУ рукопись под названием «Инструкция о домашних порядках». Ее в 1754–1757 годах написал Т. П. Текутьев, тогда капитан, полковой секретарь, позже подполковник Преображенского полка, генерал-поручик и смоленский губернатор.
Женившись, он получил за женой приданое – село Новое и две деревеньки с 80 душами мужского пола в Кашинском уезде тогдашней Московской губернии. Как безземельный дворянин он цепко ухватился за возможность создать «родовое гнездо». Получив в полку отпуск, поехал в Новое, прожил там год и решил создать «идеальное имение».
Для этого он составил подробнейшую инструкцию, своего рода сельскохозяйственный регламент в петровском стиле, неуклонное следование которому должно было привести имение в необходимый порядок.
Однако достичь этой цели было совсем непросто: приведенными выше мрачными строками Текутьев объясняет, почему написал этот текст.
Итак, в условиях задачи даны «злые и коварные люди», которых «разумный и добросовестный господин» должен привести в «доброй порядок».
А каким образом он может это сделать, если они явно не в восторге от такой перспективы?
Ответ очевиден: насилием.
Текутьев, бесспорно, был стихийным «системщиком», «логистом». Как военный человек он детально проанализировал все аспекты функционирования имения, определил уязвимые точки системы и способы их защиты, описал нежелательные варианты поведения крестьян в типичных хозяйственных и бытовых ситуациях и методы борьбы с ними.
Словом, он спланировал приведение имения в свой порядок как некую военную операцию по захвату и удержанию враждебной территории; источник порукой тому, что я не преувеличиваю.
Барин кажется тут не столько хозяином, сколько оккупантом, которого покоренное население, естественно, старается обмануть, точнее, обжулить, всегда и во всем, в любой мелочи, везде, где можно и где нельзя, и работать на которого, понятное дело, не очень-то рвется.
Помещик, судя по тексту, перманентно находится одновременно во всех видах дозора (ночного, дневного, сумеречного и т. д.), попутно выполняя обязанности комендантского взвода. Расслабиться с этим сборищем ужасно суеверных пьяниц, анархистов и безбожников, людей без «верности и чистой совести», но притом чемпионов по лени, воровству и обману, он не может.
При чтении инструкции с ее навязчивыми рефренами «жестоко сечь», «сверх того высечь нещадно», «жестоко наказывать», «без милости сечь» сразу вспоминается Соборное уложение 1649 года с его постоянным припевом «казнити смертию бес пощады».
В тексте упоминается более тридцати прямых поводов для телесных наказаний.
У Текутьева секли тех, кто работал в праздники, кто пропускал пост (это помимо штрафа), кто «при высылке на работу явитца в чем неисправен» и кто испортит межу, кто оставит покос до осени, кто плохо сушит хлеб, кого увидят со льном где-нибудь, кроме овинов, кто потравит посевы или порубит лес (а также и тех, кто не донесет об этом), кто по оплошности сожжет овин с хлебом, тех, кто съест или продаст семена, выданные для посева, кто попадется на воровстве, кто нарушит противопожарную безопасность, кто засорит пруд.
Кроме того, крестьян пороли за симуляцию болезней и членовредительство, за плохое поведение в чужой деревне, за хождение незваным в гости в другие селения, «где пиво варено», за шинкарство (продажу алкоголя), за отдачу земли посторонним внаем, плохой уход за своими лошадьми, за чрезмерное употребление пива и т. д.
Кажется, в этом мире безнаказанно можно было только дышать.
И так – всю жизнь, изо дня в день…
При этом ясно, что наличие десятков «узаконенных» поводов для порки на деле расширяло их число до бесконечности.
Словом, «Инструкция» Текутьева – документ большой силы.
Он страшен своей будничностью, бесстрастной констатацией повседневного бытового бесчеловечия как чего-то абсолютно естественного вроде восхода или заката солнца, когда насилие регламентирует каждое почти движение и действие (или отсутствие такового) крестьян. Насилие необходимо этой системе, как кислород необходим человеку для дыхания.
Это, конечно, не отчет об инспекции ГУЛАГа, но у каждого места и времени свой порог ужаса.
Я не отношусь к историкам, исповедующим «классовый подход», однако лично мне после чтения этой инструкции захотелось не просто написать «Манифест Коммунистической партии», а прямо бежать к Емельяну Пугачеву, до явления которого, впрочем, оставалось еще восемнадцать лет.
Но, может быть, Текутьев излишне строг?
Увы, нет.
Примерно в те же годы один из интереснейших людей своего времени, знаменитый Андрей Тимофеевич Болотов (1738–1833), вступил в управление купленной Екатериной II Киясовской волостью в Серпуховском уезде.
Болотов, разносторонняя натура, ботаник и лесовод, один из зачинателей отечественной агрономии (во многом благодаря ему картофель и помидоры были признаны в России), писатель-моралист, был совсем другим человеком, нежели Текутьев.
Однако и он вынужден был действовать схожим образом, чтобы унять воров, хотя ему это было в высшей степени неприятно. В конечном счете он остановил воровство, завоевал авторитет у крестьян, но нельзя сказать, чтобы это далось ему малой ценой. Гуманизм Болотова бесспорен, однако особого выбора у него не было. Разве что отказаться от должности.
Иными словами, телесные наказания были просто рутиной, и поддержание элементарного порядка без них было невозможно. Если любой даже самый мелкий командир, начальник, руководитель игнорировал это обстоятельство, его просто не воспринимали в этом качестве. Он считался слабаком – со всеми вытекающими для дисциплины последствиями, неважно, в имении или в батальоне.
Вернемся, однако, к Текутьеву.
Любопытно, что, судя по тексту, он – определенно не худший из людей; он явно неглуп, начитан, богобоязнен и имеет принципы. А Смилянская считает, что он и не худший из помещиков. Просто таковы нормативы времени – без насилия эта система не работала.
Инструкция Текутьева ставит еще одну из первостепенных для понимания нашей истории проблем. Он постоянно упрекает крестьян в том, что они не хотят «верно» исполнять «свою должность», то есть делать все то, что барин требует и что, по его мнению, выгодно для них самих. Так, помещик хочет, чтобы они повысили свой достаток, чтобы они были уверены в завтрашнем дне, однако они вообще не думают об этом.
Почему? Почему крестьяне всегда не согласны с господином, почему они все время сопротивляются ему?
Из многих «потому, что» назову два.
Во-первых, между ними давно, очень давно нет доверия, если оно и было когда-то. Во-вторых, понятия выгоды и целесообразности у помещика и его крестьян не совпадают – они исповедуют разные системы ценностей, вытекающие из различия их положения и уровня культуры.
Ведь Текутьев мыслит рационально, а крестьяне – как правило, мифологически. И поскольку крестьяне не понимают своей пользы, барин должен о ней заботиться сам, даже вопреки их желанию.
Точно так же рассуждал Петр I в знаменитом указе Мануфактур-коллегии 1723 года: «Что мало охотников (заводить предприятия. – М. Д.) и то правда, понеже наш народ, яко дети, неучения ради, которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера не приневолены бывают… но когда выучатся, потом благодарят».
Дилемма, что и говорить, непростая. С одной стороны, насилие, а с другой – насилие во благо, которое приносит хорошие плоды.
Но как установить грань? И кто будет ее устанавливать?
А нужно ли вообще «насилие во благо»?
Вечная проблема…
Село Новое с полутора сотней жителей – одно из десятков тысяч крепостных селений. Это крошечный фрагмент громадной панорамы, но его легко расширить до масштабов страны и получить некоторое, хотя и упрощенное, представление о строе российской жизни.
Не суть важно, сумел Текутьев полностью внедрить задуманное или не сумел. Важно, что так было можно ставить вопрос. Конечно, в похожем режиме жили не все 100 % крепостных деревень, – но множество, несомненно, жило.
Что такое социальный расизм?
Должен признаться, что в свое время я далеко не сразу свыкся с тем, что лучшие люди России эпохи Екатерины II и Александра I были искренне уверены в неготовности крепостных к немедленному освобождению.
Несомненно, у них была «классовая» корысть, но было и твердое убеждение в том, что весь комплекс житейских навыков и привычек крестьянства, вся система осмысления ими окружающего мира не позволят им хоть сколько-нибудь сносно жить без власти помещика, без его руководства и управления.
Тут помогла и знаменитая беседа княгини Е. Р. Дашковой с Дидро, где она уподобила получившего свободу крепостного с положением внезапно прозревшего на скале посреди моря слепого человека, который до этого не знал об опасностях окружающего мира.
Убедителен был и Карамзин, который в 1811 году, рассуждая о перспективах эмансипации, в частности, отметил:
Освобожденные от надзора господ, имевших собственную земскую исправу, или полицию… [крестьяне] станут пьянствовать, злодействовать, – какая богатая жатва для кабаков и мздоимных исправников, но как худо для нравов и государственной безопасности!
Одним словом, теперь дворяне, рассеянные по всему государству, содействуют монарху в хранении тишины и благоустройства: отняв у них сию власть блюстительную, он, как Атлас, возьмет себе Россию на рамена – удержит ли?.. Падение страшно.
…Не знаю, хорошо ли сделал Годунов, отняв у крестьян свободу, но знаю, что теперь им неудобно возвратить оную. Тогда они имели навык людей вольных, ныне имеют навык рабов; мне кажется, что для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу, к которой надобно готовить человека исправлением нравственным.
Да, 18 февраля 1861 года дворянство на правах собственности владело третью населения Российской империи. Де-факто это делало помещиков органами правительственной власти, поскольку освобождало государство от забот по управлению миллионами крепостных крестьян. Поддерживая порядок у себя в поместьях, они действительно вкладывали свою лепту в сохранение оного в масштабах страны.
Примечательны слова смоленского губернского предводителя дворянства князя Друцкого-Соколинского, писавшего в 1849 году Николаю I, что договорные отношения помещиков с крестьянами едва ли возможны из-за «низкого нравственного и умственного состояния народа, не имеющего понятия о свободе в смысле гражданском, а понимающего ее как вольность, в смысле естественного права, – народа, не признающего, что земля есть собственность помещиков или даже общая их с помещиками, но убежденного, что земля есть Божья; убеждения такие грозят гибелью государству».
Все эти мысли, а также приведенные выше «8 пунктов Текутьева» ясно показывают, что дворянство воспринимало крестьян как представителей какого-то другого, низшего вида Homo sapiens (слова «неандертальцы» тогда не было), никоим образом не равного им.
И этот феномен следует назвать социальным расизмом.
Начался он задолго до Петра I, и его появление было неизбежно ввиду всеобщего закрепощения сословий, когда каждый вышестоящий, бесправный перед следующей «инстанцией», отыгрывался на тех, кто был ниже; в бесправии, разумеется, были и свои принцы, и свои нищие.
Социальный расизм на протяжении веков в громадной степени определял всю психологическую, эмоциональную атмосферу жизни страны.
А. Б. Каменский отмечает, что он имел место не только в России:
Восприятие народа как духовно нищего, характерное для Екатерины и наиболее образованных представителей ее окружения, отнюдь не было чисто русским явлением, но своего рода общим местом Просвещения. Как отмечает современный исследователь, язык, которым просветители пользовались при разговоре о простом народе, был часто тем же, каким пользовались при разговоре о животных и детях. Считалось, что, как дети, простой народ нуждается в руководстве и контроле, и даже его просвещение, образование возможны лишь до определенных пределов.
Русские дворяне многократно варьировали мысль Руссо о том, что сначала нужно освободить души рабов, а уже потом их тела. Это, в сущности, лучше всего говорит об интернациональном характере подобных идей.
Однако разница с Европой была очевидна – далеко не во всех странах у дворянства был такой объем власти над крепостными, как в России, что априори увеличивало социальное расстояние между ними и, соответственно, объем социально-психологического «презрения». И не везде крестьяне были так бесправны.
На практике же тезис «крестьян нельзя освобождать, пока они не просвещены» в конкретных российских условиях дополнялся констатацией: «А поскольку они никогда не просвещены, то их никогда нельзя освобождать». Ибо, несмотря на вековые разговоры о непросвещенности русского народа, дворянство практически ничего не делало для того, чтобы изменить эту ситуацию. Потому что неграмотными людьми управлять проще.
Вспомним известную мысль Екатерины II о том, что русские дворяне с детства получают уроки жестокого обращения с крестьянами:
Едва посмеешь сказать, что они такие же люди, как мы, и даже когда я сама это говорю, я рискую тем, что в меня станут бросать каменьями; чего я только не выстрадала от такого безрассудного и жестокого общества, когда в комиссии для составления нового Уложения стали обсуждать некоторые вопросы, относящиеся к этому предмету.
Императрица, безусловно, рассчитывала на то, что в 1767 году ей удастся хоть как-то смягчить крепостничество. Однако быстро выяснилось, что крепостных – вслед за «невежественными дворянами», которых оказалось куда больше, чем она думала, – хотят иметь и купцы, и казаки, и духовенство: «Послышался… дружный и страшно печальный крик: „Рабов!“»
Вот как это объясняет С. М. Соловьев:
Такое решение вопроса о крепостном состоянии выборными русской земли… происходило от неразвитости нравственной, политической и экономической.
Владеть людьми, иметь рабов считалось высшим правом, считалось царственным положением, искупавшим всякие другие политические и общественные неудобства, правом, которым потому не хотелось делиться со многими и, таким образом, ронять его цену. Право было так драгоценно, положение так почетно и выгодно, что и лучшие люди закрывали глаза на страшные злоупотребления, которые естественно и необходимо истекали из этого права и положения.
Путь преодоления этих взглядов был долгим и сложным. В общество, продолжает Соловьев, вместе с просвещением понемногу проникали «научные» представления о государстве, «о высшей власти», которая относится к подданным не так, как помещики к крепостным, «о рабстве как печати варварского общества», «представление о народности, о чести и славе народной, состоящих не в том, чтоб всех бить и угнетать, а в содействии тому, чтобы как можно меньше били и угнетали».
Целый век прошел, пока все эти представления «мало-помалу подкопали представление о высокости права владеть рабами». Однако мы знаем, что и в 1861 году большинство помещиков были против освобождения крестьян.
П. В. Анненков отмечает, что в начале 1840-х годов в части общества «господствовал «тип горделивого, полубарского и полупедантического презрения к образу жизни и к измышлениям темного, работающего царства», что многие образованные люди «не расстались с представлением народа как дикой массы, не имеющей никакой идеи», что «кичливость образованности омрачала иногда самые солидные умы… Привычка к высокомерному обращению с народом была так обща, что ею тронуты были даже и люди, оказавшиеся впоследствии самыми горячими адвокатами его интересов и прав» (автор имеет в виду прежде всего К. Д. Кавелина).
По мнению Анненкова, очень важную роль в изменении отношения к народу и «его умственной жизни» сыграл И. С. Тургенев. «Записки охотника» «положили конец всякой возможности глумления над народными массами». Увы, Анненков здесь отчасти выдает желаемое за действительное.
В 1856 году Б. Н. Чичерин напишет:
Приколотить кого-нибудь считается знаком удальства, и нередко случается слышать, как этим хвастаются даже лица, принадлежащие к так называемому образованному классу. Вообще людей из низших сословий дворяне трактуют как животных совершенно другой породы, нежели они сами.
А еще через полвека С. Ю. Витте в своих мемуарах будет постоянно говорить о том, что правительство и дворяне воспринимают крестьян как «полудетей», «полуперсон»; о совещаниях объединенного дворянства он заметит, что «дворяне эти всегда смотрели на крестьян как на нечто такое, что составляет среднее между человеком и волом». Витте говорит лишь о части дворян, однако эта часть была весьма влиятельной.
Разумеется, такое высокомерно-пренебрежительное отношение к народу проявлялось не только частными людьми на бытовом уровне. На нем веками зиждилось твердое убеждение государства в своем праве диктовать подданным свои условия, а зачастую – ломать им жизнь.
И это касалось не только крепостных крестьян.
Раскулачивание в крепостную эпоху
После 1861 года в народнических кругах была очень популярной идущая от славянофилов мысль о том, что русские крестьяне не знали частной собственности и поэтому не развращены чуждыми «нам» римскими представлениями о собственности, что очень полезно для грядущего социализма.
Это неверно.
Закрепленного в законе права собственности на землю у крестьян действительно не было (но его не было и у помещиков до 1782 года). Однако владение, имеющее все атрибуты собственности, по факту было. Этого права крестьяне разных категорий лишались постепенно, по мере укрепления государства и усиления крепостничества.
Так, в XVI веке крестьяне, объединенные в общину, были свободными людьми, хотя и с низким социальным статусом. Они несли государственное тягло, но даже на владельческой земле вполне свободно распоряжались своей землей, не говоря о приобретенной.
Земли было много, и она получала ценность только тогда, когда к ней был приложен труд. Поэтому если вы сами выкорчевали лес, распахали целину и т. д., то получали на нее права, близкие к правам собственника, и могли передавать ее своим наследникам.
Конечно, тогда не было общинного землепользования и не было переделов. Селения, как правило, были очень невелики по размерам. Главным для общины была не земля, а тягло, повинности, которые она несла.
После закрепощения крестьян в 1649 году права общины уменьшаются, она все больше зависит от правительства и помещика. Крестьян начинают продавать и покупать – пока еще с землей, а затем и без земли.
Огромную роль в ликвидации крестьянской «собственности» на землю сыграло введение Петром I подушной подати, ставшее очень важным рубежом социальной политики империи. В частности, это привело к паспортной системе, кардинально тормозившей мобильность населения, развитие производительных сил в стране и многое другое, а также к уравнению земли по ревизским душам. Земельное тягло было перенесено на личность крестьянина и стало душевым тяглом.
Если каждый крестьянин платит 70 копеек подушной подати, то в теории у всех «душ» в каждом селении должна быть равная возможность заплатить эту сумму. Отсюда – логичная идея распределения земли пропорционально числу наличных плательщиков и возникновение массовых переделов земли, с помощью которых компенсировалось изменение состава семей в промежуток между ревизиями.
Таким образом, у истоков аграрного коммунизма в России стоит само правительство. Оно же вплоть до конца XIX века будет всемерно поощрять его.
Однако заставить крестьян переделять землю можно было только там, где власть господина – будь то помещик, церковь или казна – была достаточно сильной, чтобы добиться этого и, в частности, уничтожить крестьянскую «собственность» на землю или ее рудименты в данном имении, местности и т. д. В крепостной деревне это сделать, естественно, оказалось проще. Здесь к середине XVIII века господствует уравнительно-передельная община, оказавшаяся оптимальной формой эксплуатации: помещики и государство более или менее регулярно получают свои доходы, крестьяне находятся под присмотром и повинуются «установленным властям».
С этого времени правительство начало переносить методы вотчинного управления на государственную деревню. Рост недоимок было решено парализовать введением у всех категорий государственных крестьян – по примеру крепостных – уравнительного землепользования и круговой поруки по уплате податей (с 1769 года).
Если на большей части Великороссии переделы начались быстро, то на севере и юге страны, где в силу особых административных условий еще сохранилось свободное крестьянство, ситуация была иной.
Северные черносошные крестьяне были одной из крупнейших категорий государственных крестьян. Своей пашенной землей и угодьями они владели как частные собственники, поскольку львиную их долю они отвоевывали у тайги и тундры, расчищали, осушали и приводили в порядок годами неустанного и очень тяжелого труда.
Ясно, что переделов северная деревня не знала. Информация о земельных участках каждого отдельного домохозяина в каждой деревне фиксировалась в особой вервной книге. Мирское тягло падало не на крестьянина, а на землю. Если земля меняла владельца, он получал вместе с ней и тягло.
Как и ранее, земля была в свободном рыночном обороте, ее продавали и покупали, завещали по наследству, отдавали в приданое, в монастырь на помин души и т. д. Все это совершалось законным порядком – составлялись крепостные акты на землю, которые подтверждались в присутственных местах.