Память сердца бесплатное чтение
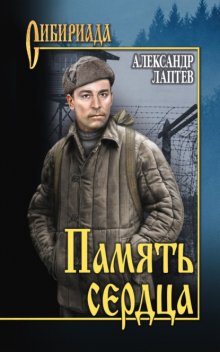
© Лаптев А. К., 2022
© ООО «Издательство «Вече», 2022
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2022
Итальянец
Этап
– Закуривай, ребята! Разбирай табачок!
Сергей развел края довольно объемистого матерчатого мешочка и счастливо улыбнулся, глядя на золотистый табак, плотно утрамбованный под самую завязку. Смуглое широкоскулое лицо осветилось изнутри, он стал похож на ребенка, получившего любимую игрушку.
В вагоне воцарилась тишина, только железные колеса мерно стучали на стыках. Семьдесят пар глаз неподвижно смотрели на этакое чудо. На грязных изможденных лицах читались удивление, растерянность, недоверчивость. Но, похоже, все было взаправду. Такими вещами не шутят. С нар неуверенно поднялся один заключенный, за ним второй, третий, и вдруг все задвигались, заторопились по узкому проходу между деревянных лежаков и стоек, толкая друг друга, наступая на ноги. К Сергею потянулись трясущиеся руки, на лицах обозначилось жалостное, а у иных – умилительное выражение.
Сергей торопливо сыпал табак в каждую ладонь: этому, потом другому и следующему за ним… Что-то летело мимо рук, сразу несколько человек оказались на четвереньках и спешили собрать просыпавшееся с занозистых досок, по их спинам лезли другие… Сергей уже не улыбался.
– Полегче, друзья! – воскликнул он, встряхнув курчавой головой. – Не толкайтесь. Делитесь с соседями, а то не хватит на всех.
Вдруг толпа разом колыхнулась, словно ее прошил электрический разряд; послышались отвратительные чавкающие удары, ругань и чьи-то всхлипы, и перед Сергеем предстали три приземистые фигуры. Золотые фиксы во рту, дебильные глумливые рожи, наглый и как бы остекленевший взгляд, и у каждого финка – у кого-то в голенище сапога, а у кого и прямо в руках – для убедительности, стало быть.
– Чего вылупился? – молвил тот, что стоял посредине. – Давай свой сидор. Чего жмёшься? Или тебя перышком пощекотать? – Резко обернувшись, грозно гаркнул: – Э, фраерня, чего окружили мужика? Быстро рассосались, пока я кому-нибудь кишки не выпустил. – И он поднял сверкающий нож с наборной рукояткой из красивого разноцветного стекла.
Сразу все попятились, головы поникли. Собирать кишки с пола никому не хотелось.
Сергей усмехнулся про себя. Это ему было знакомо. Сколько раз наблюдал он подобные сцены, когда несколько таких вот рож держат в страхе целую камеру политических или битком набитый здоровыми мужиками вагон, вот как сейчас.
– Ну ты чё, фраер, не понял, что ли? Тебе что, уши прочистить?
Сергей медленно поднялся с нар, выпрямившись во весь рост, уверенно глянул на фиксатого. Тот опешил, увидев перед собой верзилу на полголовы выше и заметно шире в плечах. Но, главное, он встретил твердый упористый взгляд. Чутьем зверя почуял, что перед ним вовсе не фраер, не фуфло и что с кондачка его не возьмешь. Такие открытия совершаются мгновенно.
Фиксатый отступил на полшага, на лице его обозначилась недоверчивая улыбка.
– Ты кто будешь? – спросил он хотя и развязно, но уже без прежней наглости.
– Меня Сергеем зовут.
– Я спрашиваю, какой ты масти!
Ножичек все играл в руке, как бы сам по себе.
– Нет у меня никакой масти.
– По какой статье чалишься?! Ты чё, русского языка не понимаешь?
Понемногу к фиксатому вернулась прежняя уверенность. Он уже понял, что перед ним все-таки фраер, хотя и «битый».
Ответ Сергея подтвердил его догадку.
– Пятьдесят восьмая.
– А, контрик, все ясно! – обрадованно воскликнул фиксатый и, осклабившись, переглянулся со своими спутниками. Дело для тех было вполне ясное, и они не понимали, чего фиксатый сопли разматывает. Давно бы сунул перо в бок этому черту. Вон стоит как столб и руки опустил. Ежели садануть его справа под ребро – не успеет увернуться, сразу ласты склеит. Не впервой…
Сергей видел эти оценивающие взгляды, понимал их значение. Когда был матросом в Керченском порту, он дрался, почитай, каждую неделю – и на ножах, и на кулаках, и чем придется. И еще никому не удалось свалить его с ног. Наоборот: это он сбивал противника одним ударом, так что за ним среди местной шпаны закрепилась слава силача и первого драчуна. Кончилось тем, что драться с ним перестали. Стоило какому-нибудь забияке узнать, кто перед ним, как он сразу утрачивал весь свой пыл и опускал руки со словами: это же «Полундра»! (такая у него была кличка).
А ведь ему тогда не было и восемнадцати лет. Теперь, много лет спустя, Сергей почитал все это за детские шалости: кровавые драки на ночном берегу в призрачном блеске звезд, поножовщину по малейшему поводу и без, обожающие взгляды чернобровых красавиц, из-за которых и происходило большинство драк. Все это заканчивалось синяками и выбитыми зубами – не более того. А если кого и подрезали, так не насмерть. Сами же помогали бывшему врагу зашивать рану обычными нитками – тут же, на берегу. Все тут были свои, жили на одной земле, ходили по одним водам и любили одних девушек – горячих южных красавиц со жгучим взглядом и нравом дикой кобылицы. Славное было время, не то что сейчас!
Фиксатый все смотрел на Сергея и никак не мог взять в толк: что у того на уме. То смотрит зверем, то лыбится неизвестно чему. А чего тут лыбиться? Все предельно ясно.
– Давай свой табачок. Тут тебе не колхоз. На этапе свои порядки, – приказал он.
Сергей взвесил на руке наполовину опустевший мешок.
– Тут еще много осталось. Подставляй ладони, я тебе насыплю.
Фиксатый вытаращил глаза.
– Ты чё, олень, не понял? Мешок быстро дал сюда! Я повторять не буду.
Он поднял нож, словно готовясь ткнуть Сергею в глаз.
Сергей подумал секунду, бросил окрест два взгляда, а потом неожиданно убрал мешок за спину.
– Топайте отсюда! – проговорил спокойно. – Мой табак. Что хочу, то и делаю. Я лучше мужикам отдам.
– Ах ты, падла, сука, фраер гнилой. Да я тебя щас…
Договорить он не успел. Голова его дернулась от резкого удара, так что захрустели шейные позвонки, и он рухнул под ноги своему обидчику. Приятель его также ничего не успел предпринять. Он привык пижониться со своей финкой да страшно ругаться перед «политическими», а драться ему вовсе не приходилось. Вот и растянулся во всю длину на загаженных досках. Морда его омылась кровью, половины передних зубов как не бывало. Третий экспроприатор, стоявший чуть дальше, вовремя сообразил, что дело худо. Не дожидаясь расправы, он попятился по узкому проходу, тараща глаза и крепко сжимая свой страшный нож, пара секунд – и он пропал из вида. Сергей не стал его преследовать. Он никогда не добивал поверженного противника. Это был его кодекс чести. За это его очень уважали в родном Керченском порту.
По опыту Сергей знал: больше эта троица на рожон не полезет и пайку не будет отбирать у соседей, и никого не порежет своими ножами. Да и как три отморозка могут запугать семьдесят взрослых мужиков? Ведь если позволять такое, так лучше вообще не жить! Так он и объяснил свои действия соседу по нарам – невзрачному лысоватому мужичку лет сорока, назвавшемуся Николаем Афанасьевичем. Тот был изумлен столь молниеносной расправой. Никак не ожидал от внешне спокойного и такого молодого парня подобной решительности и хладнокровия. Все никак не мог поверить, что Сергей не из блатных и тоже сидит по политической статье. А когда узнал, что Сергей итальянец, восторгу его не было предела.
– Как же это? – восклицал он с чувством. – Это ты к нам из самой Италии приехал?
Сергей грустно улыбался.
– Ниоткуда я не приехал. Мои предки перебрались в Россию еще при Екатерине. Осели в Крыму, и я там родился, под Керчью, до войны работал погонщиком лошадей в совхозе имени Сакко и Ванцетти. Слыхали о таком?
– Нет, не слыхал. То есть о Крыме, конечно, знаю. Цари там каждое лето проводили. Чехов тоже дачу имел, ему врачи прописали. А я так и не побывал ни разу. Теперь уж и не придется. А хорошо там?
Сергей испустил печальный вздох. Лицо сделалось грустным. Он опустил голову и произнес в сторону:
– У меня невеста осталась в Керчи. Дочку родила; говорят, на меня очень походит. Только я ее еще не видел. И что с невестой – тоже не знаю. А всех моих родных посадили – отца и двух братьев. Мать с сестрой выслали в Северный Казахстан. Тоже ничего про них не знаю. Живы ли. Писем от них нет. И мне не разрешают им писать. Так-то вот!
Николай Афанасьевич деликатно промолчал. Да и что тут скажешь? Подобные истории он выслушивал по десять раз на дню. Ничего не менялось в рассказах, везде присутствовали аресты, бессрочные высылки, разбитые судьбы, неизбывное горе. И все же этот случай был особенным. То все были наши люди, которым не привыкать. А тут целый итальянец, да еще такой вот сильный, бесстрашный, благородный. Благородство он приписал ему сразу и не задумываясь, еще когда он табак всем желающим раздавал. А уж когда он бандюков покрошил – так всякие сомнения отпали. Это и есть настоящий человек – идеал, к которому нужно стремиться. Кабы все такие были, тогда бы не было ни горя, ни несправедливости. Никакое мурло не будет над тобой издеваться и никакая власть не страшна! К чертовой матери все эти сказки о терпимости и всеобщей любви! Не подставлять щеку под удар, а бить в ответ – наотмашь! – чтоб кровавые сопли и искры из глаз!..
Такие диковинные мысли проносились в голове у Николая Афанасьевича Карева – профессора философии, ученика и последователя виднейшего советского философа Абрама Моисеевича Деборина, – потратившего лучшие годы на объяснение мироустройства и поиски смысла жизни. Смысл этот вполне открылся ему прямо сейчас. Истина находилась рядом – он смотрел на неё во все глаза и не мог насмотреться. Он бы променял все свои познания, всю свою мудрость и свою судьбу на судьбу этого парня. Вот как надо жить на свете! Выходит, сам он всю жизнь занимался ерундой. Витал в облаках, зато когда приперло, то выяснилось, что он ни черта не может в этой жизни. Он обычная тварь, и правильно его гнобят разные уроды. Потому что заслужил! Сделал ошибку в ранней юности: погнался за премудростью, когда надо было копить силы и пестовать волю. На такой вот случай, на борьбу за достоинство и самую жизнь.
Николай Афанасьевич долго крепился, и наконец спросил:
– А вы не боитесь, что вам будут мстить?
Сергей с удивлением посмотрел на него.
– Кто – эти? – И он мотнул головой в угол, где копошились избитые.
– Нет, не эти. Недели через две мы прибудем в пересыльный лагерь. А там много таких типов. У них ведь спайка… в отличие от нас, – добавил, понижая голос и словно бы стыдясь.
Сергей лишь отмахнулся.
– До лагеря нужно еще доехать. Да и что я такого сделал? Все видели, что они первые полезли со своими ножами. Их трое было. Что же мне, смотреть на них? Ждать, когда они мне кишки выпустят?
Он произнес это с такой убежденностью, что Николай Афанасьевич сразу и безусловно согласился: выбора действительно не было. Нужно было победить или погибнуть. О том, что Сергей мог просто отдать блатным свой табак, он даже и не подумал. Таково было воздействие той внутренней силы, которая так и лучилась из глаз его молодого друга.
Сходка
Опасения Николая Афанасьевича были небеспочвенны. Уже на второй день после прибытия этапа на пересылку в Комсомольске-на-Амуре блатные собрали сходку. В лагерной столовой к Сергею подошел незнакомый парень и сказал, что после обеда его ждут в первом бараке. На вопрос: зачем? – ответил: «Там узнаешь».
Сергей сразу все понял. Еще он понял, что если не пойдет, то за ним придут в его барак, и будет только хуже. Но главное, он не чувствовал за собой никакой вины. Поэтому спокойно доел свой обед и пошел туда, где должна была решиться его судьба.
Внешне первый барак ничем не отличался от второго (в котором разместился почти весь прибывший этап). Но внутри было гораздо уютнее – чище, просторнее, светлей. На всех шконках были одеяла с подушками, вдоль длинных деревянных столов стояли крепкие лавки. На столах разместились не только кружки и миски, но даже и бачки с кашами и супами. Глядя на все это богатство, Сергей невольно проглотил слюну.
– Чего хавло разинул? – обратился к нему уркаган с землистым лицом. – Выходи на середину. Будешь ответ держать перед братвой.
Сергей обвел взглядом присутствующих. Публика была весьма характерная, а в самом углу сидело несколько человек, разительно отличавшихся от остальных. На них были щегольские хромовые сапожки, добротные штаны навыпуск, а двое были с бородками (хотя и молоды на вид). И выглядели они не как заключенные, а как случайно забредшие сюда люди. Лица у них были властные, но смотрели они лениво, с прищуром, словно оценивая: стоит ли их внимания все то, что они вынуждены лицезреть.
Сергей вышел на середину и увидел воткнутые в шконки ножи – множество ножей. Он понял, что если не добьется справедливости, то не выйдет из этого барака живым.
– Ну, рассказывай, гаденыш, как ты обижал мужиков в вагоне! – громко произнес все тот же урка с землистым лицом. Как видно, он тут был чем-то вроде тамады.
Сергей набрал в грудь воздуха, хотелось сказать многое, но слова не шли на ум. Он все думал про ножи и про эти равнодушные лица с хищным прищуром. Он уже знал, что внешность бывает обманчива: за спокойными лицами могут прятаться звери, а бывало и наоборот: кто-нибудь страшный выходил на поверку сущим добряком.
Собравшись с духом, он поднял голову и хрипло произнес:
– Ты лучше скажи, кого я мог обидеть!
– Не прикидывайся! Давай рассказывай. Нам все известно, что творилось в твоем вагоне, как ты там шишку качал.
Сергей скосил глаза в сторону. Вот и эти трое шкодников тоже тут – сбоку на нарах пристроились. Смотрят с ненавистью. Дай им волю – накинутся и разорвут голыми руками.
Молчать было нельзя. Тяжело вздохнув, Сергей начал так:
– Если это действительно справедливый суд, то я не боюсь этих ножей. Они предназначены не мне. Я знаю, что ни в чем не виноват. Я никого не обидел зря, а если кто-то наклепал на меня, то он должен стоять на этом месте. Здесь, на пересылке, есть люди, которые ехали в нашем одиннадцатом вагоне, они сейчас во втором бараке. Позовите их и спросите, кого я обидел? Я догадываюсь, кто меня оклеветал. Тот, кому я морду бил как раз за то, что обижал мужиков. Я настаиваю позвать людей со второго барака, или пойдем все вместе туда. Пусть люди укажут, кто кого обижал. А так можно всю пересылку перерезать. – Сергей присмотрелся и узнал двух паханов из прежнего лагеря, прибывших тем же этапом. Он кивнул на них. – Да, кстати, вон сидят Курнай и Хрипатый. Они могут сказать, как я вел себя в лагере, обижал ли я кого-нибудь. Я знаю только одно: на лбу написано – работать, а сзади – без выходных. Вот и все. Решайте.
Воцарилась тишина.
– У тебя все? – спросил «тамада». Потом обратился к сходке: – Какие будут мнения?
В эту секунду решалось все. С места одновременно поднялись Курнай и Хрипатый.
– Мы знаем этого фраера по Карбасу. Ничего плохого за ним не замечено. Наше мнение – разобраться подробно.
Шкодники при этих словах заерзали, стали быстро переговариваться. Видно было, что им хочется что-то сказать сходке, но они не решаются. Тут не комсомольское собрание.
«Тамада» подошел к паханам, почтительно склонился. Через минуту выпрямился и быстро пошел на свое место.
– Решение такое. Сходку не закрывать, пока не выясним всю правду.
Все разом зашумели, задвигались. Стали подниматься с мест, но никто не уходил. Все ждали развязку, предчувствуя что-то необычайное.
Хрипатый, Курнай, «тамада» и Сергей отправились во второй барак. Паханы решили, что на Хрипатого и Курная можно вполне положиться.
Трое авторитетных уркаганов без всякого предупреждения ввалились во второй барак. Заключенные (а это была сплошь пятьдесят восьмая статья) со страхом смотрели на вошедших, ожидая от них какой-нибудь пакости типа отбора денег, шмотья, жратвы. А может, пришли набирать шнырей на уборку барака. Или проиграли кого-нибудь в карты, или еще какая беда. От блатарей всего можно ожидать.
Вперед выступил Хрипатый. Обвел всех тяжелым взглядом.
– Ну что, мужики, рассказывайте все про этого парня. Все, что знаете, – хорошего и плохого. Только чур – не врать. За вранье ответите! – И указал на Сергея, стоявшего чуть в стороне.
Сергей вглядывался в лица своих товарищей. «Неужели не скажут, как все было?!» Теперь он боялся не расправы, а боялся предательства товарищей – тех, за кого он вступился, рискуя своей жизнью.
Из самой гущи протиснулся Николай Афанасьевич.
– Я все видел! – громко произнес он. – Расскажу, как было. Мне терять нечего.
И он быстро изложил то, о чем все знали в этом бараке: как Сергей получил от своего брата на пересылке богатую посылку и как он делился хлебом и табаком со всем вагоном, и как трое мерзавцев хотели забрать себе табак, а до этого отнимали у соседей шмотье и продукты. Грозились порезать, ежели кто пикнет. Но Сергей не побоялся и дал одному в зубы, а потом и второму тоже. После этого в вагоне до самого конца этапа был порядок, все получали свои пайки, и все было по справедливости. Это могут подтвердить все присутствующие.
Произнеся столь длинную речь и задохнувшись в конце, Николай Афанасьевич обвел всех торжествующим взглядом, а потом быстро исчез в толпе. Хрипатый выдержал паузу, потом спросил всех сразу:
– Правду он говорит?
– Правду, правду! – закивали сразу несколько голов. – Мы все свидетели, так оно и было. А вы приведите сюда этого друга, которому Серега морду бил. Пусть сам скажет, как все было.
Хрипатый лишь отмахнулся.
– Мы его сами спросим. Пошли обратно, братва ждет.
Когда они вернулись в первый барак, там было по-прежнему тихо. Урки шушукались промеж собой, а в углу паханы курили папиросы и прихлебывали черный, как деготь, чифирь из алюминиевых кружек. Лица их были сосредоточены, словно они делали важное дело.
Хрипатый, Курнай и «тамада» сразу направились к ним. Совещание длилось несколько минут, говорили приглушенными голосами, причем паханы все больше молчали и слушали, а говорили Хрипатый и Курнай. «Тамада» не произнес ни слова, только усиленно кивал, когда паханы переводили на него немигающий взгляд.
Наконец, все слова были сказаны. Решение принято. Вперед снова выдвинулся «тамада». Он вышел на середину и стал кого-то высматривать на нарах.
– А, вот вы где! – воскликнул. – Ну-ка, иди сюда. Да, ты. Иди сюда, Жорик, а мы на тебя полюбуемся.
К нему с видимой неохотой подошел тот самый тип, которого Сергей ударил первым и который пугал его финкой. Теперь в руках у него ничего не было, и выглядел он откровенно напуганным. Он уже понял, что дело его проиграно, и думал лишь о том, как бы полегче отделаться. Физиономия его постепенно приобрела жалкое выражение.
– Ты говорил ворам, что этот фраер обижал в вагоне мужиков. Говорил? – спросил «тамада».
Фиксатый стоял, опустив голову.
– Ну, что молчишь? Язык откусил?
Фиксатый утробно хрюкнул, приподнял голову.
– Он обижал нас троих, а мужиков не трогал.
– А за что он тебе в рыло заехал, можешь рассказать?
Фиксатый снова опустил голову.
Все так и поняли: сказать ему нечего.
– Будешь говорить? Или лучше спросим твоих корешей?
С нар вытащили двух его друзей. Те страшно трусили, но в какой-то момент сообразили, что всю вину можно свалить на фиксатого, который был у них вроде атамана.
В бараке стало тихо. Паханы сделали знак «тамаде», и тот направился к ним. Через минуту один из паханов поднялся на ноги и объявил:
– Перекур на пять минут.
Сергей подивился такому решению. Ведь все было ясно, чего тут думать? Но еще больше он удивился, когда по истечении пяти минут «тамада» при всеобщем внимании объявил решение сходки:
– Раз цыган ложно обвинялся, значит, вопрос отдается на его усмотрение. Как он захочет, так и будет.
Сперва Сергей ничего не понял. Что значит: как захочет, так и будет? Но все разъяснилось тут же. К нему приблизился Хрипатый и подал финку; остро отточенное лезвие хищно блестело.
– Бери, цыган. Делай гада!
Сергей отрицательно помотал головой.
– Я не могу. Может, я чего не так сказал. Вы уж извините. Я всех ваших правил не знаю. Но убивать не буду.
Неспешно встал со своего места вор по кличке Васек-Дипломат.
– Ты правильно поступаешь, цыган. Но ты не учел одного: как бы он поступил на твоем месте. А он не стал бы искать человечность, а взял бы финку и порешил тебя не задумываясь. Но это дело твое. Мы разбирали по справедливости, хоть ты и молодой, но кое-кто знает тебя как правильного фраера. Может, ты передумал и не станешь проявлять малодушия к этой гниде? – И он в упор посмотрел на Сергея.
Сергей ответил не раздумывая:
– Пусть его совесть убивает, а я не стану пачкать руки. Думаю, что он и сам все понял.
Стало очень тихо. Паханы снова стали о чем-то шептаться. Наконец поднялся один из них – невысокий крепыш с аккуратной бородкой и рыжими усами. Он объявил высоким голосом, ни на кого не глядя:
– Воровская сходка приняла решение помириться, чтобы в дальнейшем такое не повторялось.
И это был действительный конец сходки. Дело на этот раз закончилось без кровопролития.
К Сергею подошел фиксатый, протянул руку.
– Прости меня, цыган, я виноват перед тобой. Но больше это не повторится. Будем корешами!
– Только честными! – ответил Сергей, крепко пожимая протянутую руку.
Фиксатый пошел прочь, стараясь ни на кого не глядеть. За ним, крадучись, последовали его кореша. Хотя вряд ли их теперь можно было назвать корешами. Вся троица походила на побитых собак.
Сергей постоял некоторое время, но, видя, что никто им больше не интересуется, пошел в свой барак, где его ждали товарищи.
На пересылке
Сергей сделался местной знаменитостью. Такого еще не бывало, чтобы фраер ударил урку, и это сошло ему с рук. Дело обычно даже не доходило до сходки, а отчаянного малого резали или во время драки, накидываясь всей кодлой, или в бараке на шконке в первую же ночь. В лагере негде было укрыться от блатных – это все понимали. Победить в этой неравной борьбе было нельзя. Тем поразительнее было случившееся. Урки, в свою очередь, были удивлены поступком Сергея, когда он отказался резать фиксатого. Любой из них сделал бы это не задумываясь – для утоления обиды, а главное – для укрепления своего авторитета среди воров. В этой среде не было ничего хуже и позорнее душевной слабости. А доброта и покладистость среди воров считались признаком слабости. Жестокость, переходящая в садизм, бесшабашность и бесчувственность – вот набор качеств, гарантирующих уважение и почет среди этой публики.
Однако «цыган» (так они окрестили Сергея по своей воровской традиции) чем-то им понравился. То, как он вел себя на сходке, и то, как вломил двоим уркаганам – только сопли полетели! – все это не могло не вызывать уважение у людей, признающих лишь грубую физическую силу. Возможно, они почуяли в нем своего. И возможно также, что они не ошибались в своих оценках. Дальние предки Серджио Паскалевича Де-Мартино, жившие на берегах Средиземного моря, отнюдь не были ангелами. Они становились контрабандистами (среди рыбаков это вовсе не считалось преступлением), корсарами. Были просто вольными людьми, сроднившимися с морем и буйной южной природой, – такие же непосредственные, шумные и веселые, ценящие справедливость больше самой жизни. Так уж сложилось. Серджио был достойный сын своего народа, дальний потомок отважных и свободолюбивых рыбаков.
Все это безотчетно чувствовали. Сергей (будем называть его так, как звали его окружающие) был высок и статен, он имел смуглую кожу и густые черные волосы. Смотрел всегда в глаза собеседнику, очень пристально и прямо. Бывалые люди по одному только этому взгляду определяли в нем человека твердой воли и отчаянной храбрости. Правда, по этому взгляду нельзя было сказать, добрый он или злой, великодушный или бесчувственный. Но эти качества сказывались в поступках. В лагере ничего нельзя скрыть от окружающих. Человек тут весь как на ладони – со всеми своими потрохами. Прежние заслуги – должности и звание, былой почет и успешная карьера – ничего не значили в этом подземном мире. Человека в лагере просвечивали сотни взглядов, и приговор был всегда безошибочен. Так же было и с Сергеем. Он и сам чувствовал изменившееся отношение к себе. Урки, завидев его издали, чему-то лыбились, а некоторые делали знак рукой как старому знакомому. А политические (которых на пересылке было раз в десять больше) – те смотрели чуть не с испугом. Лишь ближайшие знакомцы видели в нем того, кем он всегда и был, – славного малого, своего парня, на которого можно положиться в трудную минуту, который не подведет, не продаст и не бросит, даже если это будет грозить ему гибелью.
– Сергей, а за что тебя арестовали? За версту же видно, что ты не политический! – спросил Николай Афанасьевич, когда теплым солнечным днем они сидели на завалинке своего барака. Было воскресенье, заключенным дали выходной. В пересыльном лагере работы было немного, это все-таки не прииск и не касситеритовый рудник.
Сергея многие спрашивали о причинах ареста, и он каждый раз отделывался скупыми фразами. Да и чего тут рассказывать? Вся пятьдесят восьмая статья сидела ни за что – все это прекрасно знали. И все-таки у каждого была своя история, своя душевная боль, своя кровоточащая рана. Но не каждый согласен был рассказать правду о себе. Слишком тягостны были воспоминания. Да и какой в том толк? Рассказы эти ни к чему не вели. А бередить душевные раны – себе дороже.
Однако на этот раз Сергей решил поделиться своей историей. Перед ним был человек уже немолодой, повидавший многое и чем-то ему очень симпатичный. Он раньше не встречал таких людей. Да и где он мог их встретить? Ведь он даже начальную школу толком не закончил. Зато рассказывать умел не хуже других. Ведь русский язык был для него родным. Он впитал его, можно сказать, с молоком матери. И вся семья его говорила на русском.
– Меня арестовали пятого марта сорок третьего года, – начал он свой рассказ. – Мы с семьей жили в селе Спасское, это в Казахстане, в Акмолинской области. Нас выслали из Керчи в январе сорок второго. Тогда наши войска неожиданно для немцев высадили десант в районе Камыш-Буруна и выбили фашистов из Керчи. Мы сперва обрадовались, думали, что закончились наши мучения. При фашистах мы всей семьей прятались в каменоломнях за городом. Сильно голодали, холодно было. Зима все-таки. Однажды меня чуть не расстреляли. Я пошел ночью в город за продуктами. Там меня схватили полицаи. Подумали, что я еврей. Поволокли в комендатуру. Я уж решил, что все, каюк. Но мне удалось убежать. Там у нас был консервный завод, его разбомбили, одни стены остались. А напротив был узкий проулок, он выходил на берег моря. До войны там на берегу ремонтировали деревянные суда. Место это мне было хорошо знакомо. Когда мы проходили мимо этого переулка, я резко рванулся и побежал со всех ног. Полицай кричит сзади: «Стой! Стрелять буду!» – и выстрелил в меня несколько раз. Но не попал. Я молодой был, верткий. Забежал во двор, где размещались старые мастерские, между ними был проход к двухэтажному дому. Я запрыгнул в окно и выбежал на улицу Войкова. Пробрался знакомыми проулками и выбрался на окраину города. Так и спасся тогда. А наши, когда пришли, обвинили нашу семью в пособничестве немцам. На меня один знакомый донос написал в НКВД, что я хвалил фашистов, ждал их прихода.
Николай Афанасьевич при этих словах с недоумением посмотрел на Сергея.
– Ты это точно знаешь?
– Знаю. Мне следователь показал эту бумагу, перед тем как отпустить.
– Так тебя отпустили?
– Конечно! А за что меня было арестовывать? Я же еще совсем пацан был. Мы с этим парнем, который бумагу на меня накатал, любили одну девушку. Ее Тосей звали. Так она меня выбрала, а ему дала от ворот поворот. Вот он и разозлился. Решил мне отомстить.
Николай Афанасьевич лишь усмехнулся.
– Знакомая картина! И все-таки я не понимаю, как же тебя отпустили?
– Все очень просто. В те же дни вышло постановление о выселении из Керчи всех итальянцев в двадцать четыре часа. Ну и решили, что с меня будет этого довольно. И всю нашу семью посадили в грузовики и отправили в Камыш-Бурун. Оттуда на пароходе в Новороссийск. Там мы прожили трое суток. Затем нас повезли в теплушках в Баку, потом пароходом до Красноводска, а уж оттуда ехали целый месяц в товарных вагонах, сами не зная куда. В начале марта нас привезли в город Атбасар Акмолинской области. Нашу семью распределили в колхоз «Заветы Ильича». Там я проработал до осени. Осенью меня вызвали по повестке в военкомат и направили в трудовую армию, в Караганду. Там я работал в шлак-карьере на погрузке угля. На работу нас водили под конвоем. Кроме итальянцев там были поляки и немцы Поволжья. Нас подозревали в измене, хотя все мы родились и выросли в Советском Союзе, и другой родины не знали. И арестовали меня уже там, ровно через год – пятого марта. Посадили в камеру. Меня там спрашивают, за что взяли, а я не знаю, что сказать. Не было за мной никакой вины. Только одно и есть, что я итальянец. Отца моего тоже арестовали и двух братьев – Франческо и Джузеппе. Я потом узнал, что все они получили по десять лет. С Франческо я встретился на пересылке в Карбасе. Это он мне дал тот табачок перед этапом, из-за которого вся заварушка случилась.
Николай Афанасьевич кивнул с довольной улыбкой. Вспоминать об этом было приятно.
– Ну а что дальше было? – спросил он. – Что тебе следователь предъявил?
– Сначала спрашивал, знаю ли я Италию, бывал ли за границей, имеются ли у меня там родственники и все прочее. Я на все вопросы ответил отрицательно. Не был, не знаю, связи ни с кем не поддерживаю. Даже языка итальянского не знаю. Какие уж тут связи! Тогда следователь говорит: а теперь рассказывай, какие ты вел антисоветские разговоры. Я снова отвечаю, что никаких разговоров не вел. Тут он вскочил со стула, будто его ужалила оса, и стал размахивать пистолетом у меня перед носом. Стал кричать: «Врешь, фашист, будешь говорить, что я захочу! Понял меня? Еще раз повторяю, если не понял. У нас времени много. Это только цветочки, а ягодки будут впереди!». Потом он успокоился и дал мне закурить. Предупредил, чтобы я в камере никому не болтал о том, что было, и что он все равно об этом узнает, потому что у него везде свои люди. В камеру меня привели уже под утро и сразу объявили подъем. А днем спать мне не давали, один раз я уснул, так меня в карцер таскали. Так оно и тянулось недели три. Ночью допросы и угрозы, а днем спать не дают. Я уже дошел до точки. Ничего не соображал, не мог на ногах стоять. Галлюцинации у меня начались, все пауки мерещились, большие такие! А следователь все подначивает: подпиши протокол да подпиши, и все сразу закончится. Меня накормят и спать дадут, в отдельную камеру устроят. И допросов больше не будет. А будет суд, на котором мне дадут лет пять, не больше, по моей молодости. И сразу же отправят в лагерь на вольный воздух, где я искуплю свою вину, потом вернусь к семье и буду дальше жить!
– Они всем это обещают, – заметил Николай Афанасьевич.
– Вот-вот. Я и поверил. Да и что мне оставалось? Меня ведь пока еще не били. А многих из нашей камеры избивали на допросах. Били вдвоем, втроем, да так, что некоторые потом умирали прямо в камере среди ночи. А я еще молодой был. Не хотелось умирать. А следователь был хитрый, то добрым прикинется, то расстрелом пугает. Горлачёв его фамилия. Я случайно узнал и запомнил, когда он по телефону с кем-то говорил из своих. В общем, уговорил он меня подписать протокол. Сперва накормил обедом из столовой прямо у себя в кабинете, а потом подсунул допросные листы, чтобы я их прочитал и на каждом расписался. Пришлось сказать ему, что я неграмотный и прочитать ничего не могу.
Тогда он засмеялся, взял в руки папку и стал читать, что там написано, иногда поглядывая на меня поверх листов и проверяя, как я воспринимаю. А мне уже было все едино. Я помнил его обещание про отдых и про скорый суд, где мне присудят пятерик. И я ведь понимал, что он не все читает. Как тут проверишь? Приходилось полагаться на его честное слово.
Николай Афанасьевич, не выдержав, помотал головой. Лицо его сделалось жестким.
– Да ты что! Разве можно верить следователю на слово? Ему ведь только и надо – под расстрел человека подвести. Чем больше смертных приговоров, тем ему лучше! У них ведь там план по расстрелам. Они соревнуются друг с другом, кто больше врагов народа отправит на тот свет!
Сергей тяжело вздохнул.
– Так все и было. Только я тогда этого не понимал. А если бы и понимал – что бы это изменило? Измордовали бы на следствии, выпотрошили, и все одно кончилось бы тем же самым.
Подумав, Николай Афанасьевич согласился.
– Это тоже верно. Видел я и подписавших признание, и не подписавших – все одинаково получили по десять лет, а многих расстреляли. Но расстреливали больше тех, кто подписал. У них на этот счет была установка. Это еще Вышинский вывел такой закон, что обвиняемый должен признать свою вину, и этого признания будет достаточно для обвинительного приговора. А все остальное неважно. Вот следователи и старались выбить признания из невинных людей. Ведь, кроме этого признания, им больше ничего не нужно было – ни доказательств, ни свидетелей, ни орудий преступления, ни мотивации. Повезло тебе, что жив остался!
– Это верно, – подтвердил Сергей. – Мне ведь сперва вынесли смертный приговор. Судила меня выездная сессия военного трибунала Петропавловского гарнизона. Суд проходил в местном клубе НКВД, при закрытых дверях. В зале, кроме судей и охраны, никого не было. Я, конечно, сразу отказался от признания вины, сказал, что меня обманом вынудили подписать признание, что я неграмотный и даже не знаю, что в протоколе написано. А судья мне отвечает, мол, вы все, как попадете на скамью подсудимых, так говорите, что ни в чем не виноваты и что вас оговорили. А на самом деле есть неопровержимые доказательства моей вины. Судья сказала, что я занимал большой пост (это притом, что я матрос, и мне не было тогда и двадцати лет) и что я делал темные дела и вовлек в преступную деятельность множество народа. И тому есть свидетели – братья Козловы. Их тоже вызвали в суд и допрашивали. Я их обоих знал, оба были из трудармии, жили в моем бараке. Вместе на работу ходили.
– И что же они сказали?
– Их вызывали по отдельности. Старший брат сказал, что я ничего не говорил против советской власти, а когда судья сказала, что в деле есть его показания, он ответил, что следователю Горлачёву он ничего не говорил, а только слушал, что тот читал из протокола. А от меня он никогда не слыхал антисоветских разговоров. Потом вызвали его брата, и тот сказал судье, что ничего плохого не слышал от меня. После этого судья объявила перерыв, а минут через двадцать меня снова завели в зал. Вошли судьи, сели за стол, посмотрели в бумаги, и судья сказала: «Подсудимый, встать!» Я с трудом поднялся, голова от волнения кружилась. Судья прочитала вступление, а потом объявила решение суда: «Подсудимый Де-Мартино Серджио Паскалевич приговаривается к высшей мере наказания – расстрелу. Для специальной защиты дается семьдесят два часа». Потом повернулась ко мне и спросила: «Ну что, судом довольны?» Что я мог ответить? Пол подо мной закачался, стало трудно дышать. Ноги подкосились, и я опустился на скамейку. Взглянул на судей и увидел слезы на глазах женщины из состава суда. Она отвернулась, заметив мой взгляд. Солдат, стоявший сзади, приказал: «Смертник, ведите себя спокойно!» Так я стал смертником. Какое жуткое слово! Я тогда думал, что меня сразу поведут на расстрел, прощался с жизнью. Но потом ко мне в камеру пришел адвокат и уговорил подписать кассацию о помиловании. Я сначала не хотел, сказал адвокату, что пусть пишет следователь Горлачёв, который подло обманул меня. Но потом все же поставил свою подпись. Адвокат ушел, а я стал ждать решения. В камере смертников я провел два месяца, каждую минуту ожидая расстрела. Особенно тяжело было по ночам, когда приговоры приводили в исполнение. Я, помню, вздрагивал от каждого шороха. Надзиратель проходил по коридору, а я вскакивал, мне казалось, что это идут за мной. Бр-р-р! Жуткое дело. Никому такого не пожелаю!
Сергей опустил голову и весь погрузился в воспоминания. Лицо его потемнело.
Николай Афанасьевич тронул его за плечо.
– Ну же, ты чего? Ведь не расстреляли же!
Сергей поднял взгляд и несколько секунд смотрел, как бы не узнавая. Потом брови его дрогнули, лицо оживилось, и он медленно растянул губы в улыбке.
– Верно, не расстреляли. Заменили расстрел десятью годами. Только я после этого едва не ослеп. Когда меня вывели из камеры смертников и объявили новый приговор, я вдруг перестал видеть. Думал, так и останусь слепым навеки. Положили меня в больничку, а через три недели выписали. Зрение вернулось. Врач сказал, что это от пережитого потрясения, а еще оттого, что я долго не видел дневного света. Меня ведь за эти два месяца ни разу не выводили на прогулку. Так и сидел впотьмах, как крот. Вот и ослеп. Да еще спал на цементном полу без всякой подстилки. Бока себе застудил. Я уже под конец хотел, чтобы меня поскорее расстреляли.
– Понятно, – протянул Николай Афанасьевич. – А что дальше было?
– Дальше? Да ничего особенного. После больницы меня отправили этапом в лагерь на станцию Жарык. Там и началась моя лагерная жизнь. Сначала я был на уборке урожая, а потом отправили на строительство плотины. Через полгода меня определили работать на овцеферму на всю зиму. Там мне приходилось делать все, что прикажут: возить сено на быках, убирать в кошарах, пасти и кормить овец. Работа была не очень тяжелая, мне нравилось ухаживать за овцами. Все-таки живые существа. Мне с ними как-то легче было. Потом меня опять вернули в лагерь и зачислили в строительную бригаду. Я стал работать подсобным рабочим на кладке саманных домов, месил глину, подносил саман и присматривался к мастерам по кладке. Очень хотелось научиться их ремеслу. Бригадир это заметил и предложил мне работать кладчиком. Я с радостью согласился. Так я стал кладчиком. Там-то меня и прозвали цыганом. Шутили надо мной, хотя и знали, что я итальянец. Но мне это было все равно. Работа мне нравилась, и бригада была хорошая. Кормили нас хорошо. Но все это было недолго. Однажды прошел слух, что собирают большой этап – всех, кто с большим сроком. Некоторые стали делать себе «мастырки», а я не умел. Вот и загремел в этот этап. Была у нас пословица: «Дальше солнца не угонят, а пайку все равно дадут».
Николай Афанасьевич недоверчиво улыбнулся.
– Это вы хорошо жили, если у вас были такие пословицы. У нас в сорок первом в иные месяцы вовсе не было подвоза в лагерь муки. От двух с половиной тысяч к весне в живых осталось восемьсот человек. Тогда и появилась эта присказка: «Кто в войну не сидел, тот лагеря не видал!» Так-то, брат! – И он тяжко вздохнул.
– Да, я понимаю, – согласился Сергей. – Ведь меня посадили в сорок третьем, когда уже война на спад пошла и снабжение стало налаживаться. Про сорок первый я слыхал. Жуткое время было. Да и в сорок втором не слаще. А вы и в сорок первом сидели? – спросил он. – И как там было, шибко тяжело?
Николай Афанасьевич задумался, потом махнул рукой.
– Потом как-нибудь расскажу. Вспоминать неохота. Эх, день-то какой! – И он блаженно зажмурился на солнце, блиставшее в синеве.
Сергей деликатно замолчал. Николай Афанасьевич приоткрыл один глаз, скосил в сторону.
– Ну а дальше что было? Куда тебя отправили?
Сергей ухмыльнулся.
– Так на пересылку же, в Карбас, откуда мы с вами в одном вагоне ехали. В Карбасе я своего старшего брата Франческо встретил, он там работал кузнецом в цехе. От него я узнал про отца и мать с сестрой. А еще брат сказал, что та девчонка, с которой я дружил в Керчи, родила девочку и эта девочка очень похожа на меня. Брат мне очень помог тогда. За долгие годы я впервые увидел родное лицо, понял, что дороже семьи нет у человека ничего. Брат мне махорки дал в дорогу. А дальше вы сами все знаете.
Сергей умолк и стал смотреть на темнеющие на горизонте пологие холмы, а Николай Афанасьевич в это время любовался им. Открытое лицо дышало мужеством и спокойной уверенностью. Как-то сразу чувствовалось, что этот человек ничего не боится, а еще – что он не способен на подлость, на обман. Странно было видеть его здесь – среди отверженных обществом людей. Он уже не удивлялся, что в лагерь отправили его самого – профессора философии. Не удивлялся, что в лагерях находятся ведущие генетики и биологи, физики и конструкторы ракет, математики, писатели и музыканты. Все эти люди были затронуты цивилизацией и словно бы испорчены своей образованностью. Но вот перед ним был чистый лист, добротный материал, из которого можно вылепить все – бесстрашного полководца, талантливого строителя, наконец, подлинного вождя, за которым пойдут тысячи! Вместо этого его держат в камере смертников и доводят до исступления. Ради чего? Этого Николай Афанасьевич не знал. И никто этого не знал в великой советской империи.
Берлаг
Рудник «Днепровский» располагался в районе трехсотого километра Колымской трассы, на знаменитом колымском нагорье, сразу за Яблоневым перевалом. Это был каторжный лагерь, созданный специально для политических. Сидели в нем заключенные со сроками от десяти до двадцати пяти лет. В этом лагере летом сорок восьмого года оказался и Сергей. Чья-то злая воля решила испытать на нем убийственный климат Приполярья.
В один из вечеров всех заключенных построили на вечернюю поверку. Перед строем встал сам начальник лагеря – майор Федько. Он встряхнул бумажный лист и стал читать нарочито грубым голосом:
– Приказ по Берлагу номер пять. Пункт первый. Все заключенные Берлага должны носить номера на одежде, на правой ноге – выше колена, на спине и на шапке – на лбу; на шапке шесть на три сантиметра, на ноге двенадцать на восемь, на спине двадцать пять на пятнадцать сантиметров. Номер должен быть написан черной краской на белом материале. Всем бригадирам получить материал в портновской, в уже нарезанном виде. Писать номера и пришивать самим. Номер получить каждому у нарядчика. За невыполнение – наказание в виде десяти суток изолятора. Срок на исполнение – два дня. Пункт второй. Обращение с обслуживающим вольнонаемным персоналом следующее: подойдя, встать по стойке «смирно», громко сказать: «Гражданин начальник, разрешите обратиться!» Не забывайте, что выданный вам номер заменяет вашу фамилию, имя и отчество. – Начальник отстранил от себя бумагу и обвел взглядом весь строй от края и до края. – Всем все понятно?
Ответом ему было молчание.
– Р-р-разойди-ись! – гаркнул он и, развернувшись, пошел прочь.
Заключенных загнали в бараки, опасаясь бунта. Но ничего такого не случилось. К номерам отнеслись не без юмора. В тот же вечер в бараках закипела работа. Заключенные стали пришивать номера, подшучивая друг над другом. Через два дня все было готово. Все заключенные были пронумерованы, и каждый должен был запомнить свой номер и откликаться на него. А свои имена и фамилии нужно было забыть – кому на двадцать пять лет, а кому и до самой смерти (такому и на бирке, привязанной к большому пальцу на правой ноге, укажут номер, а не фамилию и не имя). Сергею достался номер 1799.
На утренней поверке, глядя друг на друга, заключенные стали громко смеяться. Стоявший рядом надзиратель тоже начал хохотать, широко раскрывая рот и показывая лошадиные зубы – кривые и желтые от табака. Сергей повернулся к нему, проговорил с усмешкой:
– Что, надели на людей номера и радуетесь? Здесь, в лагере, половина невиновных сидит, и совесть у них чище, чем у вас!
Надзиратель так и застыл с раззявленным ртом. Потом вдруг сделал два шага и двинул Сергея прикладом винтовки в бок. Тот охнул и согнулся пополам, хватая ртом воздух.
– Встань в строй, фашист! – со злобой процедил надзиратель. Это был Зубенко – дюжий мужик с отъевшейся рожей и выкатившимися из орбит глазами. Заключенные знали, что Зубенко любит исподтишка ударить заключенного, поэтому старались близко к нему не подходить и на шмонах обойти его стороной. Сергей тоже это знал, но все же не думал, что Зубенко посмеет его ударить при всех.
Кое-как отдышавшись, держась за бок, он подошел к нему. Поглядел в замороженные глаза.
– За что ударил? – произнес, стараясь не выдать волнения.
– Ты еще спрашиваешь, фашист? – Зубенко перехватил поудобнее винтовку и размахнулся для сокрушительного удара. Но сделать ничего не успел. Сергей подшагнул к нему и нанес молниеносный удар в челюсть. Зубенко рухнул как подкошенный. На Сергея тут же бросился второй надзиратель, но и он оказался на земле после мощной оплеухи. А в следующую секунду на Сергея навалились сразу пятеро. Они сбили его с ног и хаотично пинали извивающееся тело, мешая друг другу, теряя равновесие и рыча, словно дикие звери. Заключенные, до тех пор молчавшие, все разом вдруг закричали, надвинулись черной массой на озверевших людей в военной форме. Те сразу охолонулись, попятились было, но потом вспомнили про винтовки, посрывали их с плеч, нацелились на толпу.
– Быстро зашли в барак! Стреляем без предупреждения. Ну, живо!
Заключенные остановились. Все понимали: могут перестрелять в любую секунду, и никто за это не ответит. Все спишут на бунт. А кроме того, они видели, что надзиратели перестали избивать Сергея. Он неподвижно лежал в пыли – окровавленный, грязный, со спутавшимися волосами. Возможно, что его уже убили, когда пинали по голове коваными сапогами. Во всяком случае, надзиратели больше не делали попыток его ударить. Видно, им было неинтересно пинать бесчувственное тело.
Карцер
Сергей очнулся глубокой ночью. Долго не мог понять, что с ним и где он находится. Только чувствовал резкую боль во всем теле. Проведя рукой по лицу, нащупал запекшуюся кровь. Губы были разбиты, передние зубы шатались. А когда он попытался подняться, ощутил острую боль в правом боку. Боль эта была ему знакома – так болят сломанные ребра. Несколько минут лежал с закрытыми глазами, прислушиваясь к себе. Казалось, все тело наполнено горячим металлом, так и тянет к земле. А снизу голый цементный пол, от него разит могильным холодом. Сергей пошевелил одной рукой, потом другой, подвигал головой влево-вправо и сделал глубокий вдох, затем так же медленно выдохнул. Каким-то животным инстинктом он понял, что у него ничего не сломано, кроме ребер. Но ребра – это пустяки. Поболит и перестанет, не впервой! Так он думал про себя, пытаясь успокоиться. Но тревога не отступала. Он знал, что утром его поволокут к оперуполномоченному. Будут обвинять в нападении на конвой. А это расстрел, и к попу ходить не надо!
Так он лежал несколько часов среди мертвящей тишины, то падая духом, то возгораясь надеждой, что все как-нибудь обойдется, Зубенко не станет подводить его под расстрел. Ведь он первый ударил. А потом его били сразу несколько человек – Сергей отчетливо помнил, как катался по земле, увёртываясь от тяжелых сапог и закрывая голову руками. А потом раздался многоголосый рев – это все разом закричали заключенные. И это его спасло. Если бы не ребята, его бы забили до смерти и теперь он был бы не здесь, а лежал бы в мертвецкой – разбухший, синюшный, страшный… Нет, лучше не думать об этом. Наступит утро, и все разрешится. Его отпустят в барак, все пойдет по-прежнему.
И утро действительно наступило. Но в барак его не отпустили. А прямо из изолятора подняли и поволокли в оперчасть.
Оперуполномоченный – такой, как и все они, – затянутый в кожаные ремни, в тугой гимнастерке и черных хромовых сапогах, с уродливой портупеей на боку – холодно глянул на Сергея.
– Ну, рассказывай, за что ты напал на представителей советской власти.
Сергей стоял перед столом, прижимая правый локоть к ребрам, чтобы не очень болело. Его мутило, голова кружилась. Он боялся упасть от слабости. Голос уполномоченного доходил до него, как сквозь подушку.
Собравшись с силами, он произнес:
– Зубенко первый меня ударил, ребра мне сломал прикладом. Такие, как он, позорят советскую власть, избивая ни за что заключенного. Мы такие же люди, только лишенные свободы. Если нас можно бить, так объявите об этом, чтобы все знали.
Уполномоченный вскочил со стула.
– Замолчи, сволочь!
– Вы мне будете клеить дело, а я должен молчать? На прошлой неделе дежурный офицер ударил заключенного Батогу при всех. Если это так положено, зачитайте приказ, что нас можно избивать. Тогда мы будем знать, что наши бока служат для кулаков надзирателей, а заключенный не имеет права защищаться.
Оперуполномоченный онемел от такой наглости. В какой-то момент рука его потянулась к портупее. Но он вовремя опомнился. Стрелять в заключенного прямо в кабинете он не мог. Теперь не тридцать восьмой год, когда он мог садануть обвиняемого графином по скуле или двинуть мраморной пепельницей в висок, а то и просто пристрелить. Хоть это и противно, но иногда приходилось делать – ради мировой справедливости и братства.
Взяв себя в руки, он вернулся на свое место, извлек из картонной папки уже заполненный каракулями лист и стал читать:
– Следствием установлено, что заключенный Де-Мартино Серджио Паскалевич, осужденный по статье пятьдесят восемь, части восьмая, десятая, одиннадцатая и четырнадцатая, во время отбытия наказания в Береговом лагере номер пять не подчинился требованиям администрации, напал на конвойных и попытался завладеть оружием, но принятыми мерами был обезврежен и заключён в следственный изолятор.
– Я не пытался завладеть оружием! – воскликнул Сергей. – Чего вы врёте?
Уполномоченный поднял глаза от бумаги и насмешливо посмотрел на него.
– Это ты будешь судье объяснять. А я пишу согласно показаниям свидетелей. Того же Зубенко, на которого ты напал. Скажи спасибо, что он тебя на месте не пристрелил! Имел полное право.
– Все ясно, – ответил Сергей. – Я ничего подписывать не буду. Хватит того, что я на следствии подписал себе срок ни за что. Теперь я стал умнее. И вообще, я больше не буду отвечать ни на какие вопросы. И на допрос меня больше не вызывайте. Я больше не произнесу ни слова.
Уполномоченный стукнул кулаком по столу.
– Я заставлю тебя говорить, фашист недобитый!
– Вы можете избивать меня, как угодно издеваться. Но я все равно не подпишу этого обвинения, – ответил Сергей.
Уполномоченный бросил лист на стол.
– Хватит дипломатию разводить. Сейчас пойдешь в изолятор, подумаешь хорошенько, а завтра я тебя вызову. Все подпишешь, или я тебя сгною.
Уполномоченный вызвал надзирателя, и тот повел Сергея обратно в изолятор. Сергей шел медленно, припадая на правую ногу. Надзиратель не торопил и не прикрикивал. Он уже знал о случившемся и почитал Сергея за покойника. Что бывает за нападение на конвой – он хорошо знал. К тому же он слыхал, как оперуполномоченный орал в своем кабинете. «Уж лучше бы этого бедолагу пристрелили прямо там, на месте, – бесхитростно думал надзиратель. – А то будут теперь мучить, а потом все одно расстреляют!» Он также думал о том, что, возможно, ему самому и придется расстреливать этого парня. От такой мысли на душе становилось муторно, и он старался не смотреть на Сергея, чувствуя перед ним безотчетную вину.
В такой-то момент к ним приблизился заключенный. Сергей повернул голову и увидел соседа по бараку – Пашу Ребрина. Остановившись в нескольких шагах, тот спросил разрешения дать Сергею курево. Надзиратель подумал секунду, потом кивнул.
– Давай, только быстро.
Паша быстро подошел, сунул в руки кулечек с махоркой и бумагу на самокрутки. Приблизив лицо, быстро проговорил:
– Держись, Серега, тебе клеят серьезное дело!
Сергей кивнул.
– Знаю. Ты вот что, скажи ребятам, чтобы к вечеру принесли мне в камеру иголку с нитками покрепче. Сделаешь?
– Конечно. А тебе зачем?
– Надо.
Сергей пожал протянутую руку, и Паша быстро пошел прочь.
Настал вечер. В изоляторе наступило время ужина. Сергей с нетерпением ждал этой минуты. Вот забрякали бачки в коридоре, распахнулась «кормушка». Раздатчик – Витя Зинченко (из заключенных) – заглянул внутрь и заорал нарочито грубо:
– Чего, как неживой, ворочаешься? Получай паек!
Он поставил на кормушку миску с баландой и пайку черного запекшегося хлеба, а сам подморгнул и показал глазами на пайку. Сергей быстро кивнул. Он уже понял, что в хлебе припрятано то, что ему нужно.
Кормушка захлопнулась, тележка с бачками покатилась дальше.
Сергей взял горбушку черного хлеба, подержал на весу, потом осторожно разломил надвое. Внутри мякиша была спрятана деревянная катушка с нитками, в которые наискось была воткнута толстая швейная игла. Сергей похолодел, глядя на эту иглу. Но делать было нечего, он должен исполнить задуманное. А иначе – смерть!
Но прежде надо было расправиться с ужином. Кто знает, когда еще ему удастся поесть.
Он уселся на топчан и придвинул к себе миску. Впереди была целая ночь, спешить некуда.
Он еще успел немного поспать и лишь глубокой ночью, когда стихли все звуки, принялся за дело.
В юности, которая теперь казалась ему чем-то вроде сновиденья, ему приходилось зашивать на себе раны от ножа – на левой руке, на бедре, а однажды даже на боку: это «хромой» порезал его финкой. Тогда было много крови, а рана оказалась пустячной. Сергей в горячке даже не почувствовал боли – сделал три стежка у себя на боку, как если бы он зашивал подушку, потом облил уже зашитую рану разбавленным спиртом и заклеил пластырем. И все обошлось. Даже шрама не осталось. Воспоминание это придало Сергею уверенности. Он нащупал в темноте катушку, вытащил иглу и размотал нитку – сантиметров сорок, этого должно было хватить. Дальше все происходило как бы само собой. Он запретил себе думать и просто смотрел на свои руки, которые совершали привычные движения: вдевали нить в игольное ушко, завязывали узел на конце сдвоенной нити; потом иголка приблизилась в темноте к подбородку… Сергей весь напрягся, перестал дышать. Вот игла ткнулась в нижнюю губу, он ощутил укол и невольно откинул голову. Но однако же… так дело не пойдет. Он заставил себя опустить подбородок на грудь, левой рукой крепко взял себя за нижнюю губу с правой стороны, крепко сжал иглу правой рукой. Провел острием по мягкой плоти, а потом резким движением проткнул губу снизу вверх… Боль была ужасная, он весь покрылся потом. Во рту стало влажно от крови. Был бы сейчас рядом надежный товарищ – сделал бы все как надо. А так… Собрав волю в кулак, Сергей примерился к верхней губе. Крепко зажмурился и стал медленно вводить иглу в трепещущую плоть. Снова было нестерпимо больно. Сергей дивился неподатливости губы, она словно бы сопротивлялась грубому вторжению, не хотела пропускать через себя холодный металл; иглу приходилось сжимать изо всех сил, чтобы она не выскользнула из влажных пальцев.
Второй стежок дался ему чуть легче, он действовал уже увереннее, и боль немного притупилась. Сергей перестал чувствовать холод, и весь окружающий мир перестал существовать для него. Он видел лишь иголку, тускло проблескивающую среди бесконечной тьмы, а еще он чувствовал свои губы, они казались ему большими, разбухшими, тяжелыми. А больше у него ничего не было – ни тела, ни головы. Даже рук он уже не ощущал, игла словно бы сама плыла к нему по воздуху и вонзалась то снизу, то сверху, а потом тянула, тянула за собой нить, обжигая кровоточащую рану, взрезывая беззащитную плоть…
Сергей потерял счет времени, и когда все уже было закончено, долго сидел неподвижно, словно не веря себе. Однако стало уже светать. Надо было убрать следы преступления. Он сдернул с иглы остатки окровавленной нитки и бросил в стоявшую тут же парашу. Иглу засунул обратно в катушку с нитками, саму катушку положил в дальний темный угол, чтоб не было видно. Потом осторожно провел пальцем по губам. Губы были плотно сомкнуты, кровь уже подсыхала и взялась корочкой. Шесть крепких швов наложил он себе в эту ночь. Каждый шов двойной нити был крепко стянут на губах морским узлом. Если он теперь резко раскроет рот, то неминуемо порвет себе губы – это Сергей знал твердо. Но рот он теперь не раскроет ни за что на свете. Если хотят, пусть стреляют прямо так – с зашитым ртом! – Подумав так, Сергей неожиданно для себя успокоился. Да и чего теперь переживать? Он сделал свой выбор. А дальше будь что будет!
Осторожно лег на топчан. До подъема было еще часа полтора. Закрыл глаза, и в голове сразу зашумело, закачало на длинной волне, понесло куда-то вдаль. Через минуту он был уже далеко: шел под парусами в бурное море, берег отдалялся, а впереди были страшные волны. Но он не боялся! Лодка шла наперерез волнам, против сопротивляющегося ветра; раздувшийся парус отчаянно трепетал, морская пучина то разверзалась до самой глубины, то возносила лодку к мрачным небесам; ослепительные молнии раскалывали небо на две неравные части – Сергею все было нипочем! Он что-то кричал бушующим волнам, рвущему парус ветру, молниям, грозившим ему погибелью. Он ничего не боялся и смело шел вперед. Так мужество перебарывает смерть и одолевает Судьбу.
Непреклонность
Утром, когда раздатчик, открыв кормушку, поставил на нее миску и глянул на Сергея, тот показал рукой на свой рот и отмахнулся от миски, делая знак убрать ее.
Кормушка тут же захлопнулась. А через несколько минут дверь распахнулась, и в камеру вошел начальник изолятора Фролов.
Увидев, что рот у Сергея зашит, Фролов вдруг вскипел:
– Что ты творишь-то, а? Ну, погоди у меня!
Он выскочил из камеры, железная дверь громыхнула, лязгнули ключи. Тяжело бухая сапогами, начальник изолятора торопливо пошел к выходу.
Дело закрутилось.
Сергей присел на топчан, но долго отдыхать ему не пришлось: коридор вдруг наполнился топотом множества сапог. Опять забрякали ключи, заскрежетал замок, дверь распахнулась.
В камеру вошел начальник лагеря майор Федько – бывший вояка, фронтовик, отправленный на Колыму за пьяный дебош в ресторане. По натуре он был человек незлой, близко видел смерть на фронте, а попав на Колыму, все никак не мог привыкнуть к лагерным порядкам и к бессмысленной жестокости надзорсостава. В лагере сидели и бывшие фронтовики, такие же, как он, вояки, которым повезло чуть меньше, чем ему. А могло случиться, что кто-нибудь из них оказался бы на его месте, а Федько – в бараке и носил бы четырехзначный номер на шапке и на штанах. Жизнь – она по-всякому может повернуться. Это он понял еще на фронте.
Начальника сопровождали начальник КВЧ Качатурян и дежурный офицер Белов. Само собой, здесь же были начальник изолятора и дежурный надзиратель. Кто-то ещё топтался в коридоре – этих Сергей уже не мог разглядеть. Но, кажется, зря они все сюда пришли. Федько сориентировался быстро. Кинув два беглых взгляда на Сергея и на зарешеченное оконце, он распорядился:
– Ведите его ко мне в кабинет! – И первым вышел из камеры. За ним с неохотой потянулись остальные.
Подождав, когда все уберутся, начальник изолятора и надзиратель подступили к Сергею.
– Ну, заварил ты кашу! – проговорил начальник не то с угрозой, не то с восхищением. Обернулся к надзирателю и скомандовал, не очень ловко подражая майору Федько: – Давай, Калиниченко, веди его к начальнику лагеря, пусть он сам с ним разбирается. – И махнул рукой, словно обрубая концы.
Сергей почти год просидел в этом лагере, но в кабинет начальника попал впервые. Тот, в свою очередь, тоже ни разу не видел этого заключенного, который сразу вызвал в нем безотчетную симпатию. Нюхом бывалого человека он распознал в нем крепкую натуру. Еще он подумал, глядя на Сергея, что с таким парнем не задумываясь пошел бы в разведку, и Сергей не подвел бы, вытащил бы его, раненого, из вражеского тыла, если бы случилась такая беда. Он и сам не понимал, почему у него возникла такая уверенность. Но тем интереснее было дело. Он решил досконально разобраться в случившемся, а заодно понять, что тут у него под носом творится и что из себя представляют все эти люди – надзиратели, оперуполномоченные, конвойные? Почему они так ненавидят заключенных и проявляют столько рвения, пресекая малейшее неповиновение? И он все время помнил, что вся эта гвардия ни одного дня не была на фронте, не нюхала пороха, не кормила вшей в окопах, не драпала от фрицев в сорок первом и не брала Берлин четыре года спустя. А интересно, как бы они себя повели, если их кинуть в самое пекло? «Поджилки небось затряслись бы! – подумал он с удовольствием. – А вот у этого бы не затряслись!» – была вторая мысль, когда он перевел взгляд на Сергея, молча стоявшего перед ним.
– Ну что, дружок, – неожиданно для самого себя произнес Федько, – рассказывай, зачем ты себе рот зашил. Говори все как на духу. Обещаю разобраться по справедливости.
Сергей сдержанно кивнул, потом показал рукой на стол, где лежала бумага и карандаши. Про то, что начальник лагеря – мужик справедливый, – он уже знал. И все заключенные об этом знали.
Черт его знает, как об этом узнается. Каков бы ни был человек, где бы он ни находился, как бы ни скрывал свою суть, а окружающие назло ему и наперекор здравому смыслу – все про него знают и понимают, даже и такое, чего человек сам о себе не ведает. Человек проявляется в поступках, в своих делах – больших и малых. И что характерно: в малых проявляется отчетливее – честнее, если здесь уместно это слово. Вот из этой суммы мельчайших поступков и телодвижений и складывается безошибочное мнение о том или ином субъекте. Бывалого зэка обмануть невозможно. Наблюдательность – его оружие. Безошибочное чутье на людей – единственная защита от множества невзгод и опасностей, щедро рассыпанных на его таком опасном и непредсказуемом пути.
Федько вытащил из стопки несколько чистых листов и положил на стол, придвинул карандаш.
– Садись, пиши все как есть. Ничего не бойся.
Сергей шагнул к столу, сел на стул и пристроился писать.
За четыре года отсидки Сергей мало-помалу освоил грамоту и научился не только читать, но и довольно связно писать. От природы он был наблюдателен и смекалист. За считанные недели освоил профессии каменщика и печника, получил высокий пятый разряд и заслужил уважение бригадира и товарищей (это еще на материке). Грамота далась ему легко, и это никого не удивляло из тех, кто его близко знал. Если бы он смолоду учился, кто знает, каких высот смог бы достичь!
В объяснительной Сергей поведал о случившемся, а в самом конце сделал приписку, что расшивать рот не даст, пока в лагерь не приедет начальник Берлага. Еще он прибавил, что все изложенные факты могут подтвердить другие заключенные, которые видели, как его избивали надзиратели, и с чего все началось.
Когда он закончил, начальник взял листы и стал внимательно читать. Едва он закончил чтение, как в кабинет явился оперуполномоченный. Он был все так же подтянут и строг, но в лице его Сергей уловил признаки неуверенности. На начальника он глядел совсем не так, как на Сергея.
– Принес дело на этого кадра? – спросил начальник.
– Так точно!
– Давай.
Уполномоченный подал ему несколько скрепленных вместе листов.
Федько погрузился в чтение. Дочитав до конца, поднял взгляд на уполномоченного.
– Я не могу поверить, чтобы заключенный без причины набросился на надзирателя. Вот, прочтите, что пишет сам заключенный. Этому можно поверить больше. – И не дожидаясь ответа, добавил: – Вы эту волокиту бросьте! То же самое скажет начальник управления. Нам нужны рабочие, а не подследственные. Если уж наказывать заключенного, то за дело. Ну ты сам подумай, Гаврилов, его избивали семь человек. И все это видели. Что ж ты тут понаписал?
Лицо уполномоченного покрылось багровыми пятнами. Он произнес:
– Пусть уведут заключенного, а потом поговорим об этом.
– Хорошо.
Федько повернулся к двери.
– Фролов, уводи этого друга.
В кабинет шагнул надзиратель.
– Куда его?
– В камеру, куда ж еще!
– Есть! – козырнул надзиратель и, повернувшись к Сергею, скомандовал нарочито грубым голосом: – Быстро поднялся! Руки за спину. Следуй за мной!
Сергей поднялся. Бросил испытующий взгляд на начальника лагеря, но тот стоял с непроницаемым лицом. Оперуполномоченный, казалось, застыл на месте. Мимо него и мимо начальника – Сергей прошел к двери и шагнул через порог.
Через десять минут он снова был в своей одиночке.
А еще через два часа его отвели в санчасть. Там его уже ждали Федько и Качатурян. За столом сидела врач – Валентина Александровна Федько, жена начальника лагеря. Она сразу поднялась и предложила немедленно расшить Сергею рот.
Сергей взял бумагу со стола и написал крупными буквами:
«РАСШИВАТЬ НЕ ДАМ, ПОКА НЕ БУДЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О СНЯТИИ С МЕНЯ СЛЕДСТВИЯ, ТАК КАК СЧИТАЮ СЕБЯ НЕВИНОВНЫМ».
Тогда Качатурян вытащил из папки приготовленный заранее лист и зачитал приказ начальника лагеря:
– «Следствие по делу заключенного 1799 Де-Мартино С. П. прекратить. За допущенные нарушения дисциплины объявить Де-Мартино С. П. пять суток строгого ареста в изоляторе с выводом на работу. Установить довольствие на время ареста: хлеба 350 грамм в сутки, одна кружка воды в сутки. На третий день горячая пища – один раз в сутки».
Кончив читать, он спрятал бумагу в папку.
Федько пристально посмотрел на Сергея.
– Все ясно? Есть еще вопросы?
Сергей отрицательно помотал головой.
Начальник потер руки с довольным видом.
– Вот и славно! Валентина Александровна, можете приступать. А мы, пожалуй, пойдем. Как закончите, отправите его в изолятор. И чтоб без приключений мне! – При этих словах он строго посмотрел на конвоира.
– Я вечером приду проверю, как он у вас сидит. Поняли меня?
– Так точно!
– Все. Исполнять.
Федько и Качатурян ушли, а врачиха взяла из стеклянного шкафа хирургические ножницы с изогнутыми краями и подступила к Сергею.
– Ну что, молодой человек, начнем операцию? Ты, я вижу, не робкого десятка. Когда губы себе зашивал, небось больно было? Как же ты такую муку вытерпел? Видно, несладко тебе пришлось, раз ты на такое решился. Ну да ничего, Бог не выдаст, свинья не съест, давай-ка подними чуток голову, сейчас я аккуратненько поддену шовчик, ты даже ничего не почувствуешь, так, самую малость, словно комарик укусил…
Она что-то еще говорила, а сама в это время состригала нитки – справа и слева, и посередине; потом осторожно тянула за концы. Сергей невольно морщился.
– Ну-ну, потерпи немного. Когда иголкой себя колол, небось больнее было. И ведь не закричал ни разу. Конвойный всю ночь по коридору ходил и ничего не слышал. Эх ты, терпило!
Шумно вздохнув, она наконец отстранилась от лица, выпрямилась, продолжая смотреть на кровоточащие губы.
– Ты пока не разговаривай. Подожди до завтра. Я тебе ранки сейчас обработаю спиртом, а потом вазелинчиком слегка намажу, чтоб губы не шелушились. Ты, поди, пить хочешь? Но пока нельзя. Еще инфекцию занесешь, вода тут плохая. Вон у тебя сколько проколов на губах. И все кровоточат. Как ты себе губы-то не порвал такими ручищами!
И она со страхом посмотрела на его жилистые руки, покойно лежащие на коленях.
Сергей хотел поблагодарить ее, но не решался разжать крепко сомкнутые челюсти. Лишь кивал в такт ее словам и пытался сказать глазами то, чего не мог произнести.
Врачиха быстро заполняла медкарту. У дверей стоял надзиратель и молча наблюдал за происходящим. Сергей тем временем думал о том, как ему необыкновенно повезло! Он и не надеялся, что все так быстро разрешится. В иные минуты падал духом и ждал самого плохого: расстрела или отправки на штрафной прииск. В крайнем случае его могли оставить сидеть в изоляторе как есть – с зашитым ртом. И тогда бы он медленно умирал от истощения и упадка сил. Все заключенные знали, что никакой голодовкой лагерную администрацию не проймешь. Голодающих или расстреливали всем скопом, выждав для порядка несколько дней, или предоставляли им медленно подыхать от голода. Да, так вполне могло случиться. Но не случилось. Сергей отнес это к вмешательству высших сил, в которые он втайне верил (как и вся его семья) и которые, возможно, и в самом деле помогали ему в трудную минуту.
Охота на человека
Однако ничего еще не закончилось для Сергея. Вскоре после того, как он вернулся в барак, к нему подошел надзиратель Керимов. Приблизив лицо, сказал приглушенным голосом, неподвижно глядя в глаза:
– Серега, будь осторожен. Эти падлы решили тебя пристрелить.
Сергей недоверчиво отстранился.
– Какие падлы? Кто?
– Конвойные, которые тебя избивали. Зубенко и все остальные. Я слышал, как они говорили меж собой. Зубенко говорил, что не успокоится, пока тебя не пристрелит, что замочит тебя, чтоб неповадно было другим. Они это умеют. Пошлют тебя за дровами в запретку, потом пальнут в спину, а спишут на побег. Это у них быстро делается. Не впервой. Скольких они таким макаром отправили на тот свет – не перечесть. У них это заместо развлечения.
Сергей призадумался. Не хотелось верить, что его так вот запросто могут убить. Хотя он и слыхал про такие дела, что конвойные стреляют в зэков без всякой причины. Но чтобы так вот хладнокровно заранее спланировать убийство – это после того как они избили его до полусмерти, а потом он еще отсидел пять суток в одиночке, – это было невероятно. И все же он сразу поверил Керимову. Вспомнил перекошенное от злобы лицо Зубенко, хмурые взгляды конвойных, которые (он уже и сам заметил) следили за ним исподтишка и однажды уже пытались поставить в колонну с самого края, когда они шли из лагеря на объект. Тогда он не подчинился, потому что не любил ходить сзади, где обычно плелись доходяги. Да это и не дело конвойных – указывать кому и куда вставать. Обычно заключенные сами разбираются по пятеркам, а следят за этим бригадиры. Но даже и они редко вмешиваются. Это ведь не пионерлагерь. Заключенные и сами понимают, что и как.
Через несколько дней Сергей убедился в правоте Керимова. Конвоиры настойчиво пытались поставить его в последний ряд колонны, а уже на месте несколько раз отправляли за дровами в «запретку». Сергей всякий раз отказывался. Однажды его пытались заставить работать отдельно от других. Среди конвойных как раз был Зубенко. И Сергей решительно отказался. Тогда на него составили докладную об отказе от работы. Докладная ушла к начальнику лагеря, а Сергей решил, что пусть лучше его снова посадят в изолятор, чем пристрелят конвойные.
Он держался из последних сил. Борьба была слишком неравной. С одной стороны – лишенный всяких прав человек, брошенный на край земли, в насквозь промороженные пространства, а с другой – толпа вооруженных людей, наделенных правом убивать всякого, кто не подчинится их приказу.
Но все это закончилось очень быстро, хотя и не так, как того хотел Зубенко.
Утром во время построения колонны Зубенко подошел к Сергею и ударил прикладом в плечо.
– Быстро встал в последнюю шеренгу! – приказал он, крепко сжимая винтовку и показывая всем видом, что может шарахнуть еще раз.
Сергей сделал было шаг, но потом одумался.
– Я туда не встану. И на работу не пойду. Веди меня в изолятор! – проговорил так, чтобы слышали окружающие.
Зубенко сплюнул с досады. Слюна, не долетев до земли, превратилась в ледышку. Мороз был за сорок.
– Ну ты у меня попляшешь! – пообещал он и, обернувшись, крикнул стоявшим у ворот конвойным: – Эй, быстро сюда! И наручники там прихватите.
Сергей вскинулся.
– Зачем наручники? Я и так пойду. Я ведь не сопротивляюсь!
– Поговори мне еще. Не захотел по-хорошему, будет тебе по-плохому.
Сергей понял, что спорить бесполезно, и замолчал.
Через минуту к нему подошли двое конвойных, один держал в руках металлические наручники, покрывшиеся густым инеем.
– Ну-ка, оборачивайся, давай сюда руки! – приказал один.
Сергей повернулся спиной, подставил руки. В ту же секунду оба запястья словно обожгло огнем. Насквозь промороженный металл крепко сжал теплую плоть, и Сергей сразу почувствовал, как стальные тиски стали постепенно пережимать кровоток. Это были автоматические наручники, при малейшем движении они сами собой усиливали зажим, обрекая человека на дополнительные мучения. Использовать такие наручники в сильный мороз было нельзя, об этом знали и надзиратели, и сами заключенные. Но протестовать было бесполезно, и Сергей промолчал. И те заключенные, кто видел это издевательство, тоже промолчали. Лишь покачали головами и отвернулись. У каждого была своя думка, своя печаль.
Сергей с тоской смотрел на уходящую в ночь колонну. Запястья резало все сильнее, а кисти рук словно бы разбухали, наполнялись чем-то тяжелым, и казалось, вот-вот лопнут, разорвутся он внутреннего напряжения. Он потихоньку шевелил кистями, но делал только хуже – наручники затягивались все сильнее, и в какой-то момент он вдруг перестал чувствовать боль. У него больше не было рук, пальцев он не чувствовал вовсе.
К нему подошел Зубенко, спросил с усмешкой:
– Что, хорошо тебе, падла? Будешь еще вылупаться?
Сергей склонил голову, крепко сжал челюсти, стараясь взять себя в руки, потом медленно проговорил:
– Веди меня в санчасть. Я рук не чувствую.
Зубенко кивнул.
– Пойдем, когда надо будет. Я все делаю по инструкции! Ты не подчинился приказу конвоя, а за это карцер и наручники. Вот и получил, что заслужил.
Зубенко тянул до последнего. Но настала такая минута, что тянуть уже было некуда. Колонна давно ушла, двойные ворота закрыты и заперты на огромную задвижку, а все конвойные ушли с мороза в тепло. Стоять на улице без всякой цели было бы уж слишком подозрительно, и Зубенко медленным шагом повел Сергея в больницу.
Врачиха, увидев посиневшие руки, похожие на две брюквы, переменилась в лице.
– Это что же, ты его в наручниках вел по такому морозу? – спросила она Зубенко. – И не стыдно тебе? Он же без рук может остаться!
Тот лишь ухмыльнулся и ничего не ответил.
– Что ты стоишь как столб! Давай снимай с него эти железяки. Смотри, я рапорт на тебя подам за жестокое обращение!
Зубенко перестал улыбаться и быстро подошел к Сергею. Поочередно щелкнули замки, и Сергей наконец увидел свои руки. Ему на секунду стало страшно. А что, если они уже не отойдут? Отрежут обе кисти, к чертям собачьим, и будешь потом ходить с культями. Он таких видал. Операции местные лепилы делают весьма проворно, иной раз обходятся вовсе без обезболивания. Это уж как повезет – если хороший врач попался, так он поможет, все сделает, чтобы руки сохранить. А иной и специально отрежет, чтобы не возиться с перевязками да всякими примочками.
Но Валентина Александровна была не из таких. Она живо принялась за дело. Помогла Сергею снять бушлат и телогрейку, потом налила горячей воды в эмалированный таз и стала осторожно обмывать Сергею руки, сначала одну, потом другую. Лицо ее было озабочено, и Сергей, глядя на нее, все ждал, когда же она скажет заветное слово. Но она ничего не говорила. Тщательно вымыв руки с мылом, насухо вытерла их полотенцем, а потом долго рассматривала посиневшую кожу под прямым светом настольной лампы. Ничего не сказав, достала из шкапчика объемистую банку темного стекла с зеленоватой тягучей мазью и стала наносить мазь на кожу тонким слоем, осторожно втирая ее внутрь и как бы сомневаясь. Сергей по-прежнему ничего не чувствовал. Зубенко молча стоял у дверей, лицо его было непроницаемо. Сергей перевел взгляд на квадратное оконце, на котором в два пальца намерз лед; за окном было все так же черно и морозно. Казалось, что эта ночь – навеки. И всегда будут этот жуткий холод и ночь, весь мир застыл в неподвижности.
Наконец врачиха выпрямилась, продолжая смотреть на забинтованные кисти.
– Ничего, Бог даст, подвижность восстановится. Кровь уже пошла в пальцы. – И поглядев на Сергея, молвила со вздохом: – Повезло тебе. Еще бы несколько минут, и остался бы ты без пальцев!
Из угла вышел Зубенко. Скомандовал, глядя на Сергея.
– Поднимайся, пошли в изолятор!
Врачиха всплеснула руками.
– Да ты что, ошалел? Его в стационар надо класть, перевязки каждые шесть часов нужно делать.
– На перевязки его будут приводить.
– Да как же это? Ведь он минимум неделю ничего руками брать не сможет. Ты что, не видишь, что они забинтованы?
– Ничего, как-нибудь приспособится. Он на разводе приказу не подчинился, отказался идти со всеми на работу. А за это карцер, сами знаете. Раньше его к стенке бы поставили за такие дела. А теперь дали им волю, вот и наглеют.
Врачиха перевела взгляд на Сергея.
– Ничего не понимаю. Он что, правду говорит?
– Они охоту на меня открыли, – произнес Сергей. – Договорились пристрелить меня при попытке к бегству. Зубенко хотел поставить меня в самом хвосте с краю, чтоб удобнее было стрелять. Вот я и отказался. Лучше в карцере сидеть, чем отправиться на луну. – Помолчав, добавил: – Им за это дают дополнительный отпуск и премию сто рублей. Вы сами знаете. К тому же тут личные счеты.
– Тогда понятно. – Врачиха неприязненно глянула на Зубенко. – Я Федько обо всем расскажу. Будет тебе премия.
У того заходили желваки на скулах.
– Рассказывайте, если хотите. Только я все делаю по правилам. Все видели, что он отказался идти на работу. А насчет охоты – это все домыслы. Если бы хотел, я б давно его пристрелил. Возможности были. И будут еще…
Сергей надеялся, что врачиха настоит на своем и оставит его в стационаре; все заключенные прекрасно знали, что фельдшер, тем более вольнонаемный врач, имеет право освобождать заключенных от работы и класть их в больничку. Об этом мечтали все зэки всех лагерей, а те немногие, кому посчастливилось полежать несколько деньков на больничной кровати с панцирной сеткой, долго потом рассказывали об этом, как о каком-то чуде. Простое лежанье на кровати и ничегонеделанье казалось им высшим блаженством и лучшей наградой, какая только может быть на земле (не считая, конечно, внезапного освобождения из лагеря, на которое всерьез никто и не рассчитывал).
Но врачиха на этот раз уступила, позволила увести Сергея из теплого, чистого кабинета в грязный ледяной склеп. Почему это так случилось, Сергей мог лишь гадать. Но когда он очутился в одиночке и увидел лед на цементном полу, решил бороться до конца. Понял, что помощи ждать неоткуда и надеяться можно лишь на самого себя.
Вечером, когда ему принесли в камеру ужин, он сказал конвоиру, что объявляет голодовку и потребовал, чтобы к нему пришел начальник лагеря.
Надзиратель с удивлением посмотрел на него.
– Ну-ну, – произнес с угрозой. – Будет тебе начальник. Все будет. Жди!
И захлопнул кормушку.
Сергей принялся ходить по камере. От слабости кружилась голова, и кисти рук болели все сильнее. Иногда, забываясь, он ударял себя по ноге забинтованной рукой, и тогда по всей руке пробегал электрический разряд. Устав ходить, присел на каменный топчан, привалился к стене. Закрыл глаза, и его сразу словно бы понесло куда-то мутным потоком. Он все ниже клонился, пока наконец не коснулся головой каменного ложа. Через минуту он спал.
Но ему не суждено было выспаться этой ночью. Чутьем загнанного в угол зверя он вдруг почувствовал опасность. Открыл глаза в кромешной тьме и прислушался. Из коридора доносился приглушенный шум: неясный говор и топот множества ног. Ступали осторожно, говорили вполголоса. Сергей узнал голос Зубенко.
– Все будет нормально, – тихо произнес тот, – скажем, что затеял драку с этапниками, и они его избили.
Шаги приблизились к двери, на мгновенье стало тихо. Сергей рывком поднялся, пытаясь сообразить что-то, потом подскочил к параше, вдруг решив зачерпнуть дерьма и швырнуть его в глаза надзирателям, но вспомнил, что руки у него забинтованы. В эту секунду громко щелкнула задвижка, и дверь рывком распахнулась, Сергей едва успел встать в самый угол. В камеру упал сноп света. Надзиратели гурьбой ввалились внутрь, окружили пустой топчан.
– Его здесь нет! – воскликнул один.
– Я специально посадил его сюда, из этой камеры невозможно уйти. Он где-то здесь, смотрите по углам! – крикнул Зубенко.
Надзиратели – их было четверо – стали озираться и вдруг увидели Сергея.
– Вот он, гад, бейте его!
И все разом кинулись на Сергея.
На него посыпались удары, Сергей увёртывался как мог, потом крепко ухватил кого-то зубами за ухо и что есть мочи рванул на себя, с хрустом разорвав отвратительный жирный хрящ. Надзиратель дико заорал, а в следующую секунду Сергей получил такой удар по затылку, что свет померк у него в глазах, ноги подкосились, и он рухнул на пол без чувств. Его еще пинали какое-то время, а потом отступились от распростертого тела. Не так это просто – избить человека до смерти. Да и Зубенко в какой-то момент опомнился. Все-таки этот осужденный был водворен в изолятор под его личную ответственность. Пришлось бы потом объясняться – как это он допустил, что в его дежурство был до смерти избит заключенный, а он ничего не видел и не слышал. За это можно и поплатиться. Будет еще возможность поквитаться, Сергей никуда не денется из этого лагеря. Срок у него большой, получит свое сполна!
И он со спокойной совестью оставил окровавленное тело лежать на каменном полу.
Сергей очнулся уже под утро. Он лежал на ледяном полу и пытался понять, что с ним случилось. Мысли с трудом ворочались в отяжелевшей голове, думать было больно. Усилием воли, страшным напряжением всех своих сил он заставил себя – шаг за шагом – вспомнить все, что было накануне. Мелькнуло перед глазами перекошенное от злобы лицо Зубенко, захрустел на зубах окровавленный хрящ, голова дрогнула от тяжких ударов; и на него нахлынула дурнота, он снова отключился. Потом грудь его напряглась, он с шумом втянул в себя холодный воздух и открыл глаза. Да, теперь он все помнил и знал. Надзиратели избили его и оставили в камере, даже не уведомив врача. Он запросто мог умереть здесь, мог замерзнуть, истечь кровью. Но почему-то не умер. Судьба хранила его для чего-то. Но для чего? Этого он не знал. И никто этого не знает про себя. Человек брошен в этот мир неведомой силой. Что это за сила? Для чего она призвала к жизни мириады живых существ? Куда все они движутся, к чему стремятся? Почему беспрестанно борются друг с другом? И зачем им нужна эта жизнь, эта беспрестанная борьба, у которой один конец – неизбежная смерть, великое небытие, вечная ночь без всякой надежды на возрождение. Так стоит ли принимать муки? Не проще ли покончить разом со всем?
Если бы у Сергея был пистолет, он убил бы себя в эту ночь. Но не было ни пистолета, ни веревки. И не было сил подняться. Так он лежал без движения – час, и другой, и третий, пока где-то вдали не пробили подъем железной трубой о рельс, а по коридору не стали разносить завтрак.
Окно кормушки распахнулось, и надзиратель как ни в чем не бывало просунул внутрь миску баланды и горбушку черного хлеба.
Сергей даже не повернул головы.
Надзиратель помедлил несколько секунд, потом захлопнул кормушку и пошел докладывать начальству.
Прошло еще несколько часов. За стенами каменной тюрьмы занялся тяжелый колымский рассвет, через зарешеченное оконце под потолком едва просачивался тусклый отблеск. Сергей все так же лежал на полу, лишь немного приподняв голову и привалив ее к топчану. Все тело его одеревенело и медленно застывало, делалось чужим. Еще несколько часов – и он бы в самом деле умер. Где-то в глубине души он и хотел этого, но смерть все не шла. Вместо нее в камеру шумно вошла врачиха. Увидев на полу залитого кровью человека, которому она накануне с такой осторожностью бинтовала отмороженные руки, она онемела от изумления.
– Это что же, он всю ночь у вас тут лежал? – наконец спросила она стоявшего у дверей надзирателя.
Тот равнодушно пожал плечами.
– Насчёт ночи я не знаю. Я только что смену принял. Мне сказали, что это его заключенные так отделали.
Валентина Александровна удивленно осмотрела пустую камеру.
– Какие заключенные? Где?
– Он сперва в другой камере сидел, вместе с другими. Что-то там они, видать, не поделили… – Надзиратель, видимо, затруднялся с ответом. – Вы лучше спросите у начальства, я же говорю, меня тут не было ночью. Чего я мог видеть? За каждым не уследишь, мы ведь тоже люди, где-то и прикорнешь чуток…
Он что-то еще бормотал, но врачиха не слушала. Склонившись над скрюченным телом, осторожно оттирала влажным платком засохшую кровь с лица, терла виски и с тревогой заглядывала в подернутые пеленой глаза. Потом решительно выпрямилась.
– Вот что. Немедленно несите его в изолятор. У вас там носилки есть. Чтоб через пять минут его тут не было! Я сейчас пойду к Федько и все ему расскажу. Так и передай своему Зубенко. Ему это с рук не сойдет. Это ж надо так над человеком измываться!
И она торопливо пошла из камеры.
Сергей слышал ее голос, но смысл сказанного не доходил до него. Он понимал только, что кто-то чем-то недоволен, однако причина недовольства ускользала от него. Он был сам по себе, а весь остальной мир – тоже сам по себе. Сергею не было до него никакого дела, пусть он развалится на куски – ему все равно. Но и его пусть не трогают. Наконец-то он обрел покой. Ему ничего больше не надо, ничего не хочется. Только бы остаться одному, лежать в тишине и ни о чем не думать. Все его желания, вся боль, воспоминания, мечты и чувства – все это куда-то ушло, словно растворилось в каменном полу и в холодных стенах. Стены вытянули из него все тепло, а взамен отдали холод и бесчувственность. Сердце его оледенело, и ему стало так покойно, как никогда еще не было за всю его двадцатипятилетнюю жизнь.
Но покой длился недолго. Он смутно чувствовал, как чужие руки оторвали его от пола и куда-то понесли. Словно в тумане, мелькнула железная дверь, поплыл, раскачиваясь, потолок над головой, а потом его охватил жуткий холод: тысячи острых игл вонзились в его тело, он крепко зажмурился и застонал.
«Вишь ты, живой еще, падла! Возись тут с ним. Другой бы давно уж подох», – услышал он чей-то хриплый голос.
На голову ему упала какая-то тряпка, и сразу стало темно. Он попробовал поднять руку и убрать тряпку, но это у него не получилось. Руки были страшно тяжелы. Он двинул было головой, но и это оказалось невозможным. Сопротивляться не было сил. И он покорился.
Возвращение к жизни
Дальнейшее было как во сне – тяжелом нескончаемом кошмаре. Сергея перенесли в лагерный стационар – обычный одноэтажный барак, приспособленный под медицинские нужды. В бараке было почти тепло и относительно чисто, а еще очень тихо. Здесь не было надсмотрщиков, и никто не ругался и не подгонял. Санитары из заключенных молча делали свое дело, дорожа местом и стараясь изо всех сил, боясь снова попасть в бригаду забойщиков или откатчиков, где из них за три месяца сделают доходяг (все это они уже испытали на себе). Врачи и фельдшеры знали об этом страшном опыте и вполне доверяли санитарам, полагаясь на их инстинкт самосохранения. Повторять распоряжения по два раза не приходилось.
Когда Сергея занесли в больничный барак, к нему сразу подступил долговязый санитар. Врачиха уже предупредила его о новом пациенте, и он заранее подготовил таз с горячей водой, мыло с мочалкой, пижаму с кальсонами, большую простыню (вместо полотенца). Тут же, в углу, жарко пылала печь, сложенная из кирпичей, дрова весело потрескивали в топке. Справа от входной двери стоял длинный прямоугольный стол из свежеоструганных досок; на этот стол и водрузили безжизненное тело.
На шум прибежала Валентина Александровна, с беспокойством глядела, как Сергея укладывают на стол. Глухо стукнулась голова о неокрашенные доски, и она недовольно поморщилась:
– Поаккуратнее!
Санитар уже снимал с Сергея одежду, ловко орудуя большими хирургическими ножницами там, где нельзя было сделать это обычным путем. Грязная, перепачканная кровью одежда, порезанная на полосы, бросалась в тут же стоявший таз.
– Когда все закончите, отвезите его в процедурную, – распорядилась она. – И с руками, пожалуйста, поосторожнее. Вчера сама перевязку делала. Там обморожение второй степени. Да вы сами увидите! – И вздохнув, пошла в свой кабинет.
– Валентина Александровна, я все сделаю как надо, пожалуйста, не беспокойтесь, – ответил санитар. До ареста он был главным врачом областной детской больницы, а здесь, в номерном лагере, почитал за счастье сутки напролет работать простым санитаром. Опытным взглядом профессионала он сразу понял, что Сергей был сильно избит, что у него сотрясение мозга и переломы ребер и лицевой кости, сильные ушибы по всему телу. Все это на фоне сильного истощения организма и вполне отчетливого угасания жизненных сил. Пациент был без сознания, но он не умрет – если только оказать ему необходимую помощь. Помощь заключалась в бережном обращении, в чистых простынях и теплом одеяле, в мягкой постели и четырехразовом питании. Плюс согревающие уколы хлористого кальция. Антибиотики тут не понадобятся, да их и не выпишут простому зэку – это санитар тоже понимал. Еще он знал – и это знание было многократно проверено его лагерной жизнью – что первыми умирают те больные, у кого не осталось жизненных сил. А молодые и выносливые борются до последнего и часто побеждают. Лекарства тут не играли решающей роли (как это бывало в обычной гражданской жизни). Доставленных в больницу доходяг вовсе не лечили, и это поначалу возмущало бывшего главного врача, но потом он и сам убедился, что вылечить доходягу нельзя никакими таблетками или уколами. Когда организм предельно истощен и отказывается бороться с недугом – тут уже ничем не поможешь, никакая операция его не спасет. Сколько он перевидал этих несчастных, умерших через несколько дней после удаления обычного аппендицита – умерших от упадка сил и общего истощения! Таков был колымский лагерь. Таков был климат Крайнего Севера. К ним нужно было приспособиться. И тогда появлялась маленькая надежда на большое чудо – на чудо спасения жизни, которая едва теплится в безжизненном теле.
Последующие несколько суток слились для Сергея в один нескончаемый день. Его словно бы несло в мутном потоке, он то погружался в него с головой, и тогда все глохло и гасло, то выбирался из липкой жижи, и тогда видел какие-то тени, слышал приглушенные звуки и пытался выскочить из захватившего его течения; но это никак не удавалось, и его все несло и несло куда-то вдаль. Он метался по кровати, часто вскрикивал и рвал с себя бинты. Тогда к нему подходили санитар или соседи по палате. Брали за руку и мягко, но настойчиво придавливали к постели. Так продолжалось семь дней. А на восьмой день Сергей пришел в себя. Открыл глаза и впервые осмысленно посмотрел на поперечную балку над головой. Потом перевел взгляд ниже, повел глазами вбок и увидел несколько кроватей, на которых лежали люди в пижамах. Он смотрел на них целую минуту, потом попытался поднять голову и засипел, беззвучно открывая рот.
Через несколько минут в палату быстро вошла врачиха. Села на краешек кровати, наклонилась…
– Так-так, очень хорошо! – произнесла с довольным видом. – Теперь дело пойдет на поправку. Ну-ка, скажи что-нибудь. Как ты себя чувствуешь? Помнишь, как сюда попал?
Сергей во все глаза смотрел на нее, силился произнести хоть слово, но не мог. Из глотки вырывались какие-то хрипы, было такое чувство, будто в горло уперлись колом и так держат, давят изо всех сил. Он судорожно пытался сглотнуть слюну, протолкнуть в себя то, что мешало ему, но это никак не удавалось.
Врач заметила его потуги, лицо ее стало озабоченным.
– А ну-ка, открой рот! Шире! Еще, давай-давай, я так ничего не увижу!
Приблизила лицо и, крепко ухватившись пальцами за нижние и верхние зубы, осторожно раздвинула челюсти и заглянула в самое горло. Неподвижно смотрела несколько секунд, потом отпустила челюсть и стала осторожно прощупывать горло.
– Подъязычная кость цела, – проговорила, как бы про себя. – А вот тут что такое – не пойму! – И она внезапно надавила куда-то в самый центр шеи, в самый нерв. Сергей дернулся всем телом, словно пытаясь выпрыгнуть с кровати, утробно захрипел, выкатив глаза из орбит.
– Ну-ну, все уже прошло. Больше не буду трогать, – поспешила она успокоить и демонстративно убрала руки за спину. Лицо ее стало озабоченным.
– В общем так, – произнесла Валентина Александровна, глядя Сергею прямо в лицо. – Говорить ты пока не сможешь. У тебя повреждены голосовые связки в результате сильного удара. Со временем голос восстановится… Должен восстановиться. Ты пока старайся молчать. Связкам нужен покой, они сами восстановятся, когда придет время. Понял меня?
Сергей медленно кивнул.
– Вот и хорошо. Ты лучше молчи пока. Оно и для тебя спокойней. А то встреваешь во всякие переделки. То с надзирателями дерешься, то чуть руки себе не отморозил. Уж лучше здесь побудь, пока все не успокоится. Тебя и допрашивать сейчас нельзя. Как же ты будет отвечать без голоса? И рот не придется зашивать. Верно я говорю? – И она неожиданно улыбнулась и подмигнула Сергею. – Поправляйся давай! Еще поживешь. Главное, спи побольше. Тебе сил нужно набираться. Ты еще молодой, справишься.
Много лет спустя Сергей вспоминал это напутствие доброй и мудрой женщины. Тогда он впервые поверил, что все выдержит, выйдет на свободу и будет жить дальше. Он словно прошел роковой рубеж, миновал самое дно, после которого начинается медленный подъем. Из преисподней к свету и к новой жизни, в которой не будет надзирателей и колючей проволоки, не будет лагерей, все будет по справедливости, по-человечески. Такая вера была ему необходима, потому что без нее человеку нельзя жить.
С этого дня Сергей пошел на поправку. Понемногу появился аппетит, с рук сняли бинты, и он стал осторожно шевелить пальцами. Потом начал подниматься и ходить между кроватями, крепко держась за спинки. А потом и вовсе стал выходить в коридор, шаркая ногами по полу и заглядывая в палаты, в которых лежали больные – такие же, как и он, заключенные в полинялых застиранных халатах. Половина больных были ампутантами с отморожениями. Смотреть на них было жутко, верно оттого, что Сергей сам едва не остался без рук – воспоминание об этом было слишком живо: когда он думал об этом, в груди его переливался противный холодок, ему мерещились безобразные розовые культи; тогда он мотал головой, зажмурившись и крепко стиснув зубы.
Другая половина больных страдала пеллагрой, цингой, деменцией. И у всех без исключения была явно выраженная дистрофия. Да и как могло быть иначе в условиях Крайнего Севера при скудном питании и полном отсутствии витаминов? Сергей сам едва стоял на ногах. Только молодость и природный запас сил помогали ему держаться. Да еще толика везения если здесь уместно это слово. Это такое везение, когда для приговоренного к расстрелу человека не хватает последнего патрона. И его отпускают – до поры. Патроны еще найдутся. А пока живи и радуйся.
Внимание Сергея привлек один больной с туго забинтованными руками. Он выглядел как старик – согбенный и страшно худой, костлявый, с глубокими морщинами на страдальческом лице. Но с этого лица смотрели удивительно чистые глаза небесно-голубого цвета. По этому взгляду Сергей понял, что это совсем не старик и что, быть может, ему нет сорока лет. В этом не было ничего удивительного. Колыма за несколько месяцев превращала молодых здоровых людей в дряхлых стариков – Сергей это знал. Сам он был недалек от этого, и многие его товарищи состарились и умерли за один промывочный сезон. Сергей все присматривался к странному больному, пока с ужасом не обнаружил, что у того нет кистей обеих рук. Тугие бинты стягивали обрубленные культи. Тогда он и понял, отчего во взгляде этого человека было столько тоски. И он решился. Подошел к больному, когда тот прогуливался после обеда во дворе. Вытащил из кармана щепоть табаку и клочок газеты, ловко свернул цигарку и протянул больному.
– Закуривай!
Слово это он не произнес, а скорее подумал, выдохнул вместе со стылым воздухом. Получилось сипло и невразумительно, но человек все понял, потянулся к цигарке. Сергей ловко вставил ее в раскрытые губы, чиркнул самодельной зажигалкой и поднес колеблющееся пламя ко рту. Больной несколько раз жадно затянулся, беспрерывно выпуская клубы дыма сквозь судорожно сжатые зубы, потом перевел взгляд на Сергея и медленно кивнул, одновременно смыкая веки. Благодарил, стало быть. Сергей кивнул в ответ и улыбнулся грустной улыбкой, как бы говоря: да, брат, досталось нам с тобой!..
Так они стояли несколько минут под холодным весенним солнцем, а потом так же молча разошлись.
После этого они обменивались взглядами при встрече, пару раз Сергей делал для него самокрутки и помогал прикурить. Этого было достаточно для возникновения того, что в обычной жизни называют взаимным доверием, а в колымском аду правильнее назвать осторожным прощупыванием друг друга. Однажды они разговорились, и Сергей услышал страшную историю этого человека без рук. Пару месяцев назад он совершил побег с прииска «Светлый», расположенного на сотом километре Тенькинской трассы. Наступил апрель, солнце поднималось все выше, и он решился. Ушел в сопки, прихватив с собой пару килограммовых буханок и несколько соленых горбуш. Пошел по солнцу и по звездам прямо на восток – к Колымской трассе, до которой было километров семьдесят по прямой. Но что такое прямая на Колыме? Бесконечная череда невысоких сопок, по которым зачастую приходится передвигаться на четвереньках, а то и ползком. За день удавалось пройти не больше десяти километров. Хлеб кончился на третьи сутки. Рыбы хватило на неделю. Воду он топил из снега в консервной банке. А уж как он проводил ночи среди снегов и пронизывающего ветра в двадцатиградусный мороз – об этом рассказать нельзя.
Закончился его побег вот как: солдаты из лагерной охраны нашли его заснувшим и закоченевшим возле костра. Увидели неподвижное тело и решили, что он уже мертв (а может, и не были уверены, а просто им было удобнее считать его мертвым). Только они сделали то, что делали всегда в таких случаях: вытащили большой тесак и отрубили обе кисти рук, чтобы предъявить их в лагере в качестве доказательства поимки беглеца и его смерти. Отрубили, значит, обе кисти, бросили их в холщовый мешок и пошли обратно в лагерь, до которого было километров десять. Беглец почти добрался до Колымской трассы, ему не хватило одного дня, чтобы выйти на нее, а там, если б повезло, мог влезть в какую-нибудь машину и поехать хоть на юг, хоть на север…
Он очнулся уже днем и увидел свои окровавленные обрубки. Его охватил ужас, он вскочил на ноги и побежал (так ему казалось) вниз по склону. Он проваливался в глубокий снег, падая, каждый раз с трудом поднимался (опереться на руки он теперь не мог). Спустился в ущелье и шел по нему наугад, сам не зная, куда он идет и зачем. Его подгонял смертный ужас, он не мог стоять на месте или сидеть – ему было страшно, дико, невыносимо, жутко… этого нельзя выразить в словах! – и он все шел и шел, падая и поднимаясь, не чувствуя холода и боли, желая заглушить этот смертный ужас, это отчаяние. И случилось так, что он пришел в тот самый лагерь, куда принесли его отрубленные кисти! Это был лагерь «Развилочный», расположенный на двести сороковом километре Колымской трассы. Туда-то он и явился – полусумасшедший, замерзший, перемазанный кровью. Его сразу отправили в санчасть, обработали культи, а акт о смерти от переохлаждения порвали. И тут же забыли о нем – такие случаи не были чем-то из ряда вон. Инвалидов без рук и ног, а то и без обоих глаз – было полно. Никто особо не удивлялся и не печалился. Одним меньше, одним больше – невелика разница!
Рассказ этот поразил Сергея. Чтобы отрубить руки еще живому человеку – это было выше его понимания. Но он тут же вспомнил, как ему самому надели наручники в сорокаградусный мороз – и удивляться перестал. Он отдал весь запас табака этому бедолаге и отправился прямиком в кабинет к врачу.
Валентина Александровна, увидев его на пороге, радостно улыбнулась.
– А, это ты? Заходи, раз уж пришел. Молодец, хорошо выглядишь. Быстро на поправку пошел. Как твое горло? Можешь говорить?
Сергей легонько кашлянул и просипел:
– Могу, только тихо.
– Вот и славно. Раз начал говорить, значит, все будет в порядке. Связки постепенно восстановятся. Ты только береги горло. Старайся поменьше бывать на холоде.
При этих словах Сергей невольно улыбнулся.
– Скоро лето, а до зимы еще надо дожить.
– Это точно, – подтвердила врачиха и строго посмотрела на Сергея. – Ну ладно, ты чего пришел? Говори скорее, мне некогда. Отчет готовлю для Магадана, видишь, сколько бумаг!
Сергей переступил с ноги на ногу.
– Хочу проситься на выписку, надоело мне тут.
Валентина Александровна вскинула брови.
– Вот как! На выписку просишься? Очень интересно. Обычно к нам все просятся, мастырки себе разные делают, чтобы подольше остаться в больнице, а ты, выходит, сам хочешь уйти от нас?
Сергей посмотрел ей в глаза.
– Я тут узнал от ребят, что формируют новый этап куда-то на Север, на днях отправят. Вот бы мне туда попасть.
– Да ты что! – вскинулась врачиха. – Ты хоть знаешь, куда их отправляют? Их на рудник Лазо повезут. Слыхал о таком? Это же черт знает где! Туда трое суток нужно добираться, и все на север! Это за Эльгеном – километров триста с гаком. Там голые сопки и больше ничего.
Сергей опустил голову.
– Все равно я должен отсюда уехать. Вы сами знаете – Зубенко от меня не отстанет. Как выйду из больницы, что-нибудь придумает. Уж лучше пусть я буду там, чем здесь меня пристрелят. Или еще чего…
Врачиха открыла было рот, но так ничего и не сказала. Некоторое время думала, потом шумно выдохнула.
– Ладно, поезжай. Там тоже люди живут. От этих иродов избавишься. Ты прав: не будет тебе здесь житья. Я тебе помогу. С мужем поговорю, чтобы включили тебя в списки. Отправка послезавтра утром, так что будь готов. И никому не говори об этом. А то прямо на больничной койке тебя прикончат. Подговорят кого-нибудь и задушат ночью. Был тут у нас один такой убивец. Сколько душ загубил – ой-ё-ёй! У него срок был двадцать пять лет. Смертную казнь ведь отменили, вот он и душил тех, кто ему не понравится. Задушит ночью полотенцем, а утром его забирают на новое следствие. Дают ему те же двадцать пять лет. А ему горя мало. Через несколько месяцев он опять кого-нибудь прирежет и дальше так живет. Кононенко его фамилия, вспомнила. Жуткий тип. Когда его к нам в больницу привезли, он мне сразу не понравился. Настоящий зверь! Вот и попадись такому.
Сергей внимательно выслушал этот рассказ. Про такие вещи он слыхал, и не особо боялся подобной расправы. Блатные его уважали за смелость, за умение дать сдачи. И не блатных ему следовало бояться, не Кононенко и не Фиксатого, а обычных конвоиров, у которых винтовки и полная безнаказанность. Противопоставить этому ему было нечего.
Он лишь кивнул головой и произнес еле слышно:
– Спасибо. Я никому не скажу. Поеду на этот рудник. Не пропаду.
С тем и вышел.
Рудник Лазо
Утром, сразу после завтрака, к Сергею подошел долговязый санитар – тот самый, что принимал его в приемном покое несколько недель назад.
– Тебя на вахту вызывают с вещами! – И он с тревогой посмотрел на Сергея. Он уже знал, что у лагерных ворот собирают большой этап, а за воротами уже стоят два грузовика с высокими бортами. Но не ожидал, что в этот этап попадет и Сергей. Ему все это представлялось недоразумением. Он хотел сразу идти к главному врачу и сообщить об ошибке, но решил сперва переговорить с Сергеем, к которому испытывал безотчетную симпатию.
Когда Сергей молча поднялся и стал собирать вещи из тумбочки, санитар взял его за плечо.
– Слушай, ты бы не ходил. Схоронись где-нибудь до вечера, а я скажу, что не нашел тебя. Там этап собирают. Повезут на север. Тебе не нужно туда ехать. Там гиблое место. Оловянный рудник, такой же, как здесь, только намного хуже. Понимаешь?
Сергей кивнул и слабо улыбнулся.
– Я все знаю. Я сам туда хочу, – произнес чуть слышно.
– Сам хочешь? – Санитар смотрел недоверчиво. – Да ты в своем уме? Кто ж туда по своей воле поедет?
– Мне надо уехать отсюда, или меня здесь прикончат, – глядя санитару в глаза, проговорил Сергей. – Вы сами видели, как меня в изоляторе отделали. Я не хочу, чтобы это повторилось.
– Ну, тогда ладно, – с сомнением ответил санитар. Он все еще не верил, но уже понял, что Сергей точно решил ехать, и отговаривать его бесполезно. – Поезжай, раз такое дело. – Добавил со вздохом: – Я-то думал, что тебя при больнице оставят. Может, оно бы и обошлось как-нибудь.
– Не обошлось бы, – с полным убеждением ответил Сергей и выпрямился. Собирать ему было особо нечего. Кружка, миска, ложка, пятисотка хлеба, приготовленная заранее; жестяная банка для кипятка и длинный верблюжий шарф, который он выменял на две пайки у бывшего инженера. Шарф у того все равно бы отобрали в бараке, а так он получил за него вполне солидную компенсацию.
– Жаль, что ты уезжаешь, – сказал санитар. – Хороший ты парень, береги себя!
– Вы тоже себя берегите, – ответил Сергей. – Бог даст, еще свидимся!
Санитар промолчал. Сколько он перевидал людей за восемь колымских лет – ни с кем ему не довелось встретиться во второй раз. Большинство его знакомых уже лежали в мерзлой земле, а остальные были рассеяны по множеству лагерей на гигантской территории, раскинувшейся от Охотского моря на юге и до Ледовитого океана на севере, от Японского моря на востоке и до Якутии на западе. Хотя и западнее Якутска было множество гиблых лагерей, но это уже считалось материком; слишком велики были расстояния, от которых с непривычки захватывало дух.
Сергей крепко пожал костлявую руку и, кивнув на прощанье, пошел на вахту.
Там уже метался начальник оперчасти со списком в руках.
– Где Осипов? Вот гад! Опять куда-то смылся. Ну я ему устрою… – Обернувшись, увидел Сергея и закричал издали: – А ты чего тянешься? Быстро залазь в кузов, сейчас поедем.
Сергей подошел к двухосному грузовичку с длинными бортами, вдоль которых уже сидели заключенные. У всех был пришибленный вид, на головы натянуты зимние шапки, телогрейки и бушлаты завязаны на все веревочки и тесемки. Все уже знали, что едут в глубь континента, туда, где июльский снегопад никого не удивляет, а зимой морозы бывают под шестьдесят градусов. Сергей заметил у лагерных ворот Зубенко. Тот смотрел на него не отрываясь и, кажется, готов был броситься с кулаками. Никак, видно, не ожидал, что добыча уйдет у него из-под носа. Будь его воля, он бы застрелил Сергея сию секунду. Но он видел список в руках у главного опера и понимал, что если Сергей значится в этом списке, то ничего уже сделать нельзя. Он уже не принадлежал этому лагерю. Вот если бы Зубенко назначили в сопровождение этапа, тогда бы, пожалуй, он что-нибудь придумал. Он и предположить не мог, что Сергея заберут прямо из больницы. По его подсчетам, тому оставалось лечиться еще недели две – так говорил один из фельдшеров. Да и врачиха к нему благоволила – это он тоже видел. Как же она допустила?.. Ответа на эти вопросы не было, и Зубенко кусал с досады губы, злясь на целый свет и стараясь скрыть свою злобу. Получалось, что заключенный, набивший ему морду при всех, уходил из лагеря на своих двоих, и вряд ли теперь дороги их пересекутся.
Сергей видел сложную игру чувств на лице своего врага. Не сдержавшись, он ухмыльнулся и показал Зубенко крепко сжатый кулак, но так, чтобы этот жест выглядел естественным. Просто он вскинул руку, замер на мгновение, на что-то там пристально посмотрел, а потом ухватился этой рукой за высокий борт и одним махом запрыгнул в кузов. Уже оттуда снова посмотрел на остолбеневшего надзирателя и громко захохотал.
Его тут же дернули за рукав.
– Э, ты чему радуешься? Спятил, что ли?
Сергей посмотрел сверху вниз на сидящего прямо на досках круглолицего парня и, не переставая улыбаться, ответил:
– Да я тут фраеру одному сюрприз приготовил. Век будет помнить.
– Пайку, что ли, заначил?
– Вроде того. Ну-ка, друг, подвинься. Скоро поедем. А что, далеко нас повезут?
Он уже опустился на доски и втискивался между тел, стараясь плотнее прижаться к борту.
– Далеко, – невесело молвил сосед и отвернулся.
– Скорей бы уж, – пробормотал Сергей и посмотрел краем глаза туда, где стоял Зубенко. Того уже не было. Сергей натянул поглубже шапку на голову и опустил подбородок на грудь. Теперь он ничем не отличался от тридцати его собратьев, сидевших вдоль бортов и посередине кузова. Этап был готов к отправке.
– Зав-води мотор! – послышалась лающая команда.
Захлопали дверцы, зафыркал стартер, деревянный кузов дрогнул и мелко затрясся. Двигатель взревел, и все сидевшие в кузове разом покачнулись. Набирая ход, грузовик покатился по ухабистой, усеянной камнями дороге. Мелькнули уродливые лагерные ворота, за ними вторые; грузовик поехал под уклон. До Колымской трассы было километров двадцать. Потом около сотни километров до «Стрелки», а потом еще триста пятьдесят уже до самого места – мимо распадков и каменистых сопок, пересекая множество ручьев и горных речушек, вдоль берега Колымы – все на север, в пустоту безжизненных пространств.
Сергей поначалу неотрывно следил за дорогой, словно хотел ее покрепче запомнить. Всем своим естеством он ощущал спадающее напряжение; казалось, что холодный ветер выдувал из него всю тяжесть и все то недоброе, что не давало расправить плечи и свободно и вольно вздохнуть всей грудью. Лагерь давно уже пропал из вида, а он все не верил, что вырвался из него и никогда уже сюда не вернется. Долгие месяцы он жил с гнетущим ощущением смертельной опасности, каждую минуту ждал какой-нибудь подлости: или конвоир вдруг ударит прикладом, или во время шмона получит по зубам, или его выдернут среди ночи со шконки и поведут в ледяной карцер, чтобы там подох. Он так и не понял, в чем тут дело, не мог постичь такой неистовой злобы со стороны людей, которым он не сделал ничего плохого. И никто этого не понимал и даже не задумывался об этом. Все принимали происходящее как данность, как что-то такое, чего нельзя избегнуть – этакая напасть вроде стихийного бедствия, пожара или наводнения, когда некогда думать о причинах, а нужно спасаться или погибнуть. Вот и Сергей спасался. Потому что и в самом деле понять тут ничего было нельзя. И он сидел возле борта и напряженно смотрел на дорогу, которая петляла среди сопок, то стремилась к бледно-голубому небу, то скатывалась в сумрачный распадок, то стелилась по равнине среди моря бурой травы и чахлых кустиков.
Наконец ему надоели все эти однообразные пейзажи, и он уселся поудобнее, тяжко навалившись спиной на борт, а голову втянув в плечи, чтоб не задувало сбоку.
– Что, передумал прыгать? – вдруг услышал он и повернул голову. На него насмешливо смотрел круглолицый парень.
– С чего ты взял? – ответил Сергей. – Я и не собирался. Что я, дурак – прыгать посреди дороги. Конвой сразу пристрелит. Да и куда тут убежишь?
– Это точно, – легко согласился парень. – Тут сильно не побегаешь. Я вон цельный месяц был в бегах. А все одно поймали. Сперва хотели меня расстрелять, а потом передумали.
Сергей недоверчиво оглядел тщедушную фигуру парня. Росточка он был небольшого, лицо простодушное, и говорил так, что никак нельзя было заподозрить в нем сильную волю или, там, непреклонность. Не иначе врет. Что ж, дело обычное. Сергей уже с таким сталкивался, когда заключенные рассказывали про себя всякие небылицы. Частью от скуки, а главным образом – чтобы приобрести авторитет у окружающих. И что еще страннее: слушатели хотя и понимают, что все это туфта и нелепость, но все равно внимательно слушают и даже получают удовольствие от всех этих небылиц. Так радуются дети, когда слушают сказку про ковер-самолет и мечтают о несбыточном. С особым и никогда не ослабевающим интересом заключенные слушали рассказы о побегах. Тут уж кто во что горазд! Хотя опытные зэки знали, что бежать с Колымы невозможно, и все же каждый втайне лелеял мечту о чуде, о каком-то тайном знании, которое поможет ему совершить то, что еще никому не удавалось. Одна мысль о свободе заставляла учащенно биться сердце и придавала сил. Вот и Сергей, хотя не поверил парню, но не отвернулся сразу, не выказал насмешки, а решил расспросить поподробнее. Дорога длинная, ехать далеко. Отчего бы и не выслушать очередную сказку? Авось расскажет что-нибудь дельное. Россия – страна чудес. Это он давно уже понял.
– Ну, давай, рассказывай, – произнес он таким тоном, будто делал одолжение.
– Чего рассказывать?
– Про то, как ты плутал по этим горам!
Парень обиженно засопел.
– Ничего я не плутал. И вообще, это не здесь было.
– А где?
– На Верхнем Сеймчане. Мы как раз мимо него поедем. Я оттуда, слышь ты, на Северный полюс едва не уплыл! – И он бросил на Сергея испытующий взгляд, проверяя реакцию.
Сергей принял новость спокойно. Понял, что парень не то чтобы привирает, а скорее шутит.
– Ну-ну, – сдержанно молвил он. – Про Северный полюс ты это хорошо придумал. А поконкретнее?
Парень понял, что собеседник ему попался с понятием. Он словно бы задумался, отвел взгляд и вдруг спросил:
– Ты по какой статье сидишь?
– По пятьдесят восьмой. А по мне не видно?
Парень пожал плечами.
– Всякое про тебя говорят. Вон урки тебя стороной обходят. С конвоем поцапался. Бедовый ты, видать!
Сергей улыбнулся.
– Было дело. А что я, терпеть должен, когда меня по морде бьют? Не на того нарвались. – Он немного помолчал, потом спросил: – Тебя как звать? Давно сидишь?
– Да я уж восьмой год срок мотаю. Еще пару лет – и домой… если отпустят, конечно. Я слыхал, сейчас на материк никого не отпускают. Многие прямо при лагерях остаются, вольнонаемными. А кому-то новый срок накручивают. Это у них запросто. – Он вдруг замолк и посмотрел в глаза Сергею. – Меня Григорием зовут. Я тут уже все объездил. В Ягодном побывал, в Сусумане чалился, да и всю Колымскую трассу, почитай, на брюхе прополз. Лучше всего было в Сеймчане. Там большая овощеводческая ферма, может, слыхал?
– Слыхал.
– Ну и вот. Баб там полно. Они-то меня и прятали, прямо в теплице. Зароют в навоз, я и сижу там, пока идет проверка. Потеха! Они меня после вытащат, отмоют – и к себе в постель. С месяц кантовался у них, пока меня по всей трассе искали. Не жизнь, а малина! А потом выдала меня одна бабенка. Приревновала к подруге, ну и стукнула куму. А так они бы меня еще долго искали.
Сергей недоверчиво посмотрел на парня.
– Сочиняешь небось?
– Вот те крест! – вскинулся тот. – Про меня там каждая собака знает – в Сеймчане, то есть. Я ведь, когда в побег ушел, сначала прятался на острове, а потом мне это надоело, и я прямо по трассе почапал в сторону Магадана. А там посты через каждые двадцать километров. Останавливали меня, а я им плел, что в больницу иду, мол, заболел и все такое. У меня были с собой талоны на дополнительное питание за хорошую работу, с печатью и подписью начальника ОЛП Ляховецкого. Мне и верили. Тушенкой меня кормили, а однажды даже посадили на попутный транспорт, он как раз шел в мою сторону. Ну и довез меня до Нижнего Сеймчана. Шофер-то быстро смекнул что к чему. Но не выдал. Сам из бывших, спасибо ему.
– Да, удачно получилось, – произнес Сергей. – Ну а дальше что было? Что ты там про Северный полюс говорил?
Парень сразу заулыбался.
– Так это еще раньше было. Я ведь сперва на острове отсиживался. Там Колыма течет. Это река такая, слыхал небось? – И он блеснул озорно глазами.
Сергей лишь кивнул.
– Ну так вот, остров в прямой видимости, а догадки ни у кого не хватило, что я на нем могу прятаться. Днем отсиживался в кустах, а ночью переплывал обратно и таскал продукты со склада. Там на берегу лодка брошенная была, я на ней и плавал туда-сюда. Так и думал, что поплыву на этой лодке по Колыме аж до самого Ледовитого океана. Тыщи полторы километров будет! Но мне-то что? Не ногами же идти по камням. Сел в лодку и плыви себе, лодка сама тебя донесет. Я уж и продуктов запас на дорогу, снасти приготовил для рыбалки. Да только ничего не пригодилось. Однажды меня застукали, и пришлось все бросить и срочно уходить. – Он пригнул голову и погрузился в воспоминания. – Хотя все одно никуда бы я не уплыл. Мне уже потом сказали, что по всему берегу Колымы расставлены оперпосты. И ниже по течению лагерей полно. Никак не проскочишь. Да и весел у меня не было. Куда там!
– Ну все равно, попробовать стоило, – заметил Сергей. – Сам же сказал – лодка была. Вместо весла взял бы палку подлиньше – и плыви себе. Ночью плывешь, а днем затащил лодку на берег и дрыхни. Кто тебя увидит?
Парень с отсутствующим видом смотрел на него. Видно, сам теперь жалел, что не решился.
– Так я чего, я не против, – проговорил со вздохом. – У меня все уже готово было. Только решил я в последний вечер еще раз сплавать на другой берег. Там склад с продуктами, а я место знал, где пролезть можно. Ну и решил еще раз слазить. Поплыл в темноте. Ну и что? Иду себе по мостику через речку Таскан, а навстречу мне начальник лагеря «Туманный». Представляешь? Увидел меня и кричит: «Шевяков, ты, что ли? А мы уж тебя искать перестали. Ты чего тут делаешь?» А я стою – ни жив ни мертв. Думаю, сейчас как пальнет из нагана, а тело сбросит в воду. А че ему? Одно развлечение. Пристрелил беглеца, еще и орден дадут! Но он не стал стрелять, а повел меня в лагерь. Идет сзади и приговаривает: повезло тебе, сукин ты сын, что это я тебя поймал. Другой бы тебя порешил на месте, а я не хочу о тебя руки пачкать. Пускай тобой оперчасть занимается. Получишь сполна за свой побег. Так и знай!
Парень замолчал, лицо его приняло обиженное выражение.
– Как же ты ушел от него? – спросил Сергей.
– Сделал вид, что покорился. Я и в самом деле думал, что все кончено. Только в какой-то момент меня словно пронзила молния. Мы как раз вдоль берега шли, а темно, кусты густые прямо у воды. Ну я и кинулся в эти кусты. Сам от себя этого не ожидал! Продрался сквозь ветки и прыгнул в воду. Погрузился с головой и плыл, пока воздух не кончился. Начальник стрелял по воде, да что толку! В темноте ничего не увидишь, а я под водой плыл. Так и уплыл от него. Выбрался на берег ниже по течению и как был, так и пошел прямо по дороге. Думаю: будь что будет. Возьмут так возьмут.
Сергей недоверчиво глянул.
– Погоди, а погони разве не было?
Парень ухмыльнулся.
– В том-то и фокус, что начальник никому не сказал про меня. Видно, стыдно стало, что упустил. Над ним бы потом смеялись, вот и промолчал.
– А выстрелы? Сам же сказал, что всю обойму в тебя выпустил.
– Там выстрелами никого не удивишь. Он же начальник лагеря! Скажет, что померещилось в темноте – вот и начал палить.
– Тогда понятно, – согласился Сергей.
Рассказ этот вызвал у него двойственное чувство. Парень рассказывал очень убедительно, как будто все было на самом деле. Но сам рассказ казался неправдоподобным. Начальник лагеря самолично конвоирует беглеца, потом стреляет в него. Тот сбегает и после этого спокойно идет по дороге, и никто его не останавливает. Все это выглядело нелепо, но он уже знал, что такие вот нелепицы вполне могут происходить в жизни. А кроме того, они как раз ехали в те места, где, по словам парня, происходили все эти события. И если только он наврал, то это скоро выяснится. Так зачем же ему придумывать такие небылицы?
– Мы в Сеймчане будем делать остановку, сам увидишь, что там про меня всё знают, – словно прочитав его мысли, молвил парень. – Я ничего не придумал, ей-богу! Так всё и было.
Сергей отвернулся. Было или не было – это не так уж и важно. Могло быть – и точка! А раз могло, значит, считай, что было. Но его что-то не устраивало в этом рассказе, была какая-то досадная неувязка. Он склонил голову и поджал губы. Так сидел некоторое время, потом кивнул своим мыслям и шумно выдохнул.
– Зря ты не поплыл в своей лодке! – произнес, не поворачивая головы. – Ты ведь мог вернуться к ней и спокойно уплыть вниз по течению. Тем более что начальник никому не сказал про тебя – чем же ты рисковал?
Парень глянул на него с удивлением и как бы не веря, а потом вдруг кивнул.
– Я тоже об этом думал. Но в тот момент как-то все перепуталось в голове. Я все ждал погони, думал, что он всех на ноги поднимет. А так бы оно, конечно, мог и уплыть.
– А может, он тебя пожалел? – спросил Сергей, но парень глянул на него таким взглядом, что Сергей смутился от собственной наивности.
Больше он ни о чем спрашивать не стал. Уселся поудобнее, обхватил покрепче колени и прижал их к себе, опустил голову на руки и закрыл глаза. Машина все тряслась на усеянной острыми камнями дороге, мотор натужно ревел, ледяной ветер проносился поверх голов, а он в это время представлял, как плывет в лодке по ночной реке. Вокруг тишина, все замерло, лишь слышатся изредка слабые всплески. Он плывет точно посередине, во тьме его не видать с берега. На дне лодки мешки с провизией, бушлат, большая консервная банка и двухметровый шест. Время от времени он внимательно смотрит по сторонам, но все тихо. Так он плывет всю ночь и лишь перед рассветом берет шест и направляет лодку к берегу, к черным кустам. Смог бы он так проплыть полторы тысячи километров? Если за ночь проплывать полсотни километров, то за тридцать дней он бы добрался до океана. Ничего невозможного в этом нет. Вот он уже видит впереди бескрайнее море, суша здесь заканчивается, береговая линия убегает влево и вправо и исчезает вдали. Над головой бесконечное пространство, наполненное светом. Полное безлюдье. Тишина. Свобода! Господи, как это хорошо…
В эту секунду грузовик подпрыгнул на ухабе, и все тридцать сидевших в кузове заключенных одновременно подлетели и тут же опустились на жесткий настил. Сергей сдавленно вскрикнул во сне и широко открыл глаза. Бескрайнее море исчезло; вместо неоглядной дали он видел копошащихся вокруг людей в грязных бушлатах и шапках-колымках, слышал ругань, перемежаемую всхлипываниями. Не все благополучно перенесли этот толчок. Но горя мало: машина неслась вперед, поглощая километры и оставляя позади себя бескрайние пространства. Впереди были такие же сопки и такие же неоглядные дали. Чья-то злая воля влекла людей прочь от обжитых мест и устоявшегося быта – в неизвестность. Каждый, верно, думал про себя: доведется ли проехать по этой дороге обратно? Или навсегда останешься в этой жуткой дали, среди вечной мерзлоты и всеобщего равнодушия? И люди кутались в свои лохмотья, стараясь сберечь силы и не околеть на ледяном ветру.
Весь путь до места назначения занял трое суток. Сергей непроизвольно запоминал крупные лагеря с причудливыми названиями: «Тунгуска» (на 230-м километре Колымского тракта), «Филатовка» (255 км), «Мякит» (260 км), «Берентал» (280 км), «Галандино» (290 км), «Герба» (302 км), «Красная речка» (315 км) и, наконец, знаменитая «Стрелка» (335 км), возле которой Колымская трасса раздваивалась. Основная дорога уводила на северо-запад, к Якутии, а побочная ветвь резко поворачивала вправо, словно бы желая догнать реку Колыму, по берегам которой было понастроено множество лагерей, в том числе и знаменитый «Сеймчан», мимо которого им предстояло проехать. В этой стороне названия лагерей стали более поэтичными: «Радужный», «Вертинское», «Сентябрьский», «Аннушка», «Геологический», «Топографический», «Осенний», «Сенокосный», «Золотистый», «Семилетка», «Юрты»; хотя, конечно, попадались и суровые названия: «Кинжал», «Партизанка», «Среднекан», «Таежный», «Колымское», «Суксукан», «Буюнда», и еще лагеря и «командировки», а еще приземистые бараки и большие армейские палатки, разбросанные там и здесь. Сотни тысяч людей жили и работали в этом суровом краю среди бескрайних сопок, под холодным колымским солнцем (летом) и в шестидесятиградусные морозы зимой (которая наступала в октябре и длилась до конца апреля).
Дорога уводила все дальше на север, и все это чувствовали: становилось холоднее и неприютнее. Никто уже ни с кем не разговаривал, всем хотелось поскорей прибыть на место. А уж там будь что будет, лишь бы выбраться из проклятого кузова, распрямить затекшие ноги, съесть миску горячей баланды и упасть без сил на деревянные нары в бараке. Сергей тоже порядком устал. Все тело занемело, не хотелось ни говорить, ни слушать. Эти безжизненные пространства подавляли душу, заставляли чувствовать себя какой-то мошкой, случайно залетевшей в эту глушь себе на погибель. Он вспоминал родную Керчь и дивился, что на одной планете могут быть столь разные места. Там – теплое ласковое море и буйная растительность, дружелюбные люди и ощущение полета. А здесь один лишь холод, мертвящее дыхание ледяных ветров и безжизненные просторы, от которых веет безнадежностью. Зачем же их везут в эти дали, где нет ничего? Невольно подумал: их везут сюда умирать. Но прежде из них выжмут все соки, вытянут последние силы, заставят надрываться на непосильной работе. Государство получит тонны золота и олова, в магазинах крупных городов появится белый хлеб и сливочное масло, люди будут ходить в театры и читать газеты, не зная, что все это оплачено страданиями и кровью невинных людей. За взятое из земли золото в эту же землю ложатся сотни тысяч людей – со своими чаяниями и надеждами, с несбывшимися мечтами и со страшной тоской, о которой невозможно рассказать.
Под вечер третьего дня машина подъехала к лагерным воротам и, качнувшись, остановилась. Двигатель затих. Захлопали дверцы, послышался топот множества ног, хрипло залаяли собаки.
– Вых-ходи из машины! – раздалась команда.
Сергей поднял голову и увидел конвоира с винтовкой; тот смотрел на Сергея в упор.
– Ну, чего смотришь? Быстро спрыгнул на землю. Тут вам не материк!
Сергей усмехнулся и стал подниматься. И все вокруг тоже зашевелились и полезли через борта. Вокруг машины уже стояли конвоиры, у двоих были овчарки на поводках. Овчарки злобно лаяли и вставали на задние лапы, казалось, они вот-вот сорвутся и бросятся с оскаленными клыками на беззащитных людей. Сергей уже имел дело с овчарками и не боялся. Овчарки предсказуемы – они обычно прыгают на грудь человеку, стараясь дотянуться до шеи. Но это редко удается: человек закрывает лицо руками, и тогда собака хватает его за локоть или за кисть. Если на человеке толстый бушлат (а заключенный на Колыме почти всегда в бушлате, даже летом), то прокусить руку не удается, и собака в неистовой злобе мотает и дергает эту руку изо всей силы, и в это время нужно обязательно устоять на ногах, потому что если упадешь, то овчарка кинется тебе на грудь, схватит за лицо, за скулу – вырвет мясо прямо с костями – такое тоже бывало. Но Сергей был в себе уверен. Он спрыгнул на землю и, косо глянув на конвоира с беснующейся овчаркой, равнодушно отвернулся и пошел вдоль борта.
В ту же секунду овчарка сорвалась с поводка и бросилась сзади на него, растопырив лапы. Сергей почувствовал опасность и резко обернулся, рефлекторно нанес правой ногой сильный удар овчарке в грудь. Та лязгнула челюстями и отлетела на несколько метров, тяжело упав на землю. Тут же подбежал конвоир, заорал с перекошенным лицом:
– Ты чего, фашист, руки распускаешь? – И, оглянувшись на своего пса, приказал: – Буян, куси его! Рви его, сволочь такую!
Но овчарка лишь злобно рычала и скалила зубы, не решаясь на повторный бросок. Она почуяла в Сергее такого же зверя, только более сильного и бесстрашного. Это был инстинкт – безошибочный и властный. Переступить через него она не могла.
Сергей в это время прижимал к груди окровавленные пальцы (овчарка все же успела зацепить его клыками) и пристально смотрел в глаза собаке. Он уже знал: та больше не бросится. И он просто стоял и ждал, когда все закончится. Применять оружие конвоир не имел права, ведь Сергей не проявлял агрессии. Это конвоир не удержал собаку на поводке, с него и спрос!
Подбежал начальник караула.
– Что тут такое? – спросил, хмуро оглядывая притихших заключенных.
Конвоир замялся, потом проговорил обиженным голосом:
– Да вот, этот фраер хотел броситься на меня, а Буян не дал.
Сергей остолбенел.
– Ты чё, дурак? Зачем я буду на тебя бросаться, когда у тебя собака? Я тебя первый раз вижу, зачем мне это надо? – И, повернувшись к начальнику, твердо проговорил: – Это он ее не удержал, когда я из кузова выпрыгнул. Я пошел к воротам, а собака кинулась на меня сзади. Вон за руку меня хватила! – И он показал пальцы на правой руке, с которых капала быстро густеющая кровь.
Начальник нахмурился.
– Ладно, потом разберемся. Живо ведите его на санобработку. – И, повернувшись к конвоиру: – А ты своего кобеля держи покрепче! Еще раз такое повторится – сам у меня будешь тачку катать. Понял меня?
Конвоир опустил голову.
– Понял.
Сергей уже шел к лагерным воротам. Рука болела, но он радовался, что легко отделался. Зубастая овчарка запросто могла отхватить пальцы, хватка у нее крепкая. Повезло, что зубы скользнули по кисти. Все произошло молниеносно, он даже и не заметил этого движения. Опоздай он с ответным ударом, все бы закончилось куда хуже.
Он шел в толпе и думал над случившимся, а заключенные искоса поглядывали на него, удивляясь его удачливости: и собаке не поддался, и начкару ответил как следует. Видно, правду говорят, что смелость города берет!
Всех заключенных загнали в лагерную баню. Выдали каждому по тазу чуть теплой воды и по маленькому кусочку мыла. А все тряпье забрали на санобработку (сказать проще – «вошебойку» – изобретение местных умельцев, сделанное из двухсотлитровой бочки, в которую заталкивали одежду, а потом нагнетали пар).
Когда они уже вышли из моечной и натягивали на мокрое тело влажное белье, Сергея кто-то тронул за плечо.
– Ловко ты этого пса отоварил. Я уж думал, он тебя сожрет с потрохами! – Перед ним стоял круглолицый парень, назвавшийся Шевяковым. – Как рука, ничего он тебе не оттяпал?
– Да нет, все в порядке. Уже и кровь не идет, – ответил Сергей, мельком глянув на свою руку. Пошевелил пальцами и удовлетворенно кивнул. – Все нормально. Не успела цапнуть. Я ее в грудь саданул. Она, видать, не ожидала этого. А я сам не знаю, как это произошло. Ударил не думая. А что мне оставалось?
Парень согласно кивнул.
– Ты молодец. Слушай, а давай вместе работать! Тут все парами работают, один тачку катает, а другой насыпает. Выработка общая. Норма – десять кубов за смену. Мне уже рассказали местные. Нужно в одну бригаду попасть. Ты не смотри, что я такой невзрачный. Я выносливый, работать умею. Меня даже бригадиром ставили на сенокосе. Потом, правда, сняли, в карцер посадили. Но это уж я не виноват. Просто сено закончилось, а они всё требовали – давай да давай. А как я дам, когда нету! Вот и загремел на десять суток, чуть не загнулся там. Я ведь из-за этого карцера и ушел в побег. А так бы ни за что не решился. Просто довели меня…
Сергей неспешно одевался, слушая парня. Тот ему чем-то нравился. Не то своей простодушностью, не то какой-то чудинкой. А впрочем, с кем ни работай и как ни старайся, а всё равно тебя будут гнуть и ломать со всех сторон. И никто не поможет. Вся надежда – только на себя.
– Ладно, попробуем, – молвил он, когда кончил одеваться. – Вместе так вместе. Только смотри не влипни со мной в какую-нибудь историю. Со мной вечно разные передряги случаются. Так что не обессудь, ежели чего.
Дальше все было так, как и говорил парень. Они заняли нары по соседству и угодили в одну бригаду. Когда на следующее утро их повели в каменный карьер, парень встал рядом и так шел до места. Уже в карьере быстро схватил тачку, кинул в нее лопату и подкатил к Сергею.
– Порядок! Я взял самую хорошую лопату. И тачка вроде ничего, сильно не скрипит.
А потом была тяжкая работа, которую не всякий выдержит. Даже Сергею, несмотря на его молодость и силу, было нелегко. Шесть часов кряду он врубался лопатой в россыпь камней и закидывал ее в железную тачку, которую и порожняком было непросто катить. А тут почти центнер веса. Попробуй-ка укати ее по гнущимся доскам, а где-то и в гору! Сначала Сергей накидывал породу в тачку, а парень возил ее на промприбор, а после обеда они поменялись, и тогда Сергей почувствовал всю ее тяжесть и подивился силе парня, умевшего провезти этакую неповоротливую махину пятьдесят метров по узкой, вертлявой доске. Так они работали двенадцать часов, а потом пошли обратно в лагерь. Все жутко устали и едва волочили ноги. Норму почти никто не выполнил, и конвоиры привычно ругались, обещая в следующий раз оставить бригаду на ночь, пока не сделают норму. Шевяков брел, опустив голову. Видно, тоже не ожидал такой напасти. Не зря их пугали этим прииском. Выдержать тут хотя бы год вряд ли удастся. Это уж он понимал. Понимали это и все остальные. Пережить здесь зиму почти никто не надеялся. И убежать отсюда было нельзя. Лагерь стоял на речке Сеймчан, которая текла на юг и через двести километров впадала в Колыму; на всем ее протяжении были устроены оперативные посты, миновать которые было невозможно. Все об этом быстро узнали и окончательно сникли. Выхода не было.
Но Сергею и его напарнику повезло – через месяц их включили в бригаду строителей из тридцати человек и отправили на обогатительную фабрику, расположенную в полутора километрах от рудника. Сергей когда-то хорошо клал печи – а это очень ценилось в краю вечной мерзлоты. Шевяков сказал нарядчику, что до ареста работал токарем, и его тоже взяли на фабрику. Но токарь он был, как потом выяснилось, туфтовый, и Сергей упросил бригадира определить Шевякова к нему подсобным рабочим и учеником, пообещав сделать из него хорошего специалиста, а после перевести на самостоятельную работу. Нарядчик, подумав, согласился. Он вполне оценил навыки Сергея и не прочь был получить еще одного печника – благо работы по этой части было полно – не только в лагере, но и в вольном поселке, где в каждом доме была печь, и печь эта или отчаянно дымила, или плохо грела, или тяги у нее не было.
Теперь у Сергея был помощник, и дело пошло ходко. С утра они принимались за работу – чистили дымоход или перекладывали по-новому кирпичи. Работа была не тяжелая (в сравнении с карьером), никто не стоял над душой и не подгонял. Сергей хорошо клал несложные трехоборотные печки. Его стали приглашать в поселок, где жили вольнонаемные, и там им частенько перепадала миска щей или горбушка хлеба. Но однажды вышла неприятность. Они перебирали печь в лагерной больничке, когда в палату ворвался надзиратель.
– Вот ты где, гаденыш, я тебе покажу, как воровать!
И он накинулся на Шевякова с кулаками. Это был дюжий мужик с большими ручищами, полагавший, что может сделать с заключенным все, что захочет, и ему за это ничего не будет.
Однако на этот раз все было по-другому.
Сергей быстро подошел к нему и крепко схватил за локоть. Надзиратель вскинулся, словно не веря глазам.
– Тебе чего? Ну-ка быстро отошел!
Сергей опустил руку.
– Не надо его бить. Если он виноват, ведите его в оперчасть, там разберутся. Я все время с ним был, он ничего не мог украсть, я бы заметил. Да и зачем это? У нас и так все есть.
Все время, пока Сергей говорил, надзиратель бешено вращал глазами, будто видел что-то такое, что не укладывалось в сознании. Наконец он сообразил и резко толкнул от себя Шевякова, тот повалился на пол, ударившись головой о приступок.
– Ты что, фашист, заступаться будешь? Я тебе покажу, как пасть открывать! – И он бросился на Сергея. Но тот отпрыгнул в сторону и схватил лежавший на притолоке столярный топорик.
– Не подходи, а то секану! – крикнул он, поднимая топорик над головой. – Мне все равно тут подыхать. – И он сделал шаг навстречу, крепко сжимая рукоять.
Надзиратель застыл на месте, лицо его задергалось. Он силился что-нибудь сказать, но язык ему не повиновался, и ноги словно бы приросли к полу. Впервые в жизни он узнал, что такое настоящий страх – не то щекочущее нервы чувство, когда колеблешься и принимаешь решение в борьбе с самим собой, а самый настоящий ступор, полный паралич, когда тело действует независимо от сознания, подчиняясь инстинкту, который говорит: стой на месте! Или: упади и притворись мертвым! А чаще всего так: беги без оглядки! (Иногда, конечно, попадаются такие удальцы, у которых отсутствует инстинкт самосохранения, и страх им неведом. Но среди надзирателей и опричников такие индивиды до сих пор не замечены.)
Как бы там ни было, а надзиратель попятился от Сергея. Взгляд его был прикован к сверкающему лезвию топорика: он вдруг очень отчетливо представил, как это лезвие вонзается в его тугую башку и оттуда брызжет алая кровь, падает крупными каплями на грязный пол вместе со спутавшимися волосами. Это было отвратительное видение, и он все пятился и пятился, пока не распахнул спиной входную дверь и не вывалился в коридор. Послышался звук быстро удаляющихся шагов, какое-то ворчание, и все стихло. Инцидент таким образом был исчерпан. Хотя Сергей понимал, что его ждет очередное разбирательство, снова его будут обвинять в нападении на конвой и в буйстве. Но он нисколько не жалел о содеянном. Не заступиться за товарища он не мог – такой уж был у него характер.
Вечером, когда бригада строителей подошла к лагерю, с вахты вышел надзиратель со списком в руках и стал зачитывать номера. Все, кого он называл, торопливо проходили через распахнутые ворота, по обеим сторонам которых стояли конвоиры с винтовками. Когда очередь дошла до Сергея, надзиратель оторвал взгляд от бумаги и задумчиво посмотрел на него, словно решая, что с ним делать.
– Ты сейчас зайди на вахту, там дежурный тебе все объяснит.
Шевяков беспокойно дернулся.
– Я с ним пойду, расскажу, как все было!
Надзиратель перевел на него тяжелый взгляд.
– Шуруй в зону. Без тебя разберутся.
Сергей сделал ему успокоительный знак.
– Иди в барак, я скоро приду. За меня не переживай! – И коротко кивнул, словно утверждая сказанное.
Вся бригада пошла от лагерных ворот в зону, громко разговаривая и размахивая руками, а Сергей свернул направо к деревянному одноэтажному домику, в котором размещалась вахта.
Там его уже ждали. Дежурный поднялся навстречу, спросил строго:
– Ну что, допрыгался? В штрафной лагерь захотел?
Сергей остановился на середине помещения. На него с любопытством смотрели конвоиры, на лицах играли снисходительные улыбки. По их лицам Сергей понял, что ничего страшного ему не грозит. Если бы ему клеили очередное дело, то вызвали бы в оперчасть и там допрашивали, как это было в «Днепровском», когда он зашил себе рот. Тот случай, как видно, сыграл свою роль, и дело ему уже не клепали, а просто решили объявить готовое решение – не расстрел и не новый срок, и даже не штрафной лагерь (если бы ему присудили штрафняк, то не сказали бы об этом, а просто вызвали на этап – и дуй себе по холодку! Да и не могли так быстро управиться, такие дела не решаются за несколько часов).
– В общем, так, – произнес дежурный, – тебе присудили десять суток строгого карцера, вот постановление начальника лагеря.
Сергей бессильно опустил руки.
– За что?
– Как за что? А кто хотел зарубить надзирателя, я, что ли? Спасибо скажи, что легко отделался! И баба эта недавно приходила, сказала, что нашла свой пиджак у себя дома. А если бы не нашла, так вы бы с напарником вместе пошли под суд, отвесили бы обоим еще по десятке. Повезло вам.
– Так я и говорил, что он не виноват! Я с ним все время был, заметил бы, если что. Да и зачем ему пиджак? Где он его носить будет, на парашу, что ли, в нем ходить?
– Ты тут не умничай! – возвысил голос дежурный. – Шибко борзый, как я погляжу. Мы тебе рога-то быстро поотшибаем. Еще раз кинешься на конвой с топором, сразу пристрелим, так и знай.
– Он сам на меня полез. Я просто припугнуть его хотел, чтобы не дрался.
– Вот и получи десять суток. И моли своего итальянского бога, чтобы все так и закончилось. В тридцать восьмом тебя бы за такие штучки сразу к стенке поставили.
Сергей хотел ответить, но сдержался. Да и что толку спорить? От дежурного ничего не зависело, он просто сообщил ему о наказании, а решение было принято в другом месте и другими людьми. Изменить тут ничего было нельзя. Заключенных расстреливали за косой взгляд, за двусмысленную улыбку или вовсе без всякой причины – просто потому, что конвоирам что-то там померещилось, или начальник лагеря проснулся в плохом настроении, и ему пришла нужда сорвать на ком-нибудь злобу. Все об этом знали – и заключенные, и лагерная администрация. Знали и принимали как должное.
Прямо с вахты, не заходя в свой барак, Сергей пошел в лагерный изолятор. «Десять суток – не десять лет. Уж как-нибудь…»
Но изолятор есть изолятор, а Колыма есть Колыма. На седьмой день пребывания в ледяном каменном мешке у Сергея поднялась температура, и он не смог утром встать по подъему. Семь суток полуголодного существования, ледяной пол и голый цемент сделали свое дело. Сергей заболел, да так, как никогда еще не болел. Голова сделалась страшно тяжелой, и не было сил ни двигаться, ни думать о чем-нибудь. Как сквозь пелену видел он надзирателя, стоявшего в дверном проеме и что-то говорившего со злобной гримасой; надзиратель приблизился и толкнул его ногой в плечо. Тело колыхнулось, но боли он не ощутил и даже не почувствовал удивления, словно это происходило не с ним. Он безучастно смотрел на надзирателя, а тот шевелил губами и забавно гримасничал, так что Сергею стало смешно. Запекшиеся губы его дрогнули, он улыбнулся – страшной улыбкой обессилевшего, вконец измученного человека. Надзиратель так и застыл с открытым ртом, потом повернулся и пошел из камеры. Лязгнула железная дверь, и все стихло. Сергей блаженно закрыл глаза. Как хорошо! Нет ни желаний, ни чувств. Умереть прямо сейчас – вот была бы красота! – не подумал, а почувствовал он. Все его естество просило покоя, он жутко устал от этой проклятой жизни, от беспрестанной борьбы, от безысходности, от несправедливости, которая творилась каждый день, каждую секунду их беспросветной жизни.
После обеда Сергея увезли в больницу. Там – в относительном тепле и уюте – он быстро пошел на поправку. Его чем-то кололи, давали какие-то таблетки – все это он равнодушно принимал, почитая за счастье эту вот неподвижность, чувство покоя. Обычная железная кровать с провисшей панцирной сеткой казалась ему каким-то чудом. Застиранные измочаленные простыни и тонюсенькое одеяльце приводили в умиление. Он уже и позабыл, что можно весь день спать на простынях на отдельно стоящей кровати, когда никто не толкает тебя в бок и не трясет вагонку так, что с нее сыплются опилки. Санитары и врачи были всегда сосредоточены и молчаливы, смотрели по большей части в пол и никому не грубили, никого не ругали последними словами – это тоже было чем-то необыкновенным – что-то вроде оазиса среди выжженной солнцем пустыни. В этой-то больнице Сергею улыбнулось счастье. Улыбка была недолгой, но и этой малости хватило, чтобы поддержать его слабеющие силы и веру в себя. Так незримые сущности приходят к человеку на помощь в минуту отчаяния – когда, кажется, все уже потеряно и надежд не осталось.
В нашем случае спасительная сущность приняла облик обаятельной двадцатипятилетней женщины – вольнонаемного врача той самой больницы, в которой оказался Сергей. Как она оказалась на Колыме – не важно. Подобные случаи не были такой уж редкостью, когда врачи бросали налаженный быт и ехали на край земли, на риск и лишения – чтобы спасать жизни тем, кого общество прокляло и объявило вне закона, но кто нуждался в уходе и помощи, в заботе и слове сочувствия. Это было не только исполнением клятвы Гиппократа, но и потребностью души, исполнением той миссии, которая была заповедана Судьбой.
Надежда (так ее звали) была терапевтом в лагерной больнице, но, как и все терапевты на Колыме, вынуждена была делать несложные хирургические операции, быть стоматологом и окулистом, лором и фтизиатром, а также психиатром, анестезиологом, кардиологом, онкологом и урологом. Самых трудных больных она отправляла в центральную колымскую больницу на «Левый берег», а всех остальных спасала сама (кого еще можно было спасти). Когда она впервые увидела Сергея на больничной койке, то вдруг остановилась, будто уткнулась в стену, и, наклонив голову, стала всматриваться в заросшее щетиной лицо. Так она смотрела несколько секунд, потом опустила взгляд и молча пошла из палаты, о чем-то напряженно думая. Больные проводили ее недоуменными взглядами – она так ничего никому и не сказала.
Вернувшись в свой кабинет, она нашла карточку Сергея и быстро прочитала те скудные сведения, которые там имелись. Она была сильно взволнована, так, что взгляд ее туманился, а сердце колотилось. Там, в палате, ей вдруг почудилось, что на кровати лежит ее муж – Андрей, пропавший без вести под Сталинградом в сорок втором. Она часто видела мужа во сне, и всякий раз он представлялся ей окровавленным, умирающим, зовущим ее из последних сил. И тогда она вскакивала среди ночи и долго не могла успокоиться, ей хотелось куда-то бежать, лететь, стремиться! Казалось, что Андрей умирает в эту самую секунду и молит ее о помощи, а она все чего-то ждет и никак не может сойти с места. Это было мучительное раздвоение личности, умом она понимала, что Андрея уже нет в живых, что он погиб и лежит теперь в братской могиле где-то на Волге, но сердце все стучало, а мысли путались. Она опасалась сойти с ума, но в какой-то момент вдруг переборола себя, заставила думать о работе, о больных, нуждающихся в ее помощи, и это ее спасло от сумасшествия и гибели. И вдруг – этот заключенный! Именно таким и видела она во снах своего Андрея – измученного, со сведенным судорогой лицом, всеми брошенного и обреченного на смерть. Да, это не Андрей. Но он точно так же страдает и нуждается в помощи. Решение созрело быстро: она не смогла помочь тому, но может помочь этому!
Надежда порывисто встала и торопливо вышла из кабинета.
– Так, что тут у нас? – спросила нарочито строгим голосом, опять заходя в палату, где стояли в три ряда девять коек.
Она не сразу подошла к Сергею, а начала обход как обычно – с крайней левой койки, где лежал, укрывшись одеялом до самых глаз, заросший щетиной старик. Старику этому было сорок пять лет, и он был изможден до последней крайности. Пеллагра, цинга, деменция, дистрофия – обычный набор колымского доходяги. Этому еще повезло – он попал в больницу. Большинство же таких осталось лежать под сопками, в больших уродливых ямах, кое-как заваленных камнями и ветками стланика.
Быстро осмотрев «старика» и выписав ему «горячие» уколы, она перешла к следующей койке, где лежал членовредитель, обваривший себе руку кашей, которую он варил у себя в бараке, прямо в буржуйке, поставив жестяную банку на горящие дрова. Он хотел поправить дрова в топке, нечаянно задел раскаленный край и резко дернул рукой – банка с закипавшей кашей опрокинулась и обварила руку чуть не до локтя. Надежда не верила, что заключенный специально все это подстроил. Ожоги были слишком мучительны, да и не нужно придумывать такие сложности, чтобы навредить себе; обычно все делалось гораздо проще и надежнее – топор, кайло или упавший на ногу валун в траншее, или мокрая тряпка, намотанная на руку в пятидесятиградусный мороз, – много было проверенных способов. А этот и в самом деле нечаянно обварился, но записали его как членовредителя. А ему все равно. Попал в больницу – и радуется, что получил отдых.
Потом она осмотрела еще одного с запущенной пеллагрой (так, что кожа слезала с рук слоями), потом был сердечник, потом трое с язвой, которую уже нельзя было оперировать, потом двое с травмами – у одного вытек глаз от воткнувшейся щепки, у другого сломана нога, попавшая под груженую вагонетку. Наконец, очередь дошла до Сергея. Убрав выбившуюся из-под белой шапочки прядь со лба, Надежда склонилась над Сергеем. Больные сразу затихли, все ждали, что на этот раз скажет врач. Ей верили так, как не верили себе, и почитали ее чем-то вроде божества, спустившегося к ним с небес.
Сергей почувствовал прикосновение теплых пальцев на лбу и открыл глаза. На него смотрел ангел! У ангела были голубые глаза и нежные черты, белые волнистые волосы, словно нимб, окружали овал лица. Он сразу понял, что это добрый ангел, и он прислан, чтобы спасти его. Сергей медленно втянул в себя воздух и задержал дыхание, будто желая остановить время, чтобы ангел никуда не исчез, а вечно так смотрел на него – больше ему ничего не надо! И в эту секунду ангел заговорил:
– Как вы себя чувствуете? Вы слышите меня?
Конечно, он слышит! Такой голос нельзя не услышать. Он будет помнить его и через тысячу лет!
Он медленно кивнул и, собрав все силы, прошептал:
– Кто вы?
– Я ваш врач. Буду лечить вас. Вас сегодня утром привезли, вы были без сознания. Но теперь все будет хорошо, мы обязательно поставим вас на ноги.
И она улыбнулась так, что у Сергея захолонуло внутри. Все его естество затрепетало под этим чудесным взглядом. Если бы сейчас она приказала ему встать и идти тысячу километров без роздыха – он встал бы и пошел. Он вдруг понял, что перед ним была сама Истина – во всей своей красоте и мощи.
Надежда в это время с изумлением смотрела на Сергея. Только что перед ней был смертельно уставший человек почти без признаков жизни, но прошла минута – и с ним случилась чудесная перемена: взгляд его заблистал, лицо прояснилось, и он смотрел на нее так пристально, что она невольно отвела взгляд. Сердце ее бешено стучало. Теперь она видела, что это точно не Андрей, не муж. Но это ничего не меняло. Судьба подарила ей эту встречу, словно бы ее муж возвратился из небытия и теперь лежит на этой убогой кровати и смотрит на нее загадочным взглядом, от которого все переворачивается у нее внутри. Если бы ее Андрей вдруг пришел с того света, он бы точно так же смотрел на нее, как этот несчастный, измученный жизнью человек.
Она заставила себя подняться, сцепила дрожащие пальцы. Наклонила голову, отводя взгляд и собираясь с мыслями.
– Я вам выпишу хлористый кальций, пенициллин и прогревания. Завтра сделаем рентген легких. Все будет хорошо!
Быстро глянула на Сергея, который неотрывно смотрел на нее, и, кивнув, вышла из палаты.
Больные как завороженные взирали на захлопнувшуюся дверь, потом перевели взгляд на Сергея.
– Ну, брат, повезло тебе! – важно произнес тот, у которого была обожжена рука. – Она тебя живо на ноги поставит.
Сергей улыбнулся. Он и сам уже знал, что теперь с ним все будет хорошо. Это было не знание даже, а некая уверенность, снизошедшая ниоткуда благодать. Так в человеке совершается мгновенная перемена; внешне он все тот же, но внутри у него все разительно изменилось. Как если бы приговоренному к смерти сказали в последнюю секунду, что его помиловали. Или заплутавший путник, уже утративший всякую надежду, из последних сил ползущий в мрачном подземелье, вдруг увидел бы над собой лучистый свет звезды, обещающий освобождение и самую жизнь. Такие мгновения меняют глубинную природу человека, открывая ему сокровенную истину, – ту самую, на которой зиждется всё.
С этого дня дела Сергея пошли на поправку. Два раза в день ему делали инъекции дефицитного пенициллина (страшно дорогого на Колыме), он исправно глотал все таблетки и съедал без остатка завтрак, обед и ужин. А главное, целый день лежал на чистой постели и ничего не делал. Вокруг суетились больные, за окном светлело и темнело, по утрам сквозь сон он слышал тоскливый перезвон рельса, по которому дневальный бил отрезком трубы, объявляя побудку, – все это словно бы проходило сквозь него, не задевая ни чувств, ни мыслей. Он ощутимо чувствовал, как в него вливаются силы, возвращаются ясность и уверенность в себе – постепенно становился прежним «морячком», Полундрой. Организм боролся и побеждал недуг, а заодно и все обстоятельства нелепой и несправедливой жизни.
Надежда внимательно следила за этим стремительным возвращением к жизни. Ее изумляло то, как быстро Сергей набирается сил. Вчера еще он едва шевелил рукой, а сегодня уже поднимается с постели и пытается выйти в коридор. Еще через день, запахнувшись в халат, он стоит на крыльце и жадно вдыхает студеный воздух, глотает его, как микстуру, вздымая грудь и блаженно жмурясь. За две недели Сергей прошел путь, на который другие больные тратили месяцы. Надежда и радовалась и досадовала на такое быстрое выздоровление. День выписки неумолимо приближался. И она решилась…
Объяснение произошло у нее в кабинете. Ей не пришлось много говорить – Сергей давно уже все понял: по тому, как она на него смотрела во время обходов, как разговаривала и осторожно брала за руку, и было еще что-то такое, чего нельзя выразить ни словами, ни даже взглядом. Быть может, этот тот самый магнетизм души, о котором столько сложено легенд.
Не будем много говорить о том, что составляет главную тайну человеческих отношений. Скажем только, что сближение произошло так естественно и просто, будто они знали друг друга тысячу лет, словно они были предназначены друг другу высшей силой. Для обоих это было спасением. Надежда излечилась от страшной душевной травмы и обрела ту ровность, без которой очень трудно жить. А Сергей вновь поверил в справедливость – в то, что в мире есть не одно лишь зло, но что над всем царствует высшая гармония и что превыше всего в этой жизни – не любовь даже, а милосердие, а лучше сказать – нечто несказанное, чему еще не подобрали слов. Именно так он и принял любовь Надежды. Это был для него знак свыше, указующий перст. Быть может, ему это только казалось. А может, так оно и было на самом деле. Никто этого не знает.
Надежде удалось невозможное – она сумела оставить Сергея при больнице еще на два месяца – огромный срок для заключенного, который не планирует жизнь далее завтрашнего дня. Помог случай: один из санитаров проштрафился и был снят со спасительной должности и отправлен в каменоломню искупать свой грех. Грех заключался в том, что санитар заснул во время ночного дежурства. Случилось это уже под утро, когда все больные спали, и все затихло. Санитар не спал уже которую ночь, днем он тоже работал и не имел свободной минуты для отдыха. Заместитель начальника лагеря по режиму специально пошел проверять посты в самый глухой час. К досаде его, все были на местах, и все делалось по уставу. Всю свою злость он обрушил на незадачливого санитара, который так не вовремя прикорнул, сидя за столом дежурного, даже не опустив голову на столешницу, а привалившись боком к стене. Мордатый краснорожий майор орал так, что проснулись больные во всех палатах. Зато в очередной раз все удостоверились в рвении этого служаки, просидевшего всю войну в тылу и привыкшего орать на безответных заключенных, которых он почитал чем-то вроде скотов.
Вот на место этого санитара Надежде и удалось устроить Сергея. Временно, конечно же, пока из Магадана не пришлют санитара настоящего, с удостоверением об окончании курсов. А до тех пор кто-то же должен исполнять черную работу, которую не поручишь фельдшеру или вольнонаемному медбрату: мойку полов, перетряхивание постелей, смену белья у лежачих, вынос «утки», перетаскивание больных с места на место, топку печей и заготовку дров и проч., и проч., и проч. Работа в больнице для заключенных всегда найдется. И чем бесправнее работник, тем больше на него наваливают заданий самого разного сорта, заранее зная, что тот не посмеет отказаться. Никто и не отказывался, потому что, какая бы ни была нагрузка у санитара все это не шло ни в какое сравнение с работой в забое, со стокилограммовой тачкой и кайлом, которым приходилось махать двенадцать часов кряду – на сорокаградусном морозе или под проливным дождем, одетым в резиновые чуни или в изорванные «ЧТЗ», получая зуботычины от бригадира и десятника, а то и от своего же напарника, недовольного тем, что ты обессилел и уже не можешь поднять ненавистное кайло. Кто побывал в таком забое, тот никогда этого не забудет и сделает все мыслимое и немыслимое, чтобы больше уж не попадать ни на золотой прииск, ни на касситеритовый рудник, ни в урановые копи. И первое, и второе, и третье вело к быстрой гибели. Все это хорошо знали, но не всем удавалось этого избегнуть. Девяносто процентов всех заключенных Колымы работали именно на приисках, на добыче золота, касситерита и урановой руды. Большинство из них погибало в первый же год. Немногим счастливцам удалось выжить в этом аду. Все они впоследствии постарались забыть об этом страшном опыте, как старается забыть человек все мрачное и невыносимое – такое, чего не может ни осмыслить, ни изжить в своей душе, ни тем более простить.
Встречи Сергея и Надежды были нечасты. Это была запретная любовь, но отнюдь не греховная, ибо все прошлые и будущие грехи были искуплены немыслимым страданием. Но в лагере невозможно сокрыть свои чувства, тем более, если они написаны у тебя на лице. И нашелся человек, позавидовавший этой любви, этому возмутительному нарушению лагерного режима. Человек этот был главный врач – вольнонаемный, погнавшийся за длинным рублем и приехавший на Колыму обеспечивать себе безбедное существование. А кроме этого, хорошо понимавший, что здесь он будет бог и царь и что никто не спросит с него за врачебные ошибки, и он благодаря этому наберется такого опыта и познаний, какого ему вовек не обрести в обычной жизни. Но это было еще не все. Уже на месте, в лагерной больнице, он нашел для себя еще один источник наслаждения – практически неисчерпаемый. Это были женщины – помоложе и посимпатичнее – из числа заключенных, конечно же. Тут все было предельно просто и низменно: персональный прием больной у себя в кабинете за закрытыми дверями, простукивание пальцами обнаженной грудной клетки, прослушивание сердцебиения с помощью стетоскопа, а затем и старым дедовским способом – прижавшись ухом к груди, и так далее и все в таком духе. Бесправные женщины не смели отказаться, и все было шито-крыто (как казалось главврачу). На самом деле об этом его увлечении очень быстро узнали все, но отнеслись к этому вполне равнодушно. К тому же все лагерное начальство сверху донизу было замешано во множестве спекуляций и прямых преступлений, совершаемых так, чтобы не попасть в жернова правосудия, имевшего на Колыме весьма специфичный вид. И вот этот-то главный врач пришел в неописуемую ярость, когда узнал о том, что подчиненная ему врачиха завела «шуры-муры» с заключенным! Принимает его у себя в кабинете, а два раза даже приводила его к себе домой в вольный поселок под тем предлогом, что у нее дымит печка, а Сергей прекрасный печник и сделает необходимый ремонт.
Удар был нанесен очень умело. Надежда в очередной раз отпросила Сергея из лагеря, а поздно вечером уже договорилась с надзирателем, что Сергей останется до полуночи, потому что работа еще не завершена. Надзирателю было обещано двести грамм чистого медицинского спирта, и он ушел довольный и успокоенный, прекрасно понимая, что Сергей никуда не сбежит, потому что дураком надо быть, чтобы сбегать от такой жизни. И все бы закончилось благополучно, но уже глубокой ночью главный врач вдруг явился к заму по режиму капитану Краснянскому, заявил о побеге санитара из больницы и потребовал принятия мер. Краснянский, конечно, сообразил, в чем дело. Он прекрасно знал, что к утру «беглец» будет на месте, но нарушение было налицо, и ему ничего не оставалось, как отправить на дом к Надежде вооруженный отряд, состоявший из двух надзирателей и самого главврача, который пожелал лично присутствовать при поимке беглого санитара.
Здесь следует сказать, что главный врач в течение нескольких месяцев безуспешно добивался благосклонности Надежды, но встретил с ее стороны неожиданный отпор, которому долго не мог поверить. Дошло и до прямых угроз с его стороны. Но Надежда с полным самообладанием объяснила ему, что произойдет, если он не прекратит свои домогательства. Она без обиняков перечислила ему все его безобразия по части женского пола и, что самое неприятное, напомнила про двенадцать операций по поводу язвы желудка, от которых она его отговаривала. Но главный врач настоял на своем, и результатом этого стали двенадцать трупов – все они могли бы жить, если бы над ними не ставили эксперименты невежественные и самонадеянные люди. Надежда пригрозила ему оглаской этой врачебной ошибки, которая граничила с преступлением, и главный врач трусливо отступил, воспылав лютой злобой, затаив обиду и решив дождаться такой минуты, когда он тоже ей что-нибудь предъявит. Главврачу было уже около пятидесяти. Это был здоровый хряк ростом под метр девяносто, в старомодных очках, с высокомерной улыбкой, которая, по его мнению, подчеркивала его статус небожителя, его всемогущество в этом оазисе бесправия и попрания здравого смысла.
Когда к Надежде среди ночи явилась эта делегация, она все поняла. И все присутствующие тоже все поняли. Сергей и не думал никуда убегать. Работу он закончил в третьем часу ночи и решил дождаться утра, чтобы явиться аккурат к разводу. Он покорно вышел из дома и отправился вместе с надзирателями в лагерь. Уже на следующий день начальник лагеря включил его в список очередного этапа для отправки в штрафной лагерь «Суксукан». Начальник хотя и сочувствовал Надежде, но вполне справедливо опасался доноса со стороны главного врача. Таков уж был этот лагерный мир, где доносы и «сигналы» были возведены в ранг доблести и служебного рвения, а человеческая подлость стала чем-то обыденным и никого не удивляла.
Через несколько дней ранним утром Сергея вызвали с вещами к лагерной вахте. Он уже знал о предстоящем этапе, знал также, что изменить ничего нельзя. В этот лагерь он уже не вернется. Впереди у него было еще несколько лагерей и три года беспрерывных унижений, когда каждый день мог стать последним. Надежду он больше никогда не видел. И не узнал, что жизнь ее закончилась трагично: ее зарезала блатнячка прямо во время приема – за то, что отказалась освободить вполне здоровую уголовницу от общих работ. Расправы уголовников с врачами не были редкостью на Колыме. Это был запредельный мир – какого еще не было на свете и, будем на это надеяться, – никогда больше не будет.
А Сергею по-настоящему повезло: его освободили первого мая 1953 года. Произошло это до странности буднично! Однажды утром во время развода к нему подошел нарядчик и, сверив номер 1799 с тем, что был записан у него на бумажке, сказал без всякого выражения:
– На работу не выходи, останься в зоне. После развода зайдешь в кабинет начальника КВЧ.
Сергей подумал: «Наверное, опять посадят в изолятор. Но за что?»
В последние дни не было ничего такого, за что его могли наказать. Но он знал, что наказать могли и вовсе без всякой причины. Лагерная жизнь приучила его ждать от жизни только плохое.
Но на этот раз все было по-другому.
Когда он зашел в кабинет начальника КВЧ и встал по стойке «смирно», тот внимательно посмотрел на него и вдруг предложил Сергею сесть.
Это было необычно. Но любые предложения со стороны столь высокого начальства Сергей принимал за приказы и потому послушно сел на стул и настороженно посмотрел на начальника КВЧ.
Тот достал серую картонную папку из стола, открыл ее и, вынув лист с отпечатанным текстом, прочитал без выражения:
– Де-Мартино Серджио Паскалевич, год рождения тысяча девятьсот двадцать третий, освобождается…
Необходимое послесловие
После освобождения из Берлага Сергей провел на Колыме еще три года. Лишь весной 1956 года ему выдали паспорт, и он уехал на материк, вернулся в Крым, но не нашел там ни своего дома, ни родных. Мать его умерла в казахстанской ссылке, отец сгинул в дальних северных лагерях, а от братьев не было никаких вестей.
В августе 1956 года С. П. Де-Мартино полностью реабилитировали. Приговор военного трибунала Петропавловского гарнизона от 17 апреля 1943 года был отменен, и дело прекращено за отсутствием состава преступления.
На момент реабилитации Сергею исполнилось тридцать три года. Жизнь нужно было начинать с нуля. Он перебрался в Краснодар и поступил простым матросом в объединение «Краснодаррыбводпром». Но матросом он пробыл недолго: выдающиеся личные качества, честность и обязательность, привычка все делать на совесть и природная сметливость не остались незамеченными. Через несколько лет он был уже капитаном теплохода «Меркурий», которым командовал до самого выхода на пенсию. За свою работу, активную рационализаторскую и общественную деятельность он неоднократно поощрялся администрацией объединения, был награжден знаком «Ударник десятой пятилетки».
У него сложилась крепкая семья: любимая жена и дочь. И все было хорошо, вот только в лице его, в горестной складке у рта, в изломе бровей и, главное, во взгляде – пристальном и словно бы смотрящем внутрь себя – осталось нечто такое, что бывалые люди сразу понимали: этому человеку пришлось несладко в жизни.
Уже находясь на заслуженном отдыхе, Серджио Паскалевич Де-Мартино написал воспоминания о том, что ему пришлось пережить в те страшные годы. Эти воспоминания, переданные автором в Магаданский областной краеведческий музей, послужили основой для настоящей повести, которая написана с простой и понятной целью: чтобы люди узнали правду, какой бы она ни была.
Отец
Так случилось – с двенадцати лет Костя рос без отца. Хотя отец у него был – отличный, замечательный отец! Такой отец, которым он гордился и при случае хвастался перед одноклассниками (говорил, что папа у него настоящий герой, он работает на краю земли – там, где лютые морозы и полярная ночь; он выполняет важное правительственное задание, но об этом нельзя много болтать, потому что это военная тайна!). И все ребята завидовали Косте, молча вздыхали и отходили с задумчивым видом, пытаясь представить неведомую землю, которую сами они вряд ли когда-нибудь увидят. Не знали они другого: по ночам, закрывшись подушкой, Костя плакал от обиды и тоски, звал отца и порой вдруг вскакивал и бежал к двери – ему казалось, что отец явился среди ночи и стоит теперь на деревянном крылечке среди холода и тьмы, ждёт, когда ему откроют. А если дверь тотчас не открыть – отец уйдёт обратно в страшную ночь, унося в душе горечь обиды и невысказанную тоску.
Но на крылечке никого не было. С тёмного охолодевшего неба остро проблёскивали звёзды, сырой ветер злобно метался среди покосившихся заборов и чёрных приземистых кладовок, было до жути странно и дико, даже собаки не лаяли; всё словно бы умерло, мир казался навеки опустевшим. Костя тихонько закрывал дверь, возвращался в свою комнату и ложился в остывшую постель, укрывался с головой одеялом, стараясь унять озноб. Мать спала за перегородкой и ничего не слышала. Оно не мудрено: ложилась она за полночь, а вставала в половине седьмого. Тоже ей было несладко – Костя уж это понимал.
Отец убыл в свою командировку три года назад, в тридцать четвёртом. Уезжал не то чтобы весело, но с задором, с верой в близкое чудо и неслыханное счастье. Обещал вернуться через год с деньгами и подарками, и с чем-то таким, для чего не мог подобрать слов! И действительно, вернулся, но ненадолго. Сказал, что работы невпроворот, и через неделю снова отправился на Восток – на очень дальний и таинственный Восток, куда сначала нужно ехать поездом, а потом целую неделю плыть на ледоколе, пробивая себе путь среди ледяных глыб в мерцании призрачных огней, среди мрака и неизвестности. Так происходило несколько раз: отец вдруг приезжал среди ночи – возбуждённый, взъерошенный и какой-то чужой, неловкий – торопливо распаковывал два тяжеленных чемодана и доставал из них разные вкусности – пахнущую морем диковинную толстую рыбу красного цвета, слипшуюся оранжевую икру в стеклянных банках, огромных розово-белых крабов в промасленных бумажных пакетах, кульки и мешочки с конфетами и печеньями, каких отродясь не бывало в местных магазинах, и много чего другого. Всё это очень быстро съедалось, пустые кульки сгорали в печке, а панцири от крабов и колючие клешни выбрасывались на помойку. Радость сменялась грустью – отец снова уезжал в неизвестность.
Костя никак не мог взять в толк: зачем отец каждый раз уезжает, почему не останется дома? Ведь он видел, что отцу не хочется брать чемоданы и тащиться с ними на вокзал. Лицо его темнело и суровело, в глазах уже не было ни блеска, ни задора. А им с матерью не нужно было ни заморских конфет, ни печенья, ни диковинной рыбы. В этом ли счастье? Несколько дней хрумкать «морские камешки» и «раковые шейки», а потом целый год ждать отца и вскакивать по ночам от каждого стука? Вот и отец уже не тот – осунулся, постарел, лицо стало жёстким и угрюмым. Мать сгорбилась и потемнела, то и дело опускает взгляд и плачет по ночам. Думает, что Костя не слышит, всё считает его маленьким. А он уже немаленький. Он многое уже понимает и чувствует себя взрослым. Оно и немудрено. Поживи-ка без отца столько времени – поневоле повзрослеешь и станешь мудрым и рассудительным.
Тут ещё новость – как гром среди ясного неба: у Костика братик появился! Крошечный, страшно крикливый, отвратительный на вид и совершенно не нужный в доме, где и без него хлопот полон рот. Житья от его крику не стало вовсе. Мать только и думала о нём, а на Костю перестала обращать внимание. В доме появились гадкие, противно пахнущие пелёнки, беспрестанно грелась вода в тазу на печной плите, а нормальной еды не стало вовсе – Костя теперь питался урывками, да и аппетит у него пропал от всей этой кутерьмы, от вонючих пелёнок и от крику. И тогда он принял окончательное и бесповоротное решение: ехать к отцу на край земли! В одно прекрасное утро он объявил об этом матери. Та приняла весть со страхом. Держа на руках младенца, смотрела на Костю круглыми глазами, словно не узнавая. Усталое лицо её подёргивалось, в глазах стоял испуг.
– Что ж ты надумал-то, а? – прошелестела помертвевшими губами.
Но сын уже всё решил для себя.
– Я из дома убегу, если не отпустишь, – произнёс, опуская голову и хмуря брови, как это делал отец, когда сердился.
Мать всё смотрела на него, всё силилась что-то сказать.
– Я уж и отцу написал, – продолжал Костя, глядя в пол. – Скоро, вон, лето, каникулы. Ну? Отпусти! Чего мне тут делать? У тебя и без меня теперь забот хватает…
Мать задумалась. Отпустить сына одного в такую даль было немыслимо. Но если он потихоньку убежит – так это ещё хуже, ещё страшней. И она неуверенно кивнула.
– Ну ладно. Посмотрим… что отец напишет.
И они стали ждать.
Ответ пришёл через месяц. Зима была уже на исходе. Солнце блистало всё ярче, радостней, с крыш свисали длинные сосульки, с которых бежала вода; природа вдруг встрепенулась, распахнула глаза в радостном изумлении, вздохнула вольно и глубоко, расправила могучие плечи – и всё вокруг заискрилось, задвигалось и задышало, заиграло яркими красками! Весенний ветер принёс с юга запахи оттаявшей земли, а в душах поселилось беспокойство сродни тому, что гонит стаи перелётных птиц с одного края земли на другой и заставляет медведя вылезать из снежного плена и щурить на блистающее солнце свои полуослепшие за долгую зиму глаза. Отец писал сыну в письме, что, конечно, он примет его, будет очень рад, если Костя приедет. Но предлагал особо не спешить, а потерпеть до лета. Надо сперва закончить восьмой класс, а ещё нужно дождаться летней навигации, которая начинается в последних числах мая. Ещё он просил сына крепко подумать и посоветоваться с матерью; и если только Костя не передумает, тогда отец вышлет деньги и подробные инструкции – на какой поезд нужно сесть и как попасть на нужный пароход во Владивостоке.
С этого необыкновенного письма у Кости началась новая жизнь!
Мартовское солнце припекало всё жарче, по улицам, среди грязи и камней, бежали шумные ручьи, а небо жутко распахивалось в темнеющую глубину до самых звёзд. Костя летел на крыльях воображенья в заоблачные выси – туда, где океаны света и бескрайняя ширь, где всё легко и достижимо, где радость побед и невероятных открытий! Ещё свежи были воспоминания о героях-челюскинцах. Все пацаны мечтали стать полярными лётчиками – лететь нескончаемой ночью в ледяной пустоте над бескрайними льдами, спасать отважных полярников от неминуемой смерти, а потом возвращаться со славой домой! Но до этого было ещё далеко. Нужно было дождаться каникул, потом сесть в нужный поезд и мчаться навстречу восходящему солнцу – туда, где на краю земли живёт и борется его героический отец. Костя ждал этой минуты, считая дни и рисуя в воображении непроходимые тысячевёрстные леса, бескрайний океан с исполинскими волнами, насквозь промороженную ледяную пустыню, в которой белые медведи и шестидесятиградусные морозы, северное сияние и смертельный риск.
Мать ещё пыталась отговорить сына, но Костя был непреклонен. Всё уже было решено: он должен совершить подвиг! Время теперь такое, что без подвига – никуда. Да и как же иначе? Всё вокруг кипело и рвалось вперёд, к сияющим вершинам, к новым победам! Сталинские соколы совершали свои героические перелёты на край земли, полярники открывали никем не хоженый морской путь, а доблестные командиры Красной Армии крепили мощь первого в мире социалистического государства, готовились дать решительный отпор мировой буржуазии! Как же усидеть дома в такую минуту? Это девчонки пускай сидят по домам. А он не таков. Он ещё покажет себя, а отец будет им гордиться!
В таких настроениях пролетело два месяца. Мать постепенно свыклась с неизбежностью. Да и в самом деле: почему бы сыну не пожить какое-то время с отцом? У неё на руках маленький, всё внимание и всю свою любовь она сосредоточила на нём, не разорваться же ей, в конце концов! Надо же и на работу ходить каждый день, и за хозяйством следить: дважды в день, утром и вечером, топить углём печь, ходить по воду с вёдрами на колонку, готовить еду на печке, а потом ещё посуду вымыть в тазике да бельё постирать на руках, да полы каждый день нужно мыть едва тёплой водой, согнувшись в три погибели и заливаясь потом… Костя всё это видел и матери помогал по мере сил. От так и понял, что матери будет легче без него, меньше хлопот и нервотрёпки. Вот и отец исполнил обещание: выслал подробные инструкции – на какой поезд покупать билет, сколько суток ехать до Владивостока и как себя вести в поезде. Во Владивостоке его встретит товарищ отца, он посадит Костю на пароход до Магадана, где его будет ждать отец, он встретит сына сразу по прибытии в бухту Нагаево.
Со школой у Кости тоже не было затруднений. Когда он сказал классной руководительнице Анне Никифоровне, что едет к отцу на Крайний Север, та необычайно воодушевилась и вдруг прочитала перед всем классом целую лекцию об отважных советских геологах, совершающих подвиги среди льдов и вечной мерзлоты, а Костю поставила в пример за его героизм и стремление к мечте. Она попросила Костю вести в дороге подробный дневник, чтобы потом, когда он вернётся, рассказал о своём необычайном путешествии и о мужественных людях, которых он встретит на Крайнем Севере. Костя ей это обещал.
Новость мгновенно облетела школу, и все учителя смотрели на Костю ласково и согласились выставить ему годовые оценки к первому мая, чтобы он успел на первый пароход, идущий из Владивостока в далёкий посёлок на берегу бухты Нагаево, где строился город золотоискателей (что-то вроде канадского Доусона, воспетого Джеком Лондоном, – только ещё лучше, ещё грандиознее, героичнее!). Отец перевёл телеграфом двести рублей и, отстояв двухчасовую очередь в железнодорожную кассу, мать купила Косте билет в плацкартный вагон, на верхнюю полку. Ехать до места предстояло семь суток! Пассажирский поезд Москва – Владивосток отправлялся с Иркутского вокзала третьего мая в шесть часов вечера. Перед отправкой надо было успеть переговорить с проводником (чтобы присмотрел за сыном), сказать несколько слов соседям по вагону и дать Косте последние наставления. Так это представлялось матери. На деле всё вышло иначе: провожать Костю пришёл весь класс, и даже несколько учителей явились – не только классная руководительница, но и учитель физкультуры, и трудовик, и военрук. Прямо на перроне устроили шумный митинг, во время которого ребята читали стихи и говорили хорошие слова, а учителя глядели на Костю строго и торжественно и тоже говорили очень хорошо и проникновенно, обводя присутствующих внимательным взглядом, понижая голос и важно кивая собственным мыслям; Костя от волнения плохо понимал смысл сказанного. Но он хорошо запомнил внимательные глаза военрука, одухотворённое лицо классной руководительницы и бойкую речь учителя физкультуры Анатолия Степановича – их лица навсегда врезались ему в память.
А потом была дорога – семь долгих дней и ночей. Костя всё время лежал на верхней полке, упёршись подбородком в сцепленные руки и неотрывно глядя в окно. Его изумила и потрясла скорость, с какой двигался состав. Ещё больше он был изумлён и поражён бесконечными пространствами, всё тянущимися и тянущимися без всякой надежды на остановку. Мимо проносятся серые поля и перелески, блистают там и сям слюдяные озерца, уносятся вдаль чёрные покосившиеся избы с тянущимися вверх дымками, вдруг мелькнёт полосатый шлагбаум, за которым стоят машины и телеги с лошадьми, какие-то люди в мятых грязных одеждах с усталыми лицами, – всё летит и исчезает навсегда под железный перестук колёс и посвист ветра. Хорошо и жутко! Куда несётся поезд? Что там – за холмистой линией горизонта? Вот она медленно приблизилась, вот проплывают мимо невысокие холмы, а вдали точно такой же горизонт, такие же холмы и такое же небо – то мутное, то прозрачное, то светлое, то погружающееся во тьму.
Ночью было ещё чудней. На землю опускался непроницаемый мрак, и тогда казалось, что вагон никуда не едет; а это какое-то чудище схватило его своими мощными лапами – и ну толкать да потряхивать! Лишь изредка из чёрной мути за окном вдруг выскакивал призрачный фонарь и тут же уносился прочь, оставляя на чёрном стекле огненный след. Тогда Костя понимал, что поезд по-прежнему несётся вперёд, не сбавляя скорости, не меняя курса, стремительно пронзая ночные безлюдные пространства. Душу наполнял жуткий восторг, сам себе он казался героем, несущимся навстречу опасностям и невероятным приключениям. И он торопил минуты, мысленно ускоряя ход времени; вот сейчас железная махина оторвётся от земли и полетит по воздуху, набирая скорость и делаясь невесомой. Костя переставал ощущать своё тело, мысли обретали свободу и лёгкость, и вот он уже летит среди звёзд в кромешной тьме, внизу медленно плывёт уснувшая земля, а вокруг на миллионы миль ледяная пустота, лишь вдали вспыхивает и разливается нежное сияние – там ждёт его отец, там сказочный город первопроходцев и золотоискателей! Так сон мешался с явью, мечты переплетались с реальностью, а действительность утрачивала свою тяжесть, уступая место волшебным грёзам.
Но всё когда-нибудь заканчивается, закончилось и это необыкновенное путешествие. Десятого мая тысяча девятьсот тридцать седьмого года, ранним утром, поезд прибыл во Владивосток. Костя ловко спрыгнул с высокой чугунной ступеньки вагона на каменный перрон. В руках его был небольшой фанерный чемоданчик, с которым он каждое лето ездил в пионерский лагерь. Несколько секунд он рассматривал увешанных тюками пассажиров, торопливо идущих к подземному переходу. Навстречу им двигались точно такие же увешанные узлами люди, спешащие на поезд. Кругом царила суматоха, а до Костика никому не было дела, никто даже не глянул на него. Ему стало немного обидно, он шмыгнул носом и переложил чемоданчик в другую руку. В эту секунду кто-то тронул его за плечо. Костя повернул голову. Перед ним стоял военный – в чёрной фуражке с золотой кокардой; синий китель со стальными пуговицами, строгое лицо. Военный пристально смотрел на него, будто хотел выведать тайну. Но никакой тайны не было.
– Ты Костя Кильдишев? – спросил военный, делая ударение на первом слове.
Мальчик неуверенно кивнул, облизывая пересохшие губы.
– Очень хорошо, – улыбнулся военный. – Твой отец попросил встретить тебя. Ты как, нормально доехал? Ничего в поезде не забыл?
Костя обиженно хмыкнул.
– Не забыл. А вас как зовут?
– Николаем Ивановичем. Мы с твоим отцом воевали вместе, ещё в Гражданскую. Да ты не робей. Я тебя в обиду не дам.
– Я и не робею, – молвил Костя уже смелее. – А когда мы поедем на пароход?
– Да прямо сейчас. А чего тянуть? Время теперь, брат, такое, что некогда ворон считать. – Он кинул окрест два взгляда и снова посмотрел на Костю. – Ну что, пошли?
– Ага!
– Смотри не отставай. Ты уже большой, я тебя не буду за руку брать. Да тут недалеко. – И, повернувшись, военный быстро пошёл вдоль перрона к темному зеву подземного перехода.
Они спустились по каменным ступенькам в гулкий каменный тоннель, где было зябко и темно. Потом поднялись по длинной широкой лестнице и вдруг оказались на большой привокзальной площади. Всё здесь было незнакомо и странно. Здание вокзала напоминало старинную китайскую пагоду, земля под ногами имела странный бурый цвет и неприятно скрипела при каждом шаге, в воздухе чувствовался резкий неприятный привкус. Позже Костя узнал – так пахло море, до которого было всего несколько сот метров. Николай Иванович кинул на Костю внимательный взгляд и с задором произнёс:
– С комфортом поедем! – И помахал кому-то на площади.
Через несколько секунд к ним лихо подкатил легковой автомобиль чёрного цвета. Николай Иванович шагнул к нему, распахнул заднюю дверцу.
– Устраивайся. Как министр поедешь!
Костя сдержанно улыбнулся. Этот папин товарищ нравился ему всё больше. Тут, видать, все такие – весёлые, уверенные в себе люди, живущие на краю света. Как же это хорошо, что он не остался дома и не побоялся приехать сюда!
С такими хорошими мыслями Костя залез в салон, сел на мягкое кожаное сиденье, а чемоданчик положил к себе на колени. Николай Иванович устроился рядом. Поглядел в окно и кивнул водителю.
– Ну всё, мы готовы. Езжай прямо в порт. Посадим мальца на пароход. Знаешь, где «Кулу» стоит?
– Как не знать. Уж третьи сутки грузится, – со вздохом ответил водитель, не поворачивая головы. – Знатный пароход.
– Третьи сутки, говоришь, – задумчиво повторил Николай Иванович. – Вот и славно! Мы его к радистам поселим. Есть у меня там один знакомый. Не откажет. – Он вдруг повернулся, посмотрел в упор на Костю. – Ты только сильно там не разгуливай. На палубу без надобности не выходи. Это корабль военный, на нём строгая дисциплина, сам должен понимать. Слушайся старших, а если чего не понял – сразу спрашивай. И, главное, в трюмы не спускайся.
– Кто ж его туда пустит? – подал голос водитель. – Там охрана с винтовками, сильно не погуляешь.
Николай Иванович строго посмотрел на водителя.
– Ну ты это, сильно-то не трепись. Напугаешь мальца почём зря.
– Лучше сразу сказать, – отреагировал водитель. – Чтоб не удивлялся потом.
Николай Иванович глянул сбоку на Костю и отвернулся.
– Ничего. Не маленький. Сам всё увидит.
Остаток пути проехали молча. Костя во все глаза смотрел в окно, но там всё прыгало и тряслось. С мутного неба сеялся холодный мелкий дождичек, навевая тоску. Очертания предметов двоились, краски были стёрты, всё вдруг стало сумрачно и неинтересно.
Зато когда заехали в порт, Костя оживился. Словно бы в дымке перед ним чернел залив; береговая линия делала причудливые зигзаги, вдоль берега выстроились, как на параде, огромные корабли – с высокими мачтами и толстыми дымящими трубами. Особенно его поразил один корабль, вытянувшийся на целую версту. Хорошо был виден нос с притянутым к борту чёрным якорем, страшно высокие борта (верхняя половина светлая, а нижняя – чёрная), видна была загромождённая всяким дрязгом палуба со множеством мачт, странных прямоугольных сооружений, мятых тентов, снастей – всё это растворялось в колеблющейся серой мути. Трудно было поверить, что эта громада сможет сдвинуться с места и куда-то плыть, что не стоит на дне, глубоко погрузившись в него и увязнув навеки. Но чёрный дым шёл из трубы, на палубе суетились какие-то люди.
– Вот он, красавец, – не удержался Николай Иванович. – Уже пары развёл. Вечером уйдёт. – И, обернувшись, молвил внушительно: – Повезло, брат, тебе, с комфортом поедешь!
Костя кивнул на всякий случай. Насчёт везения он пока что сомневался. Корабль ему не понравился. Было в нём что-то неприятное, тяжёлое, пугающее.
Но автомобиль уже подъезжал к пирсу. Водитель резко дал по тормозам, и машина, качнувшись, встала.
Выбравшись наружу, Костя ощутил промозглый холод. От воды несло стылостью, как из погреба, цвет у неё был мутный, калёный, страшно было подойти к самому краю отвесной стенки, уходящей в жуткую глубину; упадёшь в эту муть и сразу же пойдёшь на дно, а там скользкие рыбы с холодными носами и морские чудища со щупальцами и клыками. Костя передёрнул плечами и отступил.
К ним приблизился красноармеец с винтовкой за плечом, стал о чём-то спрашивать Николая Ивановича. Тот живо отвечал, поминутно кивая то на Костю, то на пароход. Потом вынул из внутреннего кармана сложенную вчетверо бумажку и подал красноармейцу. Тот внимательно её рассмотрел, скосил глаза на Костю и коротко кивнул. Развернулся и быстро пошёл прочь, притягивая за ремень винтовку к правому плечу.
Николай Иванович повернулся к Косте.
– Ну вот всё и устроилось. Сейчас за тобой приедут. Погрузка уже закончилась, ещё немного – и не успели бы.
Костя зябко поёжился.
– Что, холодно? – воскликнул Николай Иванович. – Ничего, привыкнешь. Тут, брат, ещё терпимо. А вот там, где отец твой живёт – вот уж там держись! Летом-то ладно, ещё ничего, зато зимой морозы под пятьдесят, и ветер такой, что с ног сшибает. Ну да ведь ты только на лето едешь. Осенью небось назад вернёшься, к мамке?
Костя пожал плечами.
– Поглядим…
– Поглядим, – передразнил Николай Иванович. – А учиться кто за тебя будет? В школу-то кто будет ходить? – Он вдруг обернулся и закричал радостно: – Ого, вот и катер за тобой идёт!
Через минуту к причалу приблизился, раскачиваясь на волне, довольно большой катер. Высокие железные борта скрывали палубу, виднелась лишь прямоугольная рубка с флагштоком. Николай Иванович повёл Костю к трапу.
– Эй, на барже, принимайте пассажира!
Катер опасно раскачивался, поминутно ударяясь в причал.
– Давай шевели ластами! – грозно крикнули с катера.
Костя осторожно ступил на узкую лесенку с поперечинами, преодолел, балансируя, несколько метров и спрыгнул на ходившую ходуном палубу.
– Молодец! – крикнул с берега Николай Иванович. – Отцу поклон передавай от меня.
– Ладно, передам, – обещал Костя.
Катер уже отваливал. Палуба вдруг затряслась как в лихорадке, где-то далеко внизу забурлила вода – берег стал медленно отдаляться и отворачиваться. Катер закладывал длинную дугу, потом вдруг заревел и, подняв нос, понёсся прочь, разваливая мутную воду, словно плугом, и оставляя позади широкий пенный след.
На пароходе Костя устроился неплохо. Ему соорудили спальное место прямо в радиорубке. Это была крошечная кабинка, заставленная аппаратурой, стоявшей повсюду: на прямоугольном железном столике, на привинченных к стенам полках и даже на полу. К столику был вплотную придвинут массивный железный стул, на котором важно восседал радист. Позади радиста был узкий проход; там-то и соорудили Косте лежанку из трёх досок, благо места он занимал немного. С утра он обычно гулял по влажной от солёных брызг палубе, поднимался по железным ступенькам в рубку капитана, откуда подолгу смотрел на сизую гладь Японского моря, потом отправлялся на нос, где было посвободнее и можно было, усевшись на деревянный ящик, смотреть через высокий борт на колеблющийся горизонт и блистающие дали. Не пускали его лишь на корму. Там всё время происходило какое-то движение, стояли часовые с винтовками, а проходы были загромождены контейнерами и мешками. Трижды в день Костя ходил в столовую, где ему наравне со взрослыми наливали борщ в алюминиевую миску, а на второе накладывали макароны с котлетой «по-флотски». Всё было замечательно – первые три дня. А потом началась сильная качка, и Косте стало не до прогулок и не до котлет. Он пластом лежал на своём лежаке, сдерживая тошноту и пытаясь удержать равновесие. Палуба ходила ходуном, корабль то жутко ухал вниз, то вдруг выдирался из пучины вод всей громадой, чтобы повисеть несколько секунд в зыбкой пустоте и снова ухнуть в бездну. Так целый день, ночь и ещё один нескончаемый день, наполненный промозглым ветром, грохотом и жутью; палубу то и дело заливало водой, холодные брызги летели со всех сторон, вокруг ничего нельзя было разглядеть – лишь водяная мгла за бортом, рваные края низких туч да крепкий посвист ветра в снастях. Так Костя узнал, что такое шторм и что это за штука – морская болезнь.
Матросы лишь посмеивались, глядя на его позеленевшее лицо.
– Ничего, браток, это только попервости тяжело, а потом привыкнешь! – говорили, снисходительно улыбаясь.
Костя не верил таким посулам. Но к исходу вторых суток понемногу стал возвращаться аппетит, тяжесть ушла из живота куда-то вниз, словно бы растворившись в палубе под ногами, а щемящее чувство в груди сменилось странной пустотой. Он снова стал наведываться на камбуз и съедать завтраки и обеды. Только начинал теперь с компота. Но это ничего не значило. Выпив стакан мутного кисленького напитка и посидев пару минут со скучающим видом, он как бы нехотя принимался за котлету, потом собирал с тарелки расползшиеся макароны, а затем съедал борщ, казавшийся необыкновенно вкусным. Так, мало-помалу, он вернулся к нормальной жизни и снова стал гулять по палубе и мечтательно глядеть на пустынные серые воды. Они уже плыли по Охотскому морю. Стало заметно холоднее, вот и льдины появились – тёмные, угрюмые, словно сделанные из чугуна – они медленно покачивались на волнах и куда-то плыли по своим делам. Костя провожал их долгим взглядом, лишь потом догадывался, что это корабль движется вперёд, а льдины раскачиваются на месте. Некуда им плыть. Да и незачем. Никто их не ждёт.
На седьмые сутки выглянуло солнце, и всё вокруг заиграло красками, заискрилось, возрадовалось! Открылся берег во всю ширь и во всю неохватную даль – до него было несколько десятков километров, но вода скрадывала расстояние, и берег казался неправдоподобно близким, протяни руку и достанешь! Но, по правде сказать, там не было ничего интересного – голые безлесные горы мутного цвета, окинутые фиолетовой тенью ущелья, бурые валуны, обнажённая, словно бы распахнутая настежь земля, а на вершинах гор – снежные шапки и лёд. Мертвящее дыхание стылых вод глушило жизнь на этих диких берегах. Нигде не было видно ни дымка, ни намёка на жильё и никаких следов человека. Гораздо интереснее смотреть в другую сторону, где нет ничего, а только вода – много воды! Сверкающий в ярких солнечных лучах океан синел и круглился на горизонте, играл жёлтыми бликами и словно бы скрывал что-то от людей; хотелось верить, что там, за этой синевой, за огненными искрами – неведомые страны и сказочные чудеса, там волшебство и необыкновенные люди! Костя рисовал в воображении роскошные тропические острова с белокаменными дворцами и золотыми шпилями, видел огромных чудо-богатырей, тяжко выходящих из воды, видел себя на тесных улочках средневековых городов, вдыхал пряные запахи и слышал таинственную музыку, льющуюся прямо с небес! Как бы он хотел попасть в такой город, блуждать по его затейливым переходам, вдыхать чужеземные ароматы и знать, что тебе всё по силам и ты ничего не боишься! Но пароход упрямо шёл на север, словно был не в силах отдалиться от диких безжизненных берегов. Льдин становилось всё больше, а воздух холоднее, небо постепенно теряло свои краски, и солнце незаметно поблекло, умерило свой блеск. Одно только и радовало: плыть оставалось недолго. Вот-вот они войдут в Ахматонский залив, а там и до Нагаевской бухты недалеко. И Костя торопил события, пораньше укладывался спать, чтобы поскорей наступило утро; проснувшись, спешил на камбуз и ел там перловую кашу и хлеб с маслом, внимательно прислушиваясь к низкому вибрирующему звуку, исходящему из мрачных глубин корабля, где работали мощные механизмы, упрямо толкавшие исполинский корабль через упругую сопротивляющуюся воду. Ему представлялся огромный маслянистый маховик, без устали вращающийся в самом низу исполинской махины. Корабль дрожит от адского усилия, огромный винт с бешеной скоростью разгоняет ледяную воду и посылает тяжёлый корабль вперёд, к подвигам и славе. Не знал Костя лишь того, что знали все матросы, все радисты и все взрослые этого плавучего мирка: в утробе исполинского корабля был не только залитый кипящим маслом железный маховик, не одни лишь гигантские топки и чумазые матросы, но там, среди стальных перегородок, втиснутые в узкие ячейки четырёхэтажных нар, без света и почти без воздуха – томились три тысячи заключённых. Всех их везли туда же, куда и Костю – в бухту Нагаево, в суровый колымский край. Каждый из этих несчастных не раздумывая отдал бы половину своей жизни только за то, чтобы не плыть на этом страшном корабле, не чувствовать каждую секунду противную дрожь пола и перегородок, не дышать спёртым воздухом, изнывая от мучительной жажды и тесноты. Но никто не вступал с ними в переговоры, и уже ничего нельзя было исправить – это понимали и те, кто был внизу, и те, что ходили у них над головами. Всех этих несчастных людей Костя увидел уже на месте, когда пароход прибыл в порт назначения. Произошло это на одиннадцатый день плавания.
Раним утром, щурясь от резкого солнечного света, Костя выбрался на сырую палубу. Кинул окрест два рассеянных взгляда и замер. Пароход стоял у деревянного причала в ста метрах от берега. Разгрузка уже шла полным ходом. На берегу был образован коридор из красноармейцев с винтовками наперевес. По этому коридору едва передвигались измученные люди с опущенными головами. Одеты они были очень причудливо: кто-то был в длинном пальто с развевающимися фалдами, кто-то в гражданском костюме, а кто-то в гимнастёрках и галифе, были тут бородатые жители деревни в каких-то немыслимых зипунах, были служители церкви в чёрных рясах, были рабочие в спецовках, а один высокорослый гражданин с пышной шевелюрой шествовал в роскошном бархатном костюме лилового цвета. У каждого в руке чемодан или саквояж; поклажа эта сильно мешала при ходьбе. Вот мужчина в чёрном длиннополом пальто закачался на зыбких сходнях и уронил чемодан в воду. Сразу хотел прыгнуть за ним, но к нему бросился боец, ударил прикладом в плечо, заорал с перекосившимся лицом. Человек закрылся рукой, покорно опустил голову и пошёл по сходням дальше, а чемодан долго ещё раскачивался на волнах, ударяясь в железный борт и словно бы просясь обратно к хозяину.
Костя не знал, на что решиться. Бежать ли к сходням, чтобы поскорей попасть на берег, или стоять и ждать, когда вся эта толпа рассеется. Он догадывался, что к трапу его сейчас не подпустят. Да и страшно было приближаться к озлобленным солдатам с винтовками, не хотелось мешаться с толпой грязных, поникших людей. Но ему нужно было поскорее попасть на берег, ведь там его ждал отец! Костя поднял голову и ахнул – такая вокруг была красота. Пароход стоял в живописной бухте. Берег напоминал гигантскую подкову с далеко выдавшимися рукавами. Сразу за узкой песчаной полосой начинался густой лес, низкорослые деревья наперегонки взбегали по крутому склону до самого верха, образуя сплошной зелёный ковёр. Над всем этим уходило в глубину бездонное тёмно-синее небо. С правой стороны, из-за волнистой линии гор, ярко светило огненно-жёлтое солнце. Костя сразу отметил эту особенность солнца – насыщенный жёлтый цвет. И вода здесь была не синей, а свинцового оттенка. Всё здесь было резкое, чётко очерченное, с чистыми и сильными красками без полутонов. И воздух тоже был резкий, холодный, с каким-то острым привкусом. То ли от этого воздуха, то ли от качки, а может, от обилия впечатлений у Кости закружилась голова. Он схватился за холодные перила и зажмурился, стараясь унять слабость.
– А-а, вот ты где? – услышал он возглас и обернулся. Перед ним стоял радист. Он широко улыбался, выказывая мелкие белые зубы. Чёрная полоска усов растянулась от уха до уха. – Иди скорей на корму, тебя там катер ждёт! Отец твой прислал.
Костя опрометью бросился мимо радиста. Едва не сломав шею, слетел с крутой лестницы, сделал несколько зигзагов, затем снова лестницы и стальные перила… вихрем влетел в радиорубку, схватил свой чемоданчик и кинулся наружу. Ему казалось, что опоздай он хоть на секунду, и катер уйдёт, а он останется на этом жутком пароходе!
Но ничего такого не случилось: катер ждал не только его. В него торопливо садились красноармейцы с винтовками и уже заняли почти все места. Но Косте тоже нашлось местечко, он ловко втиснулся между бортом и капитанской рубкой. Томительное ожидание, медленное покачивание на волнах, холодное дыхание безбрежного северного моря – и вот он уже несётся прочь от мрачного высокого борта прямиком к берегу.
Дальнейшее происходило как во сне. Сильные, заботливые руки помогли Косте выбраться из раскачивающегося катера на деревянные мостки. А там его уже ждал отец! Он подхватил сына и крепко прижал к себе, так что в первую секунду Костя задохнулся и ничего не мог сообразить. Отец опустил его на доски и, отобрав чемоданчик, увлёк за собой на берег. Там их ждал странного вида автомобиль – пикап с квадратной деревянной будочкой, в которой были крошечные прямоугольные оконца. Это была служебная машина отца, и будку эту он соорудил собственными руками, о чём с гордостью поведал сыну. Они с отцом влезли внутрь этого чуда инженерной мысли, и машина не без труда стала подниматься по извилистой каменистой дороге, урча и переваливаясь, словно гусыня. Лишь теперь Костя рассмотрел своего отца. Это точно был он! И странное дело, тут, вдали от дома, он больше походил на себя, нежели когда приезжал домой среди ночи. Дома он всегда был неестественно возбуждён и невнимателен, словно чем-то озабочен. Теперь же он был спокоен, на крупном лице его лучилась улыбка, глаза смотрели внимательно, по-доброму. На нём были чёрные хромовые сапоги и новенький китель, из-под которого выглядывала гимнастёрка с расстёгнутым воротом. Косте понравилось, что отец одет по-военному. Было в этом что-то очень солидное и героическое. Не хватало только нагана. Но наган у отца имелся, Костя точно это знал. Только хранился он в сейфе, потому что это не игрушка, а кроме того, наган могут украсть враги советской власти (которых кругом полно, – он знал это из газет, да и отец об этом говорил).
А отец всё смотрел на сына, словно не веря, что тот всё же приехал к нему в такую даль. Но сын – вот он, сидит перед ним, а в руках у него тот самый чемодан, который он покупал ему четыре года назад в магазине «Детский мир».
– Ну как ты? – спросил весело. – Хорошо доехал? Не укачало на пароходе? Сильная качка была?
Костя чуть склонил голову, снисходительно улыбнулся.
– Да… было немного, – произнёс важно. – А так ничё, всё нормально. Только долго уж очень. Я со скуки чуть не помер.
Отец удовлетворённо кивнул.
– Это ты верно говоришь. Добраться сюда непросто. Но ты молодец, выдержал! Мне радисты по рации передавали. Хвалили тебя.
Костя потупился. Подумал несколько секунд и вдруг вскинул голову.
– А кем ты тут работаешь? Ты ведь здесь начальник?
Отец усмехнулся, согласно кивнул.
– Ну… да, начальник, есть такой факт.
– А кем ты командуешь?
– Я тебе уже говорил. Я радиосвязь обеспечиваю, работаю начальником Управления. Без связи, брат, теперь никуда! Тут до меня вообще никакой связи не было. До Москвы десять тысяч километров. Если обычным путём отправлять почту, так на это два месяца уйдёт. А мы здесь две радиостанции построили, одну в Нагаево, а другую на четырнадцатом километре. Теперь у нас с Москвой прямая связь, а это большое дело. Тут такие дела разворачиваются, будь здоров! Как же без связи? Постоянно что-то требуется. То продуктов завезти, то горючего, то специалистов разных. Вот я и обеспечиваю всё это…
Костя внимательно слушал этот рассказ. Отец в его глазах превращался в очень важную фигуру. И сам он уже не просто мальчик, а участник важной миссии! И теперь он будет помогать отцу, станет незаменимым и совершит что-нибудь такое, отчего все его товарищи ахнут, а учителя будут ставить его в пример. В жизни всегда есть место для подвига! Главное, хорошенько постараться, не упустить свой шанс!
Все эти мысли вихрем проносились в голове подростка. Но долго молчать ему показалось невежливым, и он снова спросил:
– А зачем две радиостанции? Наверное, это военная хитрость? Если одну станцию враги захватят, тогда мы отступим на вторую и будем оттуда передавать сообщения товарищу Сталину?
Отец согнал с лица улыбку, вдруг стал серьёзен, строго глянул на сына.
– Не говори ерунды! Никто ничего не захватит. Это первое! – Он выразительно поднял указательный палец. – А главное, радиостанций должно быть две по регламенту. Одна передающая, а другая – принимающая. Так полагается. – И, видя недоумение сына, похлопал по плечу: – Ничего, скоро сам всё узнаешь. Главное, никуда не лезь без спроса. Это тебе не Иркутск. Тут кругом военные, строгий порядок. И приехать сюда просто так нельзя.
Костя внимательно слушал отца, потом задумался, будто что-то припоминая.
– А эти люди, которые с нами на пароходе плыли, кто они?
– Какие люди?
– Ну которые на берег сходили, когда ты меня ждал. Их там много было, целая толпа.
Отец внимательно посмотрел на него.
– А тебе разве не сказали радисты?
Костя отрицательно помотал головой.
– Странно. Я думал, ты уже знаешь… Это заключённые. Враги народа. Тут их много. Прямо в посёлке лагерные зоны стоят. Да ты сам всё увидишь. Только будь осторожен. К заборам близко не подходи. Там охрана на вышках, могут и пальнуть!
Костя приблизил лицо к крохотному окошечку, но снаружи всё прыгало, в узкий просвет ничего нельзя было разобрать. Лишь по рёву двигателя да по наклону пола можно было понять, что машина натужно ползёт в крутую гору.
К счастью, путь оказался не очень далёким, через двадцать минут они уже въезжали во двор склада связи. Машина дёрнулась последний раз и стала, качнувшись пару раз; мотор заглох. Вдруг наступила звенящая тишина.
Отец распахнул железную дверцу.
– Выходите, милорд, мы уже на месте!
Костя выбрался из тесного салона, сделал несколько шагов по твёрдой каменистой земле и остановился, поражённый увиденным. Они находились на огороженной со всех сторон покатой площадке; напротив ворот расположилось несколько строений: высокий деревянный ангар, двухэтажные склады, длинный приземистый дом из потемневшего бруса, и ещё один домик, сколоченный из свежеструганных крепких досок. С левой стороны, поверх высокого забора, виднелся крутой склон горы, покрытый густым хвойным лесом. За этим склоном виднелся другой – он казался меньше и темнее, за ним – третий, и так до самого горизонта: убегающие вдаль покатые склоны, покрытые густой хвоей. Над всем этим океаном зелени широко раскинулось необъятное небо, до самой глубины заполненное прозрачной синевой. От этой картины веяло восторгом и жутью, девственная северная природа дышала вольно и широко, вызывая в душе смутные чувства. Костя опустил чемодан на землю; не отрывая взгляда от завораживающей картины, медленно выпрямился.
– Что, нравится? – спросил отец. – Ничего, привыкнешь. Тут всё леса да горы. Автобусы тут не ходят, поездов тоже нет. Глушь, одним словом. На тысячи километров во все стороны – никакого жилья!
Костя улыбнулся. Это было то самое, чего он и ждал! Чтоб никакой цивилизации, никаких благ, чтобы каждодневный риск и трудности, которые обычному человеку и не снились.
– А можно мне пойти туда? – спросил, кивнув на горы.
Отец удивлённо посмотрел на него.
– Зачем?
– Посмотреть охота, что там.
Отец подумал секунду, потом кивнул.
– Хорошо, как-нибудь сходим. Хотя тут медведей полно, и вообще… я тебе уже сказал: шибко тут не разгуливай. Пообвыкнешься чуток, тогда можно будет. А пока что сиди дома, занимайся уроками. Ты как школу закончил? Много троек?
Костя потупился.
– Есть немного. Но я всё исправлю!
– Вот-вот, я и говорю: налегай на учёбу! Ты должен учиться, это на сегодняшний день твоя главная задача. Станешь инженером или геологом – и все дороги для тебя открыты. Тут полно полезных ископаемых. Золото в земле лежит, алмазы, олово есть. Надо только суметь взять всё это. И тогда мы выстоим. Никакой враг нам будет не страшен, и мы всё преодолеем!
Отец по-прежнему улыбался, но во взгляде появилось что-то такое, отчего лицо приобрело значительность. И сын вдруг почувствовал настроение отца, его одушевление и веру в нечто такое, что срывает людей с годами насиженного места и бросает на самый край земли – на подвиг и на славу! И он решил в эту минуту сделать всё, чтобы не подвести отца, выполнить его наказ. Детство закончилось. Перед ним неоглядные дали, в которых таятся несметные богатства, которые так нужны его родине. И он овладеет всеми премудростями науки, научится находить золото в неподатливой земле, сделает так, что все удивятся его способностям, умению работать и выполнять труднейшие задания. Да, он всё сможет! Как же это хорошо, что он приехал сюда, не убоялся трудностей, не остался дома, где всё одно и то же, и где нет этого простора и этого щемящего чувства свободы, когда словно бы вырастают крылья и хочется взлететь к синим небесам, к ясному солнцу и любоваться оттуда чудесным миром, чувствовать себя его властелином!..
Отец смотрел в лицо сына и видел эту причудливую игру чувств на скуластом подвижном лице. Глаза мальчика сверкали, ресницы трепетали; отец вспомнил недавно прочитанную книгу «Пятнадцатилетний капитан» и её героя – юного матроса Дика Сэнда, принявшего на себя командование китобойным судном. Его сын, пожалуй, тоже смог бы стать капитаном – вон как блестят глаза, сколько неподдельной отваги в лице, сколько отчаянной смелости! Его вдруг захлестнула волна нежности, он вспомнил своё нелёгкое детство и все эти книги, которые читал длинными зимними вечерами при колеблющемся свете свечи, и то, как мечтал о подвигах и путешествиях в дальние страны. Но вот перед ним его сын – точно такой, каким он сам был тридцать лет назад. Перед сыном открыты все дороги, ему не нужно бежать на фабрику среди морозного утра и целый день работать на проклятых капиталистов. Первая в мире Страна Советов дала ему образование и широко распахнула двери: живи, работай, открывай новые земли, совершай подвиги во славу Родины!
Этот восторг, правда, омрачался знанием того, что за живописными сопками, среди тёмных распадков по берегам ручьёв и рек устроились во множестве исправительно-трудовые лагеря, в которых содержатся враги трудовой власти. Трасса всё дальше уходила на север в глубь материка, и лагерей становилось всё больше, они гнездились вдоль тысячевёрстной дороги, удаляясь от неё в обе стороны, ветвясь, словно раковые метастазы. Каждую неделю из Владивостока приходил пароход с заключёнными. Несколько тысяч человек неуверенно сходили на берег и брели в гору по усеянной камнями дороге, вздымая тучи пыли и проклиная судьбу. Промаявшись несколько недель в огромном пересыльном лагере на шестом километре, этапы уходили дальше на север. Обратно никто не возвращался. А пароходы из Владивостока всё шли и шли. Тысячи людей каждую неделю уходили в тайгу. Что с ними стало? Живы ли они? Этого отец не знал. А если бы и знал, то не сказал бы сыну. Если людей арестовывают, если посылают в эту северную глушь, значит, так надо! Идёт борьба двух миров, и все они – солдаты! И сын его – тоже солдат, хотя ещё не знает этого. Да, все они борются за правду, за лучшую долю, за справедливость во всём мире. Вот только в последнее время стали закрадываться сомнения. Откуда в стране победившего социализма такая тьма врагов? И почему заговорщиками объявлены ближайшие соратники Ленина – Зиновьев, Каменев, Радек, Пятаков, Сокольников, Смирнов, Бакаев и сам Троцкий? Несколько дней назад отец получил радиограмму с поразившей его вестью: в Москве арестован Глеб Иванович Бокий. А за три месяца до этого, в последних числах февраля, арестовали Рыкова Алексея Ивановича. Обоих он знал лично. С первым долгие годы работал в ЧК ещё в двадцатые годы, а второй был его прямым начальником по ведомству радиосвязи. Рыков в двадцать четвёртом году стал преемником Ленина на посту председателя Совнаркома. Бокий – член партии с девятисотого года, человек бесстрашный и решительный, ближайший соратник Дзержинского, лично создававший все эти революционные органы: ВЧК, ОГПУ и НКВД; его именем назван огромный пароход, на котором плавал товарищ Сталин. Если уж таких людей объявляют врагами народа, значит, от ареста не застрахован никто. Видно, в мире происходит что-то такое, что выше его разумения. С другой стороны, солдат не обязан понимать замыслы главнокомандующего. Его дело – исполнять приказы. А думают пусть другие!
Отец испустил глубокий вздох. Улыбка сошла с его лица, а правильнее сказать, растворилась в мягких чертах, уйдя в глубину. Лицо снова сделалось строгим и внимательным, взгляд стал отсутствующим.
– Ладно, – молвил он раздумчиво, – пошли в дом. Подкрепимся, а потом сходим в посёлок. Ты, наверное, есть хочешь?
Костя с готовностью кивнул.
Отец с сыном прошли мимо складов и свернули к небольшой избушке, сложенной из толстых брёвен. Костя во все глаза смотрел на это сказочное сооружение.
– Что, нравится? – спросил отец. – Это я сам тут всё придумал. По моим чертежам этот домик построили.
Домик и в самом деле был хорош: крохотное крылечко с левой стороны фасада, выше его и правее – квадратное окно с двойными рамами. Высокая треугольная крыша, а под крышей – чердак с крошечной дверцей. Ни дать ни взять – сказочный теремок!
Внутреннее убранство также поразило Костю: медвежьи шкуры на полу и на стенах, тяжеловесные деревянные столы, стулья, лежанки. Большая русская печь, занимавшая треть площади, крохотная кухонька с рукомойником, по стенам висит одежда на гвоздиках…
– Располагайся. Вот твоя кровать, будешь на ней спать! – Отец показал на лежанку возле окна у дальней стены. – Клади свои вещи и садись к столу. Я к твоему приезду борщ приготовил. Я тут сам готовлю на печке. Дело нехитрое. Нужда заставит – всему научишься! У меня тут тушёнки целый ящик. Первейший продукт в нашем деле!
Через несколько минут Костя оценил кулинарные способности отца. Густой наваристый борщ с тушёнкой, гречневая каша с маслом, компот из сухофруктов – всё было необыкновенно вкусным.
Затем они отправились в посёлок. Погода стояла солнечная, ясная. С правой стороны открывался чудесный вид на бухту, имевшую форму подковы; с моря то и дело налетал ледяной ветер, и тогда кусты стланика и деревья наклонялись, словно пытаясь укрыться от мертвящего дыхания северного моря. Прямо и левее, как на ладони, виден был круглившийся, словно в амфитеатре, пологий склон, хаотично заставленный деревянными строениями всех форм и размеров. В некоторых местах можно было разглядеть замкнутые сплошным высоким забором прямоугольные площадки, хаотично заставленные длинными приземистыми бараками, большими армейскими палатками и ещё чем-то таким, что издали разобрать было трудно. Уже в посёлке Костя разглядел и сторожевые вышки, и колючую проволоку поверх заборов, увидел множество военных в гимнастёрках и в сапогах; попадались и гражданские лица, но этих было гораздо меньше. А ещё на каждом шагу встречались заключённые, группами и поодиночке. Все они были в мятых серых штанах и в бесформенных бушлатах, в куцых шапчонках, все какие-то костлявые, с угрюмыми заросшими лицами и странно неподвижными взглядами.
– Это расконвоированные, – вполголоса объяснял отец, опуская голову. – Им разрешается ходить по городу. Но ты к ним не приближайся, в разговоры не вступай. Если будут спрашивать о чём-нибудь, сразу зови на помощь. Обращайся к военным. Милиции тут нет.
– А почему нет милиции? – последовал вопрос.
– Не успели ещё. Да ты не переживай, всё будет со временем. Дай только срок! – бодро отвечал отец.
Посёлок не понравился Косте. Всё какие-то халупы, высоченные заборы из кривых неокрашенных досок и такие же кривые улочки, всё сплошь косогоры, камни, едкая пыль под ногами. Холодный ветер гуляет поверх голов, солнце равнодушно светит с высоты, и как-то всё вокруг неуютно, не прибрано, ото всего веет чем-то глубоко чуждым и враждебным. Костя ожидал совсем другого. Уж что-нибудь одно: или полный ужас, или волшебная сказка; или сплошное геройство или совершенная жуть! А тут ни то и ни сё. Сказка, она вроде бы и есть – но где-то там, очень далеко, за горами и долами, в убегающей перспективе темнеющих сопок. А тут всё какая-то дичь – почти то же, что в его родном городе, в рабочей слободке, где он родился и вырос. Почти такие же косогоры, камни, грязь, покосившиеся дома и бездонное синее небо над головой.
Но особо рассусоливать было некогда. Отец рассказал сыну правила местной жизни, много говорил о бдительности и внутренней дисциплине в таких непростых обстоятельствах, объяснил в общих чертах внутреннее устройство посёлка, а потом они вернулись домой. Наказав сыну никуда не уходить, отец взял планшетку с бумагами и отправился на работу, обещав вернуться поздно ночью.
С этого дня у Кости началась странная, ни на что не похожая жизнь. В школу ему ходить не надо было по причине летних каникул, но и дома ему не сиделось. Отец с утра до позднего вечера пропадал на службе, каждую неделю выезжая в командировки, нередко и с ночёвками. Косте надоело сидеть дома одному, и он стал упрашивать отца взять его с собой в поездку. Обещал вести себя тихо и никому не мешать, а, напротив, помогать чем только можно, глядеть во все глаза и быть бдительным. Отец посмотрел на него с сомнением, потом согласно кивнул.
– Хорошо. Завтра и поедем.
– А куда? – Костя в нетерпении вскочил с постели. – Золото будем искать, да?
Отец усмехнулся.
– Нет, не золото. Золото геологи ищут. А мы связисты, мы тут связь устанавливаем. Только ты никому об этом не говори. Здесь каждый делает своё дело и – помалкивает!
– Я и не собирался никому говорить, – ответил Костя, опустив голову и вдруг смутившись. Ему припомнилась недавно произошедшая драка, когда к нему привязались два каких-то паренька. Это было в посёлке, днём, сразу после обеда. Костя пошёл прогуляться от нечего делать, как вдруг к нему подступил длинный белобрысый парень с наглой мордой и развязно спросил, ткнув пальцем в грудь:
– Ты кто такой? Чего тут шаришься?
Костя опешил в первую секунду, отступил на шаг. Парень смотрел нагло и насмешливо. Рядом встал его приятель – худой, смуглый, с неприятным и словно бы перекошенным лицом.
– Я тут гуляю, – ответил Костя с вызовом. – А тебе какое дело?
– Гуляет он! – Белобрысый обернулся к приятелю, тот выразительно хмыкнул, будто услыхал несусветную чушь.
Белобрысый вперил немигающий взгляд в Костю.
– Вот что, ещё раз увижу здесь – пинков навешаю. Всю ж… тебе распинаю. Понял?
Костя сжал кулаки. Слабаком он не был. И трусом тоже не был никогда. Если бы он был трусом, то не приехал бы сюда. Отец у него герой. И он никак не может его подвести.
Пригнув голову, Костя заговорил придушенным голосом:
– Как бы я сам тебе пинков не навешал. Смотри, это у меня быстро, будешь потом неделю задницу чесать.
Белобрысый опешил. Спутник его дёрнул кадыком. Последовала непродолжительная пауза, а потом всё смешалось: кто на кого бросился первым, трудно было понять. Но через минуту белобрысый парень сплёвывал кровь на землю, а его приятель стоял, мерно раскачиваясь и держась обеими руками за живот, словно ему было холодно или бы в животе его плескалось озеро, а он его удерживал, чтобы не расплескалось. Косте тоже попало по зубам, но не так, чтобы очень уж сильно. Его противники не знали, что Костя три года занимался боксом в обществе «Динамо» и кое-что вынес из спортзала, в котором проводил по восемь часов в неделю. С левой он бил очень хорошо и крепко, а с правой так, что лучше и не надо. Белобрысому он зазвездил правым хуком по зубам, его приятель получил хороший ударчик с левой в «солнышко». Обоим этого хватило, чтобы взять паузу и несколько переменить тон.
– Мы с тобой ещё встретимся, – прошамкал белобрысый разбитыми зубами.
– Я тебя урою, олень! – неуверенно поддакнул второй.
– Ага, давай, буду ждать, – молвил Костя и, повернувшись, пошёл своей дорогой.
Конфликт таким образом был исчерпан.
Он не сказал отцу об этой драке. Да и зачем? У него своих дел полно. Незачем ему и вникать в подобные глупости.
Однако история эта имела продолжение. Белобрысый парень оказался сыном довольно высокого чина – начальника Колонбюро. Отец его заправлял всеми так называемыми колонистами – осуждёнными крестьянами, получившими свои сроки по анекдотическому «закону о колосках». Таким осуждённым было предложено освобождение из лагерей, если только они согласятся жить без паспортов и примут обязательство не уезжать с Колымы на весь период неотбытого срока, плюс ещё два года. Согласившимся разрешали жить в специальных колонпосёлках, им предоставляли дом, сельхозинвентарь, скотину, они могли также вызвать к себе семью с материка. И хотя они всё равно считались осуждёнными, но это уже был не лагерь, не золотой забой, не казарма – в худшем её варианте. Неудивительно, что почти все таковые согласились перебраться из ледяных бараков в свои избы, избавиться от конвоя и от произвола блатных. Хотя охрана в таких посёлках и присутствовала, и режим был полувоенный, полулагерный, но это не шло ни в какое сравнение с золотыми приисками с их работой на износ. Всем этим людом – бесправным, униженным, обманутым, оскорблённым творимым произволом – командовал отец белобрысого паренька. Чувство собственного превосходства, ощущение ничем не ограниченного могущества исподволь передалось от отца к сыну (оно и всегда так бывает). И когда сын вдруг получил по зубам средь бела дня от какого-то фраера, это сразу стало известно не только отцу, но и его подчинённым. История получила огласку, и в конце концов виновник расправы был установлен. Случилось это не сразу, но всё равно имело последствия не только для Кости, но и для его отца.
А пока что Костик ничего не сказал отцу, и вообще он постарался забыть об этой драке. Мало ли он дрался дома? Эка невидаль! Почитай, каждую неделю происходили стычки, то с соседней улицы шпана нагрянет, а то «речники» вдруг заявятся всей толпой с цепями и кастетами. Это, значит, время такое было, такая была у них у всех закалка. Отцы их воевали и не давали спуску никому, стало быть, и сыновья должны быть такими же.
Как бы там ни было, а на следующее утро они с отцом отправились в поездку. Отец разбудил Костю в половине шестого. За окном было уже светло. Выйдя на воздух, Костя с удивлением огляделся. Солнца не видать, а от неба исходило странное свечение; это была полумгла-полусвет. Предметы не отбрасывали теней, и все контуры и масштабы изменились, всё вокруг казалось нереальным, бесплотным.
Поёживаясь от ледяной сырости, Костя забрался в кузов полуторки и сел на низкую скамью возле правого борта. Отец устроился рядом, и ещё несколько человек с хмурыми отёчными лицами расселись вдоль низких бортов. Сверху на головы накинули кусок брезента, и машина, заурчав, поехала со двора.
Сначала довольно быстро катились под уклон. Справа дышал холодом залив, а слева тянулся поросший густым лесом склон. Въехали в посёлок и сразу повернули налево. Машина стала подниматься в гору, натужно рыча и дёргаясь, как в лихорадке. Через пять минут последовал ещё один поворот влево, и машина пошла ровно, стала набирать ход.
– На трассу выбрались, – тихо произнёс отец, приблизив лицо.
Костя важно кивнул, мол, понял, знамо дело.
Отец поправил брезент над головой, чтоб сильно не дуло. И вовремя. Машина уже неслась, подлетая на мелких неровностях, из-под колёс летели камни, стеной стояла пыль позади. С левой стороны виднелся океан, рассечённый надвое длинным выступом. Справа от выступа была Нагаевская бухта, а слева – бухта Гертнера. В обеих бухтах стояли на рейде корабли. Костя представил, что в трюмах томятся люди, скоро их выведут на палубу, и заключённые пойдут по качающимся сходням на берег, роняя в воду чемоданы, увёртываясь от прикладов разъярённых конвоиров. Ему сделалось зябко, и он прижал подбородок к груди, обхватил руками колени, крепко зажмурился. Не хотелось ни о чём думать, ничего видеть. Не такой он представлял себе эту поездку.
Ехали недолго. Путь лежал в Палатку, до которой было восемьдесят километров. Там строился стационарный узел связи, нужно было принять на месте ответственные решения, дать задания техникам и рабочим, выдать всем подчинённым чертежи и обеспечить необходимый настрой. Последнее было проще всего: настрой обеспечивался во время технического совещания, когда через каждые пять минут поминались решения партии и цитировались речи товарища Сталина и товарища Берзина. Первый (генеральный секретарь партии большевиков) был далеко и неизмеримо высоко, он казался Солнцем, лучи которого достают повсюду. Второй (директор Дальстроя) был гораздо ближе и рангом пониже, но зато вникал в каждую деталь, не упускал ни одной мелочи, и хотя почти никогда не повышал голоса и слыл человеком незлым, однако его все боялись и всякий раз ссылались на его непререкаемый авторитет. Заручившись таким образом поддержкой этих двух деятелей, можно было говорить всё, что угодно. То есть громыхать словами (не чураясь и матерных), изо всей силы стучать кулаком по столу и обещать отдать всех под суд, если только не будут вовремя установлены антенные фидеры и смонтирована приёмо-передающая аппаратура. Чем больше крику, тем лучше. Чем страшнее речи, тем лучше будут работать все те, кому эти угрозы адресовались. Истину эту установили давно и следовали ей неукоснительно. Потому что и в самом деле: других рычагов у советской власти не было. А если бы они были, то людей не завозили бы сюда, словно скот, в трюмах грузовых пароходов, и не жили бы они долгую зиму в огромных, насквозь промороженных бараках или даже в обычных брезентовых палатках, получая за каторжный труд пайку слипшегося хлеба, миску мутной баланды и обещание немедленной расправы, если только не будет выполнен план по добыче золота или по отсыпке дорожного полотна, или кайловке касситерита.
Ничего этого Костя не знал. На техническое совещание его, понятное дело, не пригласили. Не только потому, что там решались вопросы государственной важности (а почти все они были строго засекречены, хотя и не очень понятно, от кого всё время таились в этом Богом забытом краю), но ещё и потому, что почти все ораторы перемежали свою речь отборной матерщиной, беря, как видно, пример со своих высокоидейных вождей.
Пока отец таким образом «совещался», Костя бродил вокруг одноэтажного деревянного дома, на крылечке которого стоял красноармеец с винтовкой за плечом. На Костю красноармеец не обращал никакого внимания, а тот, в свою очередь, стал уже привыкать к сверкающим на солнце штыкам, кирзовым сапогам и выцветшим пыльным гимнастёркам. Ему стало казаться естественным, что все вокруг ходят в военной форме, а кто не в военной – так это или заключённый, или какой-нибудь геолог. Впрочем, здесь и геологи старались одеваться по-военному, здраво рассудив, что быть военным на этой суровой земле вполне естественно; и все они здесь не работают, а воюют, не живут, а борются! Не с врагами, так с природой, которая откровенно враждебна человеку и наказывает его за малейшую оплошность.
Палатка не понравилась Косте. Трудно было назвать посёлком это хаотическое нагромождение деревянных строений посреди обширной равнины, заросшей чахлыми кустиками и травкой. Улиц в посёлке в привычном смысле не было. Строения лепились как попало. На каждом шагу были караульные вышки, трёхметровые заборы с колючей проволокой, приземистые серые дома с узкими оконцами и озабоченный люд: ни улыбки на лице, ни намёка на легкомыслие. Все куда-то спешат, все страшно озабочены. Костя с трудом дождался конца совещания. Отец вышел из здания с мрачным выражением на лице и, уже подойдя к сыну, продолжал о чём-то думать, наклонив голову и уперев взгляд себе под ноги. Костя не решался заговорить, ждал, когда отец заметит его. Наконец тот словно бы очнулся, шумно вздохнул и поднял голову:
– Ну что, промялся, поди? Пошли в столовую, пообедаем.
– А потом домой? – вспыхнув от радости, спросил Костя.
Отец помотал головой.
– Нет, у меня тут ещё дел полно. Терпи уж, раз приехал. Вечером уедем. Или завтра утром. Если ещё одно совещание не назначат…
Остаток дня Костя слонялся по посёлку. Забыв про запреты, выбрался за крайние дома и долго шёл по каменистой пыльной дороге, сам не зная, куда идёт и зачем. Слева расстилалась поросшая блёклой зеленью равнина, то и дело вспыхивала солнечными бликами небольшая извилистая речка; дорога уводила за горизонт, в перспективу далёких гор, казавшихся невысокими и нестрашными, но донельзя скучными. Как ни старался Костя, как ни ускорял шаг, горы почему-то не приближались, всё так же были далеки и пустынны. Через два часа он добрался до развилки. Влево уходила довольно широкая дорога, виднелся невдалеке деревянный мост через речку; за мостом среди хлипких деревьев громоздились какие-то строения, и опять заборы с проволокой и охранные вышки. Костя подумал несколько секунд и повернул обратно. Перспектива заблудиться в этом диком краю ему совсем не улыбалась. Вот и отец наказывал не уходить далеко. А он, видать, далеко упёрся. Чего доброго, машина уйдёт без него. Костя подтянул брюки и прибавил ходу.
Через несколько минут, когда он бодро шагал по обочине, махая руками и неодобрительно посматривая по сторонам, его обогнала полуторатонка. Проехала с десяток метров и резко остановилась, свернув на обочину. Из кабины выпрыгнул на землю военный в длинной шинели и с офицерской планшеткой на правом боку.
– Ты кто такой? Откуда взялся? Куда идёшь? Быстро отвечай! – произнёс скороговоркой, подойдя вплотную и неприязненно глядя на подростка.
– Я в посёлок иду. Меня там отец ждёт, – ответил Костя, отступая.
– Какой отец? Фамилия?
– Кильдишев. Борис Иванович. Мы из Магадана приехали утром. У отца тут совещание. Вечером домой поедем.
Военный скривился. Худощавое лицо сделалось уродливым, тонкие губы растянулись, обнажив большие кривые зубы.
– Ладно, разберёмся, – рубанул ладонью воздух. – С нами поедешь.
– Я не поеду! Меня отец ждёт.
По лицу военного заходили желваки.
– Стоять смирно! Ты задержан до выяснения личности. – И, обернувшись, крикнул сидящему в кузове бойцу: – Никифоров, иди быстро сюда!
Костя попятился.
– Дяденька, вы чего? Мне в посёлок нужно. Меня отец потеряет, у него важное совещание, я прогуляться пошёл…
– Складно поёшь, – кивнул военный. – Но я всё равно должен тебя задержать. Может, ты из лагеря драпанул, почём я знаю? Или из спецпосёлка.
– Да вы что? Я на пароходе сюда приехал неделю назад. Дяденька, отпустите меня, пожалуйста!
Но дяденька не отпустил. Вдвоём с красноармейцем они забросили упирающегося подростка в кузов грузовичка. Костя, помедлив, присел на пол у заднего борта, а красноармеец устроился на скамье возле кабины, положив винтовку на колени и строго глядя на задержанного. Военный забрался в кабину, громко хлопнул дверкой, и машина тронулась.
Одно успокаивало: машина направлялась в Палатку. Костя решил, что если грузовик вдруг куда-нибудь свернёт или проедет мимо, то он сиганёт через низкий борт и скроется в кустах. Не верилось, что красноармеец будет в него стрелять. Но он зря так думал. Сидевший напротив него детина не сводил с него глаз. Он видел, что парнишка зыркает по сторонам, и подозрение его усиливалось с каждой минутой. Он бы не колеблясь применил оружие, если бы Костя вздумал бежать. Красноармеец хорошо знал, что бывает за утерю бдительности. Это ничего не значит, что малец одет вполне прилично. В местных лагерях полно малолеток, ведь с тридцать пятого года в СССР судили двенадцатилетних детей – по всей строгости революционного закона. А цивильную одежду можно выменять у вольных, а ещё лучше украсть. Таких случаев полно. Но даже если малец ни в чём не виноват – это ничего не меняет. Приказ командира нужно выполнять. А иначе сам загремишь под трибунал.
Хорошо, что Косте не пришлось сигать через борт. От пули сидевшего напротив ворошиловского стрелка он бы точно не ушёл. Да и куда бы он делся на этой бескрайней равнине среди чахлых кустов и реденькой травки? И не таких ловили! И не таким крошили позвонки метко пущенной пулей, ломали прикладом винтовки кости и сносили череп. От доблестных бойцов НКВД ещё никто не уходил!
Машина на полном ходу въехала в посёлок и свернула на первом повороте. Затем ещё один поворот и…
– Вылазь! Приехали.
Костя неохотно поднялся с занозистого пола. Машина стояла перед длинным одноэтажным домом, сложенным из больших бурых брёвен. Широкое крыльцо из пяти ступенек, на верхней ступеньке возле двери стоял красноармеец с винтовкой. Второй красноармеец, который ехал с Костей в кузове, уже был на земле и держал винтовку так, будто перед ним не испуганный подросток, а головорез, от которого можно ожидать всего.
Взявшись левой рукой за низкий борт, Костя спрыгнул наземь.
Его завели внутрь дома. Несколько шагов по коридору и – узенькое пространство вдоль правой стены, отгороженное железной решёткой в крупную клетку.
– Заходи!
– Мне к отцу надо! – запротестовал было Костя.
– Разберёмся, – невозмутимо ответил сопровождающий. – Шуруй давай!
Опустив голову, Костя сделал шаг. Железная створка с лязгом захлопнулась у него за спиной. Красноармеец ушёл, гулко стуча каблуками по деревянному полу. Костя шагнул в угол клетушки, постоял секунду, потом опустился на пол. Прислонился спиной к стене и закрыл глаза. Ранняя побудка, долгая тряская дорога и впечатления длинного дня утомили его. В голове зашумело, мысли стали путаться, и, уронив голову на грудь, он незаметно для себя уснул.
Эта история закончилась для Кости вполне благополучно. Его не избили, не бросили в камеру к уголовникам, не успели даже как следует допросить. Главное, отец не подвёл – он приехал довольно быстро, Костя как раз успел вздремнуть. Когда мимо него ходили по коридору сотрудники комендатуры, он не реагировал, но стоило загреметь ключам и заскрежетать железному засову, и Костя сразу же открыл глаза.
Конвоир распахнул створку, отступил в сторону.
– Выходи. Амнистия тебе выходит.
Костя быстро поднялся, шагнул за порог.
– Какая амнистия?
– Иди-иди, там тебе всё объяснят! – И он подтолкнул подростка в спину.
В кабинете оперуполномоченного сидел отец, закинув ногу на ногу. На лице его была неподобающая случаю улыбка. Он старался казаться весёлым, как бы предлагая уполномоченному вместе посмеяться над случившимся недоразумением. Но уполномоченный сидел с застывшим лицом, опустив голову и глядя вбок. Увидев Костю, отец быстро поднялся, сделал два шага.
– Ну вот что с тобой делать! – воскликнул с деланным возмущением. – Я же сказал тебе никуда не отлучаться! Чего ты попёрся за посёлок? Скажи ещё спасибо товарищу лейтенанту, что подобрал тебя. А то неизвестно, чем бы всё закончилось!
– Ничем бы не закончилось, – молвил Костя, отводя взгляд. – Я бы сам дошёл.
– Сам бы он дошёл! – Отец кивнул подбородком на сына, устремив взгляд на уполномоченного, который всё сидел с мрачным видом. Вдруг резко повернулся к сыну. – Да ты хоть знаешь, что тут полно беглых заключённых? Они убить тебя могли! Тут же лагеря кругом. Я тебе всё это объяснял! А ты что делаешь? Ну ничего, вот вернёмся домой, я тебе всыплю как следует. Завтра же отправлю на материк к матери, раз не умеешь себя вести.
Костя вспыхнул, хотел что-нибудь сказать в своё оправдание, но глянул на хозяина кабинета, и слова застряли у него в горле. Он понурился и тихо проговорил:
– Я больше так не буду…
Отец помотал головой.
– Какой-то детский сад! – покачал головой и вопросительно глянул на уполномоченного. – Ну что, товарищ лейтенант, вопрос исчерпан? Можно идти?
Тот, как бы через силу, кивнул. Казалось, он вот-вот передумает.
Отец живо поднялся, взял сына за руку и увлёк за собой из кабинета.
Несколько шагов по гулкому коридору, широкие ступени крыльца, и вот они уже идут по твёрдой земле. Отец уже не улыбался, он шёл пружинящим шагом, напряжённо глядя перед собой и крепко держа сына за руку. По скулам его ходили желваки. Костя искоса глядел на него и отчего-то робел. Отец вдруг остановился, повернул к сыну побелевшее лицо.
– Ты что, не понимаешь, где находишься? – произнёс свистящим шепотом. – Тебя запросто могли в Магадан увезти, в дом Васькова! Я бы неделю тебя оттуда вызволял!
Костя неуверенно улыбнулся. Его поразила эта мгновенная смена настроений.
– Но я ведь ничего такого не сделал! Просто шёл по дороге. За что они меня арестовали?
– Никто тебя не арестовывал. Хотя могли бы. Тут, знаешь, шибко-то не разбираются. Посадят под замок, и будешь сидеть до второго пришествия. Так-то, брат! – Он покачал головой и шумно выдохнул. Костя понял, что буря миновала. И хотя он никак не мог сообразить своей вины, но всё равно чувствовал себя неважно. Если столько взрослых людей его стыдят, значит, он и в самом деле сделал что-то плохое. И он решил про себя, что больше не будет огорчать отца, будет слушаться во всём. Приняв такое решение, он сразу повеселел. А что подумал отец, он так и не узнал. Отец же чувствовал странное раздвоение. Он понимал в глубине души, что сын не совершил ничего предосудительного. Нельзя же считать преступлением обычное мальчишеское любопытство! Опять же, Колымская трасса не принадлежала к числу секретных объектов. И по посёлку свободно расхаживали люди. Но в то же время он понимал, что до беды было недалеко. Это простое везение, что сына отдали ему под честное слово, не стали составлять протокол и не дали делу ход. Тут всякое бывало, уж он-то хорошо это знал. Ещё ему было досадно оттого, что он извинялся и лебезил перед этим надутым лейтенантом, возомнившим о себе невесть что. Молодой, пороху ещё не нюхал, а ведёт себя так, будто он тут царь и бог!
Весь обратный путь до Магадана отец и сын провели в молчании, каждый был занят своими мыслями. Оба чувствовали безотчётную вину друг перед другом, и оба старательно скрывали это. Отец кроме этого был озабочен ещё и служебными делами. Не мог же он пожаловаться сыну на то, что дел невпроворот, что у него нет свободной минуты. Такая уж у него работа: ни на миг нельзя расслабиться. Уже за полночь машина неслась по пыльной, усеянной камнями дороге, трясясь, как в лихорадке. Ледяной ветер продувал насквозь, а с чёрного неба колко светили звёзды – странно неподвижные, застывшие на века. Эти звёзды точно так же будут светить и через сто, и через тысячу лет. Что же здесь будет через сто лет? Этого нельзя было вообразить. Странным образом все мечты о будущем устройстве этой суровой земли тонули в каком-то тумане. Нельзя было даже приблизительно представить картину ближайшего будущего Колымы! Когда отец Кости был в Иркутске – он очень хорошо представлял себе будущее счастье. Когда работал в Москве вместе с Бокием, тоже видел всё очень ясно и хорошо. А тут – словно какое-то наваждение! Или это безжизненные колымские просторы подавляли душу, уничтожали всякую мечтательность и настраивали на сугубый прагматизм, на борьбу и неизбежные лишения? Было во всём этом что-то очень тяжкое, донельзя мрачное. Несмотря на все лозунги и призывы, несмотря на бодрые рапорты и бешеную активность – оставалось в этой земле что-то незыблемое и глубоко враждебное чаяниям слабого человека. Этого нельзя было почувствовать сразу – всё это приходило с годами, с прожитыми зимами и вёснами, когда месяц кажется годом, а день тянется бесконечно. Отец давно уже решил уехать с Колымы, но всё никак не мог подать рапорт. Он часто представлял, как придёт на приём к Берзину и как тот внимательно посмотрит на него и спросит, подняв брови: «В чём дело, товарищ Кильдишев? Что вас не устраивает? Вы уже три года здесь работаете, со своими обязанностями справляетесь хорошо, вы уже выдержали самый сложный период, я вами вполне доволен. Зачем же уезжать? Побудьте ещё пару лет!» – Такой вот разговор мерещился ему, когда он думал об увольнении. Он мысленно спорил с Берзиным, говорил ему, что на материке у него осталась жена с маленьким ребёнком, что он очень скучает и ему смертельно надоела эта оледеневшая земля, от которой даже в июльский полдень разит холодом. Ему осточертели эти однообразные виды, эти бесконечные дали, от которых захватывает дух, и это бездонное небо, навевающее тоску; а ещё он устал от непрекращающегося аврала, от множества военных чинов и от обилия заключённых, которых всё везут и везут сюда на пароходах, так что порой становится страшно. Откуда их столько? И что их ждёт на этой бесприютной земле?
Вопросов было много. А ответов не было. Никаких.
Но одно решение отец Кости в этот день принял. Когда машина уже въезжала в посёлок, он дал себе клятву вернуться домой к Новому году. Лето он как-нибудь отработает, осень перетерпит, а в конце декабря напишет Берзину заявление об увольнении. Получится вполне логично – в декабре тридцать четвёртого он подписал контракт с Дальстроем, в декабре тридцать седьмого уволится. Совесть его будет спокойна. Три года – немалый срок! Особенно здесь, на краю света. Хотя, конечно, есть места и похуже. Та же Чукотка, о которой ему рассказывали всякие ужасы. Тот же Сахалин – немногим лучше Чукотки. Или какой-нибудь Норильск, где тоже, говорят, творится всякая жуть. Как бы там ни было, а он свой долг исполнил. Пора подумать и о семье!
Приняв такое решение, он почувствовал облегчение. Когда они с сыном вернулись в тот самый домик, который построили по его чертежам, то им обоим стало почти весело. Инцидент в Палатке – теперь, когда сыну ничего уже не грозило, – показался им забавным и совсем неопасным. Костя представил, как будет рассказывать друзьям о том, как он шёл по пустынной дороге, где под каждым кустом таилась опасность, а среди деревьев прятались враги советской власти, и как его самого приняли за шпиона, а потом допрашивали почти как в кино, а он всё равно держался молодцом и с честью вышел из затруднения. Отец тем временем составил в голове текст заявления об увольнении и прикидывал, какую компенсацию ему выплатят за три года напряжённой работы. Он вернётся домой и больше никуда уже не поедет. На материке тоже полно работы. А сюда пусть едут другие – помоложе и пошустрей. Он своё отбегал, отползал и отходил. Сорок пять лет – не шутка! Пора бы и остепениться.
Так думал отец, но вслух ничего не говорил. Жизнь приучила его держать язык за зубами. К тому же, сам того не замечая, он становился суеверным. Высказанное вслух намерение обычно не сбывалось. Тщательно разработанный план, которым ты поделился с товарищем, почему-то никогда не исполнялся. Но то, что созрело глубоко внутри и оставалось невысказанным, почти всегда происходило в действительности. Поэтому отец ничего не сказал сыну, лишь загадочно улыбался и делал туманные намёки на то, что скоро всё изменится.
Но до зимы было ещё далеко. От работы его пока никто не освобождал. Нужно было терпеть и трудиться.
Тут ещё новость: сыну надоело сидеть без дела, и он стал проситься на работу. Отец поначалу воспротивился. В самом деле: какая может быть работа для шестнадцатилетнего подростка? Но он и сам понимал, что сына нужно чем-нибудь занять. Это ведь и опасно, в конце концов, расхаживать без всякой цели по посёлку, заполненному военными и расконвоированными заключёнными! Учиться ему летом не нужно, а друзей сын так и не завёл. Да и с кем тут дружить? Отец подумал-подумал и вдруг вспомнил, что клубу НКВД требуется помощник киномеханика. Работа не оплачиваемая, но разве в этом дело? Главное, это безумно интересно! Новые фильмы, сложная киноаппаратура, новые познания, которые пригодятся в будущем! И сын будет под присмотром. Со всех сторон хорошо!
Сказано – сделано!
В последних числах июня они вдвоём отправились на машине в посёлок. Клуб НКВД располагался на улице Дзержинского. Здесь, на покатом склоне, силами заключённых был разбит отличный парк со стадионом и аллеями; у входа в парк построили клуб, в одном из помещений которого разместилось фильмохранилище. Сам клуб подчинялся культурно-воспитательной части УСВИТЛ. Со всей Колымы согнали сюда талантливых людей – музыкантов, писателей, актёров, режиссёров, художников, декламаторов, танцоров и прочий творческий люд. Артисты и декламаторы ездили с концертами и спектаклями по лагерным приискам, поднимали боевой дух и укрепляли решимость и веру в светлое будущее. А репертуар был до чего хорош! «Евгения Гранде», «Цезарь и Клеопатра», «Двенадцатая ночь»– это со стороны мировой классики. Из наших, из пролетарских, – «Бронепоезд 14–69», «Любовь Яровая», «Оптимистическая трагедия» и много чего другого. Но обо всём этом Костя узнал чуть позже.
А пока они зашли в клуб, прошли прямиком в фильмохранилище. Там прямо на полу лежали коробки с фильмами. Разудалые «Весёлые ребята», пафосные «Заключённые», морализаторский фильм «Великий утешитель», а ещё: «Встречный», «Аэроград», «Горячие денёчки», «Бесприданница», знаменитый «Вратарь», «Депутат Балтики», «Балтийцы» и «Ленин в Октябре». Фильмы привозили сюда пароходами наравне с ценным грузом. Не зря же Владимир Ильич Ленин назвал кино важнейшим из искусств, сетуя при этом на повальную неграмотность народа. Идеологическая пропаганда у большевиков стояла на втором месте после диктатуры пролетариата во всех её формах и ипостасях. Косте теперь предстояло приобщиться к этому столь важному искусству.
Сказать по правде, кино для него было каким-то чудом! Всего лишь два года назад он впервые увидел в железнодорожном клубе поразивший его фильм «Весёлые ребята». Тут было два потрясения: первое – от какой-то сказочной привольной жизни, какую он никогда не видал и вообразить не мог. А второе потрясение было от самого кино. Только что перед тобой был белый неподвижный экран, и вдруг внутри его открылась целая жизнь, новая вселенная; эта вселенная двигалась, пела, смеялась! Всё было так замечательно и захватывающе, что Костя долго не мог опомниться. Фильм этот он посмотрел раз двадцать – убегая с уроков, экономя на завтраках, всеми правдами и неправдами попадая в местный клуб. Потом были другие фильмы, но этот ему запомнился особо. И вот теперь ему посчастливилось попасть в святая святых – туда, где происходит чудо превращения неподвижного экрана в пылающее световыми бликами полотно. Заведовал фильмохранилищем старший инженер Александр Михайлович Мамалыгин. Он уже успел отсидеть в лагере три года и, освободившись досрочно по зачётам, решил не выезжать на материк. Время было тревожное, репрессии нарастали. От повторного срока никто не был застрахован. А тут он был на виду, работал при клубе НКВД. При всём желании обвинить его в каком-нибудь заговоре будет невозможно. Это соображение стало для него решающим. А всё остальное – жена, семилетняя дочь, всякие там знакомства и увлечение рыбалкой, да и вся прошлая жизнь значения больше не имели. Парадокс заключался в том, что он мог потерять всё это, если только приблизится к прошлой жизни на расстояние вытянутой руки, если погрузится в неё с головой. Уж лучше иметь всё это в голове, переживать в воспоминаниях – и ласковый взгляд жены, и вопрошающий взгляд дочери, и осторожную поклёвку на охваченной рассветным туманом речке, чем утратить всё это раз и навсегда, снова очутиться в грязном, холодном бараке среди садистов-уголовников. Так он для себя решил. Прав ли он был? Этого проверить было нельзя. Но можно и нужно было жить, исполнять свои обязанности. В этом был ключ к спасению. И Александр Михайлович с головой окунулся в работу: чинил недавно полученный узкоплёночный кинопроектор УПО-5, увлечённо работал над звуком, выверял градусы и фокусные расстояния, добивался стабильного напряжения и силы тока и сам же мастерил самодельный стабилизатор. Много чего делал нужного и непонятного для всех тех зрителей, что приходили каждый вечер на киносеансы. Фильмы подбирать ему не нужно было – список их был заранее известен, и этот список ничем не отличался от всех других списков, направленных из Москвы в тысячи городов и поселений по всей стране в такие же фильмохранилища, клубы и кинобудки.
Костю он принял не ласково и не грубо, а совершенно равнодушно. Что он подумал, увидав невысокого худощавого паренька с густыми чёрными бровями и настороженным взглядом серых глаз – понять было нельзя. На отца его он вовсе старался не смотреть – это уже по лагерной привычке, когда любому начальству лучше не попадаться на глаза, а если уж попался, так стой смирно, уперев взгляд себе под ноги, не размахивай руками и не выказывай чувств! Стой столбом и смотри в землю, ожидая решения своей участи – эту науку жизни в него вбили крепко! Да, эта привычка была неискоренима. Начальника в отце Кости он признал сразу, как только тот вошёл в помещение – уверенно и ловко, как входят люди, которые ничего не боятся, которых жизнь ещё не била, кого не допрашивали по несколько суток кряду и не заталкивали в переполненную камеру к блатным, возлагая на них задачу перевоспитания гнилых интеллигентов.