Госсмех: сталинизм и комическое бесплатное чтение
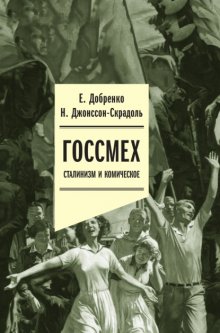
Людмиле Недяковой (ЕД)
Виктору Ефимовичу Кагану (НС)
Человечество, которое некогда у Гомера было предметом увеселения для наблюдавших за ним богов, стало таковым для самого себя. Его самоотчуждение достигло той степени, которая позволяет переживать свое собственное уничтожение как эстетическое наслаждение высшего ранга.
Вальтер Беньямин. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости
Введение
В 1989 году, на пике перестройки, американское издательство Andrews and McMeel выпустило книгу о советском юморе, в которую вошли карикатуры из главного советского сатирического журнала «Крокодил». В книге было два предисловия: главного редактора «Крокодила» Алексея Пьянова и знаменитого историка мультипликации и карикатуры Чарльза Соломона. Второе начиналось с краткого описания западных представлений об СССР, отраженных в голливудских фильмах:
Сам факт того, что кто-то решился создать антологию советских карикатур, удивит многих американцев. В Соединенных Штатах СССР обычно изображается либо как унылая, серая страна, где угрюмые крестьянки подметают тротуары, либо как страна, ощетинившаяся ракетами, наполненная шпионами и стареющими генералами, обвешанными орденами и медалями и вынашивающими зловещие заговоры. В обоих сценариях искусство исчерпывается кричащими «героическими» барельефами на стенах тракторных заводов[1].
Какой смех возможен в такой стране?
Предисловие Пьянова, выдержанное в духе перестроечной риторики (гласность, открытость, доверие), как будто отвечало на этот вопрос: советские люди полны оптимизма, чему свидетельством – астрономические тиражи главного сатирического журнала страны. Давайте смеяться, а не воевать, – призывал Пьянов американского читателя. Как можно видеть, внешняя, почти карикатурная проекция советского смеха, увы, недалеко ушла от внутренней.
Советский смех… Это значит – опять про антисоветские анекдоты и эзопов язык (любимые советологические и постсоветские сюжеты)? Опять о «советской (то есть антисоветской) сатире»? Об интеллигентских фигах в кармане? Вновь о Булгакове, Зощенко и Эрдмане, об Ильфе и Петрове? Может быть, о ком-то более изысканном – Хармсе, например? Или о ком-то более позднем – скажем, о Войновиче или Веничке Ерофееве? Сюжеты этой книги – не о смехе в советскую эпоху, но о собственно советском, а точнее – сталинском, смехе. Перечисленные выше авторы связаны с ним опосредованно, прямое же отношение к нему имеют совсем другие персонажи и совсем другие коллизии: не только менее известные, но часто – неизвестные вовсе.
В самом деле, кто сегодня помнит Леонида Ленча и Семена Нариньяни, Григория Рыклина и Ивана Рябова, чьими фельетонами зачитывались миллионы советских читателей? Эти же читатели были зрителями водевилей Валентина Катаева и Анатолия Софронова, Владимира Дыховичного и Мориса Слободского, кинокомедий Ивана Пырьева и Константина Юдина, карикатур Бориса Ефимова и Михаила Черемных, Бориса Пророкова и Кукрыниксов. Их продукцией были заполнены газеты и журналы, театры и кинотеатры. Это был наиболее массовый и любимый вид чтива и зрелища. Открывая газету, читатель тянулся прежде всего к фельетону, кинокомедия была самым кассовым жанром, а тираж «Крокодила» достигал семи миллионов экземпляров (для сравнения: рекордный тираж главной газеты страны, «Правды», обязательной для подписки каждым членом партии, составлял десять миллионов).
Но это не книга о советских сатире и сатириках, юморе и юмористах, комедии и комедиографах. Таких книг написано немало. Эта книга о сталинизме и комическом – о том, как трансформировалось, какую роль играло и какие жанровые формы принимало комическое (понимаемое здесь как эстетическое измерение смешного) в столь специфической политико-эстетической среде. Из всех эстетических категорий связь сталинизма с комическим наименее очевидна. Куда легче связать сталинизм с героическим, монументальным, возвышенным, даже с трагическим. Для большинства людей, знакомых с соцреализмом как советским официальным искусством, нет на свете ничего более скучного, беспросветно тоскливого и далекого от смеха и веселья.
Однако фактом остается и то, что в сегодняшней перспективе соцреализм сам превратился в бесконечный источник комического: ирония, пародирование, пастиш – почти непроизвольный эффект знакомства сегодняшнего потребителя культуры с соцреалистической продукцией. Он связан, главным образом, с качеством этих текстов и артефактов, а оно – продукт самого соцреалистического производства. Зиновий Паперный когда-то заметил:
Некоторые думают, что писатели делятся на две категории: юмористы и неюмористы. Неверно. Все юмористы. Только одни вызывают смех сознательно. Другие – не догадываются об этом. Так сказать, мастера невольного смеха[2].
Советские писатели, художники, режиссеры и были такими «мастерами невольного смеха». Их художественные поделки сегодня невозможно читать, смотреть и слушать всерьез, не смеясь. Так родилась идея книги о том, как сама эта, говоря словами Бахтина, «культура нудительной серьезности» смеялась.
Одна из главных проблем, вполне осознававшаяся авторами, состоит в подходе к этому весьма специфическому материалу. Известная шутка Андрея Платонова, сказавшего о знаменитом соцреалистическом романе: «Если бы это было написано несколько хуже – это было бы совсем хорошо»[3], возвращает нас к теме le plaisir du texte, но отнюдь не в бартовском его понимании. Подобное удовольствие в нашем случае может быть связано только с осмеянием, которое, в свою очередь, основано на чувстве превосходства. Между тем потребитель этих текстов вряд ли испытает такое превосходство. Если приложить шутку Платонова к материалу этой книги, можно сказать, что «хуже быть не может», поскольку трудно найти еще большее убожество, чем то, что производила эта культура, когда хотела еще и сама быть остроумной…
Здесь нам также стоит прислушаться к отрезвляющим предостережениям как теоретиков, так и практиков смешного, которые единодушно утверждали, что писать о смешном – занятие безнадежное. Фрейд полагал, что «всякое размышление убивает смех»[4]. Вторя ему, Бернард Шоу называл желание писать о смешном «опасным симптомом» того, что чувство юмора у пишущего утрачено безвозвратно. Эти утверждения верны постольку, поскольку речь действительно идет о смешном и об остроумии. Но соцреалистический смех (и шире – смех сталинской культуры) – при всем индивидуальном, жанровом, стилевом, медиальном и ином разнообразии – обладал одним универсальным свойством: он был несмешным, лишенным веселья, остроумия и непосредственности, что не только не мешало, но помогало ему активно участвовать в том, чтобы «жить стало веселее».
Прояснить природу этого феномена поможет своего рода метаанекдот, с которого уместно начать книгу о смехе. Итак, начальник рассказал подчиненным анекдот. Они все дружно рассмеялись. Но один из них смеяться не стал. Начальник спросил: «А ты почему не смеешься?» – «А я завтра увольняюсь», – ответил тот.
Можно сказать, что этот несмеющийся – единственный смеющийся в этом анекдоте человек – он свободен от страха перед начальником и потому может смеяться не над глупым анекдотом, но над самим начальником. Вот этот несмеющийся сотрудник, условно говоря, и был главным персонажем бесчисленных работ об освобождающих и подрывающих устои советских смехе и сатире (как в СССР/России, так и на Западе). Для того чтобы выйти из производимого ими бесконечного круга риторики смеховой субверсии, мы предлагаем полностью изменить угол зрения и сфокусировать внимание, во-первых, на самом анекдоте начальника, а во-вторых, на смехе всех остальных, менее удачливых, не собирающихся (или, точнее, не имеющих возможности) завтра уволиться сотрудниках.
Смех начальника и есть санкционированный государством смех, который мы называем здесь госсмехом. Этот апроприированный государством смех – во всех смыслах уникальный и практически неисследованный феномен. Он переворачивает устоявшиеся представления о комическом. Он не только не смешон и опирается на массовый вкус и неразвитое чувство юмора (а потому связан не столько с великими именами сатириков и юмористов, сколько с такими персонажами, как дед Щукарь, и такими сатириками, как Сергей Михалков), но и противостоит стереотипам, согласно которым смех якобы всегда антитоталитарен, демократичен и разрушает иерархию и страх.
Нет, смех может быть инструментом устрашения и укоренения иерархии, мощным средством тоталитарной нормализации и контроля. Его мы и будем называть госсмехом. Нас будет интересовать не столько структура, сколько природа и функции смешного в сталинизме (поскольку именно они обусловливают структуру). В сущности, понять ментальный профиль человека, который смеется над дедом Щукарем, который захвачен весельем «Свинарки и пастуха», который наполняется «советской национальной гордостью», разглядывая карикатуры Кукрыниксов, и тает от «теплого юмора» картин Решетникова, – это и значит понять сталинский субъект.
Лишь отчасти он был продуктом социальной инженерии. В куда большей степени он являлся результатом подгонки утопического марксистского проекта к наличному «человеческому материалу». Причем определяющим был последний. Хотя большевики, руководствуясь идеологией марксизма, не страдали тем, что иронично называли «рабочелюбием» и «народопоклонством», Ленин точно знал границы, которые переходить не следовало, четко обозначив связь между популизмом и властью: «Мы можем управлять только тогда, когда правильно выражаем то, что народ сознает. Без этого коммунистическая партия не будет вести пролетариата, а пролетариат не будет вести за собою масс, и вся машина развалится»[5]. Иначе говоря, если власть не выражает сознания масс, «машина» перестает работать, поэтому эта власть функционирует как «машина кодирования потоков желаний массы»[6]. В этой проекции сталинская культура должна быть понята как точка пересечения возвышенного и массового, сакрального и профанного, верха и низа. Иначе говоря, как своего рода карнавал власти.
Эта оксюморонность соцреализма была производной от политических функций сталинского искусства, в котором власть создавала свой образ, легитимирующий ее в глазах масс. Этот образ власти создавался параллельно с образом самих масс, которые являлись продуктом соцреалистического производства, подобно тому, как политико-идеологическим конструктом являлся сам советский народ. Смех как основа «народной культуры» был одним из ключевых инструментов производства «народа». Только видя себя в зеркале, получая свой собственный образ, массы материализуются в качестве «народа» как высшего суверена, легитимирующего власть. Создание этого образа не может быть поэтому пущено на самотек, но, напротив, является предметом «непрестанной заботы партии».
Эта система зеркал была замкнутой. От одного зеркала можно отвернуться (что создавало условия для появления Андрея Платонова в литературе или Александра Медведкина в кино), поэтому соцреалистическая система зеркал не оставляла пространства для побега, включая в себя любые анклавы автономности, в том числе и «народную культуру». И поскольку образ народа – обязательный атрибут образа власти, непременно проинтегрированный в нее, в соцреалистических зеркалах советский человек получал себя сконструированного.
Создание этого образа после революции было частью интеллигентского культуртрегерства. Революционная культура смотрела на свой объект извне и находила его невероятно комичным. Отсюда – неисчерпаемое богатство произведенных в 1920-е годы сатирических образов. Сталинизм был куда больше озабочен сохранением власти, чем строительством утопии, заменив коммунистический проект национальным. В национальном строительстве «народная культура» выдвигалась на передний план. Соответственно, национальные аспекты становились все более важными, апелляции к национальным традициям и освященным стилевым и жанровым конвенциям – все более демонстративными. Так объект превратился в субъект. В сталинизме стало некому смотреть на него извне. Соцреализм интернализировал позицию смеющихся масс. Перестав смеяться над ними, он засмеялся вместе с ними, пока и вовсе не заменил их, став смеяться вместо них. Так популизм (народность) стал modus operandi сталинской культуры.
В результате сталинский госсмех начал функционировать в совершенно новом качестве. Илья Калинин предложил различать смех как труд и смех как товар.
Представления о смехе и веселье на Западе, где это индустрия и, соответственно, способ извлечения прибыли, обусловливают товарный статус смеха на рынке развлечений. Соответственно, те, кто занят в производстве смеха, их труд и продукт отчуждаются. В отличие от этой буржуазной индустрии, советский смех товаром не являлся и работал по принципу советского же труда, т. е. он не функционировал на рынке, где люди производят, покупают и продают смех, но работал как коллективный труд. В этом качестве он являлся не столько продуктом, сколько процессом деятельности, в котором производился коллектив. Вместе они – труд и коллектив – производили идентичность, воспроизводя свою антропологическую природу и творческую натуру[7].
Не случайно слова Сталина о том, что «жить стало веселее», прозвучали в контексте прославления энтузиастического труда, которому была посвящена речь вождя на съезде стахановцев.
Природа сталинизма с его пафосом бюрократической реставрации и государственного строительства не должна вводить в заблуждение. Поскольку сталинизм есть не что иное, как застывшая в политических институтах, идеологических постулатах, многочисленных артефактах гражданская война, насилием пронизан каждый его политический жест.
Первым связал политику, искусство и популизм ХХ века с войной Вальтер Беньямин, который заметил, что с наступлением эпохи массовых обществ и «механического репродуцирования» искусства именно массы стали той матрицей,
из которой в настоящий момент всякое привычное отношение к произведениям искусства выходит перерожденным. Количество перешло в качество: очень значительное приращение массы участников привело к изменению способа участия[8].
Можно сказать, что не только искусство оказалось механически воспроизводимым, но сама политика превратилась в искусство механического воспроизводства масс – самое политически актуальное и эффективное производство нового времени.
То обстоятельство, что после революции низовая (массовая) культура затопила все публичное поле, вытеснив высокую культуру на периферию, откуда ее требовалось (в целях национального строительства) огромными усилиями возвращать в широкую циркуляцию через институты школы, книгоиздания, театра, кино, музея и т. д., отходит на задний план перед той глубокой трансформацией, которую претерпело само искусство, перешедшее из модуса концентрации в модус развлечения, когда, как замечал Беньямин, массовый потребитель искусства не столько погружается в него, сколько погружает произведение искусства в себя. Таким было, как мы показали ранее, искусство соцреализма[9].
Это искусство сугубо инструментально (его политическую функциональность иногда ошибочно принимают за «политизированность»). Эти функции сталинского (напомним – военного!) искусства не случайно во многих ключевых моментах совпадали с теми функциями, которые Беньямин считал характерными для искусства фашизма, ведь сталинизм занимается тем же, что и фашизм, а именно:
пытается организовать возникающие пролетаризированные массы, не затрагивая имущественных отношений, к устранению которых они стремятся. Он видит свой шанс в том, чтобы дать массам возможность выразиться (но ни в коем случае не реализовать свои права).
Иначе говоря, массы стремятся к «изменению имущественных отношений; фашизм стремится дать им возможность самовыражения при сохранении этих отношений»[10].
И здесь разница между сталинизмом и фашизмом состоит лишь в том, что фашизм сохранял капиталистические отношения и эксплуатацию, называя это (национал-)социализмом, а сталинизм создавал госкапитализм, заменяя частных эксплуататоров одним – ведомым партийно-бюрократической номенклатурой вездесущим эксплуататором-государством – и выдавая это за реализацию марксистского проекта. Поэтому соцреализм занимался той же эстетизацией политики, которой занимался фашизм, и знаменитый призыв Беньямина ответить на это политизацией эстетики не относим к соцреализму, который, подобно фашистскому искусству, был занят тем же «созданием культовых символов»[11].
Но главное – он работал на ту же цель эстетизированной политики, направленной к «одной точке. И этой точкой является война. Война, и только война дает возможность направлять к единой цели массовые движения величайшего масштаба при сохранении существующих имущественных отношений» и «только война позволяет мобилизовать все технические средства современности при сохранении имущественных отношений»[12]. В этом Беньямин видел торжество принципа искусства для искусства, утверждая (и мы взяли утверждение эпиграфом к нашей книге), что современное общество превратило самоуничтожение в увеселение и акт эстетического наслаждения.
Только с завершением советской эпохи окончательно прояснилось ее место в истории – это была российская (догоняющая) версия модернизации и перехода от патриархального общества к индустриальному. Поскольку в результате революции, голода, гражданской войны и репрессий тонкий слой российской городской культуры был почти полностью разрушен, город практически лишился возможности сопротивляться архаизации, принесенной в него сельским населением, которое в процессе ускоренной индустриализации и урбанизации полностью изменило его состав. Модернизируясь, советское общество неотвратимо архаизировалось. Советский человек, соответственно, оказался персонажем переходным: это был наполовину сельский, наполовину городской житель. А связанный с этим кризис идентичности стал настоящей эпидемией. И хотя в советских условиях он осложнялся необходимостью массовой корректировки и конструирования собственных биографий[13], в его основе лежала психология маргиналов – целых поколений людей, которые, говоря словами Мандельштама, были выбиты из своих биографий, как шары из биллиардных луз[14].
Маргинальная личность идеально комична: она как будто создана для комических ситуаций, их производит и в них раскрывается. Но если комедия советского маргинала, породившая огромную комическую литературу (Зощенко и Булгаков, Платонов и Маяковский, Катаев и Олеша, Эрдман и Ильф и Петров и др.), рассматривала его извне, со стороны, относилась к нему критически, смеялась над ним, то советская соцреалистическая культура не просто чутко улавливала массовый вкус полу-урбанизированных крестьян, но, по сути, стала его продуктом и выражением, стала настоящим зеркалом сознания советского человека, отразив в том числе и его смех. Известно, что в том, как и над чем человек смеется, отражаются и уровень его культуры, и степень его внутренней организации, и глубина воспитания, и ступень его умственного развития, острота ума. Понять их может помочь интерес к госсмеху, позволяющему увидеть этот феномен изнутри, а не извне.
Мы исходим из того, что, будучи социальным феноменом, смех не может быть понят вне социально-исторических и, по необходимости, политических параметров. Особенно это относится к эпохам национального строительства, каковой был сталинизм – эпоха рождения советской нации. Как утверждал Дмитрий Лихачев,
Смех зависит от среды, от взглядов и представлений, господствующих в этой среде, он требует единомышленников. Поэтому тип смеха, его характер меняются с трудом. Он традиционен, как традиционен фольклор, и так же инертен. Он стремится к шаблону в интерпретации мира. Тогда смех легче понимается, и тогда легче смеяться. Смеющиеся – это своего рода «заговорщики», знающие код смеха. Именно поэтому инерция смеха грандиозна. Она создает целые «эпохи смеха», свои смеховые антимиры, свою традиционную культуру смеха[15].
Как мы увидим, вопреки распространенным стереотипам о «нудительной серьезности» сталинской культуры, сталинизм был «эпохой смеха» и произвел свой смеховой (анти)мир. Понять, что в нем смешно, а что нет, означает понять «код смеха» сталинизма. А для этого необходимо критически переосмыслить некоторые стереотипные представления о смехе как в СССР/России, так и на Западе.
Во-первых, это миф о том, что в силу своей естественности смех неуправляем: «Смех спонтанен и естественен, им невозможно управлять. В смехе пробуждается задавленная в процессе социализации индивида спонтанность и безрассудочная стихийность „естественного“ поведения»[16]. Однако в ХХ веке прямое «управление» заменяется практиками манипуляции, которые показали свою высокую эффективность в преодолении «спонтанности и безрассудочной стихийности „естественного“ поведения».
Во-вторых, представление о том, что смех является своего рода антизапретом, и потому не может быть никому навязан: «Смеха нельзя предписать, ибо смех – нарушение запрета»[17]. На самом деле, как будет показано, смех может быть совершенным инструментом запрета. Причем куда более действенным, чем чистая репрессия.
В-третьих, утверждение о том, что смех по своей природе антитоталитарен, чему свидетельством – излюбленный жанр всех пишущих о советском смехе – политический анекдот: советская «смеховая культура» была «оборотной стороной тоталитарной эпохи», смех «подтачивал тоталитарную идеологию, утверждал приоритет человеческой индивидуальности над коллективным идиотизмом», «анекдотический эпос показывает, что тоталитаризм не только безобразен и страшен, но и смешон»[18]. Между тем советская смеховая культура отнюдь не была только «оборотной стороной тоталитарной эпохи». Напротив, ее лицевой стороной были веселые комедии Александрова и Пырьева, радостные песни и марши Дунаевского, ликующие толпы участников физкультурных парадов…
В-четвертых, понимание смеха как основы антиповедения и субверсивности: «Смех по сути своей есть именно знак антиповедения и не может быть ничем иным»[19]. Однако в сталинизме функции смеха, сводились – ровно наоборот – к фиксации норм поведения и к закреплению личности в освященной поведенческой модели и социальной роли.
В-пятых, миф о демократизме и революционности смеха, который якобы является естественным разрушителем социальной иерархии. На этом, в сущности, строилась бахтинская теория карнавала. До Бахтина эту мысль сформулировал А. Герцен: «Действительно, смех имеет в себе нечто революционное <…> В церкви и во дворце никогда не смеются, – по крайней мере, открыто. Крепостные люди лишены права улыбки в присутствии помещиков. Одни равные смеются между собой»[20]. Если бы дело обстояло так, мир, где «равных» очень мало, умер бы от тоски. Если вспомнить, что карнавал не норма, но исключение из социального порядка (причем настолько, что бахтинский карнавал может рассматриваться в категориях агамбеновской теории чрезвычайного положения), то придется признать, что хотя в нем продолжает жить смех и комическое, порядок этот основан на неравенстве. Самая распространенная форма комического – это смех умного над глупым: двое «равно» умных как раз и понимают друг друга, смеясь не над, но «между собой». Модусом их коммуникации являются ирония и юмор. Следует, однако, помнить, что поскольку ни в одном обществе, а тем более в полу-урбанизированном массовом обществе, носители развитого чувства юмора не составляют большинства, в нем доминирует смех, имеющий совсем иные основания и природу. А он, воспринимаясь как примитивный и грубый, редко становится предметом исследовательского интереса.
Банальности о демократизме и неподконтрольности раскрепощающего, освобождающего от страха, разрушающего идеологический и религиозный догматизм и подрывающего омертвевшие социальные устои и иерархии смеха и заключенной в нем свободе сводят разговор о нем к теме осмеяния и сатиры и мало продвигают в понимании его политических функций и социальной природы. История сатиры говорит о том, что она может успешно служить укреплению власти, что смех может быть источником страха. Запрет на осмеяние порождает особого рода комическое, торжество которого в сталинизме служило как легитимации режима, так и укреплению культуры ресентимента: если самым тиражным советским журналом был «Крокодил», то самым популярным советским поэтом в 1920-е годы – Демьян Бедный, любимым газетным жанром 1930-х – фельетон, излюбленной формой у мастеров «художественного чтения» после войны были басни Сергея Михалкова, а самыми известными в стране художниками – карикатуристы от Кукрыниксов до Бориса Ефимова… Остается добавить, что самыми лакировочными советскими фильмами – от «Волги-Волги» до «Кубанских казаков» – были музыкальные кинокомедии.
Ставшая вершиной теории смеха в СССР бахтинская концепция карнавала превратилась в моральное основание советологически-интеллигентской картины героической борьбы диссидентствующей «смеховой культуры» (по Бахтину, глубоко народной!) с «нудительной серьезностью» сталинизма. Однако сегодня достаточно поменять предикаты описанной Бахтиным схемы, заменив сталинские догматы религиозно-охранительной риторикой – будь то патриотическая патетика современного российского режима, православная «нудительная серьезность» РПЦ или исламское морализаторство, дружно продвигающие средневековую архаику в современном обществе, – чтобы понять, что мы имеем дело не с оппозицией народ/режим, но с оппозицией либерализма популистской («народной», патриархальной, крестьянской) культуре, находящей близкой для себя антилиберальную архаику, продвигаемую режимом и религиозными обскурантами.
Аудитория Петросяна и Задорнова – это вчерашние зрители «Кубанских казаков»; аудитория российского государственного телевидения, изливающего сарказм в адрес осаждающих страну врагов, – это аудитория вчерашних потребителей Кукрыниксов и Бориса Ефимова. Вот почему столь важно понять, как сатира встроена в идеологический аппарат режима, служит ему, питает культуру ресентимента, чем она близка широким слоям населения, изливающим свою озлобленность и фрустрацию от неспособности модернизироваться и встроиться в современный мир в праведный гнев против кощунников или карикатуристов.
Современный карнавал так же далек от бахтинской схемы, как был далек от нее карнавал сталинский. Ведь Бахтин не мог помыслить себе «карнавал», внутренним содержанием которого были бы страх и ликование, а языком – спесивая издевка и злобная сатира на весь окружающий мир, растворяющие его в кислоте ресентимента. Вчера и сегодня этот карнавал власти был и остается орудием не освобождения, но устрашения. После пароксизмов ХХ века «народная культура» перестала восприниматься в качестве оппозиции несвободе. Будучи социальным феноменом, она рассматривается в паре со своим политическим эквивалентом – популизмом, опирающимся на патриархальную низовую культуру, то есть культуру вчерашних крестьян и освященную их «карнавальным мироощущением» архаику. В этом смысле, в основных своих проявлениях она воспринимается как прямой вызов либерализму и модерности, в основе которых лежит не плоская сатира, но глубокая ирония, чуждая как советскому, так и постсоветскому смеху. Будучи продуктом сомнения, ослабления или потери веры, она и является реальной оппозицией архаичной низовой культуре. Борясь с ней, современное средневековье борется за свое выживание, а потому отступать противоборствующим сторонам, по сути, некуда.
Культурные историки, обращающиеся к теме смеха, настаивают на необходимости изучения изменяющегося культурного и политического отношения к смеху, сдвигов в понимании того, что такое смех и остроумие. Они едины в том, что необходимо преодолеть транскультурный и внеисторический подход к смеху и юмору, который доминирует в работах теоретиков смеха[21]. Как замечает Стивен Халливел, «за отделение психологии от истории приходится платить. И когда речь идет о смехе, эта цена непомерно высока»[22].
Вот почему мы исходим из предпосылки о национальной и исторической специфичности смеха.
В последние 30 лет, – писал один из основателей новой культурной истории Питер Берк в начале 1990-х годов, – мы получили множество замечательных исторических исследований по темам, о которых прежде даже и не думали как об исторических – детство, смерть, безумие, климат, запахи, грязь и чистота, жесты, тело, чтение, речь и молчание. То, что прежде считалось неизменным, теперь рассматривается как культурная конструкция, подверженная вариациям во времени и пространстве[23].
И хотя в этом перечне отсутствует смех, он не только является легитимной темой новой культурной истории, но и не может более рассматриваться внеисторично, поскольку в различных социальных и политических средах выполняет разные (а часто и противоположные) функции и кардинально меняет свою природу, фактуру и формы. Как замечает по этому поводу Вик Гатрелл,
К счастью для смеха, большинство историков предпочитают писать истории страданий, боли и горя, поскольку ничто так не убивает смех, как его анализ. Тем не менее юмор – такой же законный предмет для историка, как и любой другой, и он позволяет нам говорить о новых и важных вещах. <…> рефлекс смеха контролируется психическими процессами, а психические процессы имеют историю. Предметы, над которыми люди считают возможным смеяться; кто из них смеется; как они смеются – насмешливо или сардонически (или сочувственно и добродушно); насколько они позволяют другим смеяться – все зависит от времени, пола, класса, места и культуры. И поскольку эти вопросы всегда регулировались моралистами, смех также был центральным в процессах, с помощью которых западные манеры дисциплинировались на протяжении веков. По всем этим причинам изучение смеха может привести нас к самой сердцевине изменяющихся взглядов, чувств и тревог поколений точно так же, как изучение страданий, политики, веры или искусства[24].
И действительно, в последние несколько десятилетий появился ряд первоклассных работ, посвященных культурной и интеллектуальной истории смеха[25], утвердивших смех, юмор, сатиру, карикатуру не только в качестве важного поля для исследования эмоций, телесности, визуальных и вербальных образов, языка и повседневности, но и в качестве важнейших факторов соответствующей политической культуры – как во времени, так и в пространстве, обладающих как национальным, так и историческим измерениями, которые не могут быть редуцированы и растворены в генерализирующих теориях. Каждая культура порождает свою специфическую рациональность, мораль, эстетику, выражающие себя в специфических символических формах и являющиеся продуктом национальной социально-политической истории.
Отсюда – другая современная тенденция в изучении смеха – интерес к политическим аспектам комического, актуализировавшийся обращением к проблеме смеха в постструктурализме, прежде всего в открывавшей новые пути работе Делеза и Гватари о Кафке, в которой, по остроумному замечанию Анки Парвулеску, авторы показали, что в той мере, в какой «все является смехом», «все является политикой»[26]. Это позволило увидеть в смехе его темную сторону. Одна из лучших работ о культурной и интеллектуальной истории смеха последних десятилетий – книга самой Анки Парвулеску «Смех: Заметки о страсти» – обозначила поворот в понимании смеха: «Говорить о смешном в двадцатом веке не значит предложить альтернативу столетию ужасов, войн и геноцида. На самом деле, в двадцатом веке смех часто представлялся как путь к ужасу»[27].
Лишь недавно эта темная сторона смеха стала интересовать и исследователей России: не смех над режимом, но смех самого режима. Появились работы по социологии советского смеха[28], затем несколько подборок статей о советском «официальном смехе»[29] и сопоставительных работ о «санкционированном юморе» в трех диктатурах[30]. Наконец, в 2018–2019 годах вышли сразу три книги об апроприированном государством советском смехе – историка Джонатана Ватерлоу и искусствоведов Анни Жерен и Джона Этти. Однако все три книги оказались за пределами нашей темы: книга Анни Жерен посвящена использованию смеха в ранней советской сатире (1920-е годы), книга Этти – главным образом, оттепельному «Крокодилу», книга Ватерлоу – функционированию антисоветского смеха[31]. Появление этих работ указывает на формирование научного интереса к смеху в условиях диктатуры. И не только как элемента контркультуры, но и как инструмента самой диктатуры.
Понятие «государственный смех» использовал Дмитрий Лихачев, описывая смеховую культуру эпохи Грозного и Петра. Может быть оттого, что он не считал этот феномен ключевым в «смеховом мире Древней Руси», он никак не объяснял этого понятия, и, судя по тому, что поставил это словосочетание в кавычки, оно казалось ему скорее языковым курьезом[32]. Для описания этого феномена Лихачев использовал понятие «смеховой шаблон»[33]. И здесь он исходил из ключевого для его концепции поэтики древнерусской литературы положения о том, что в этой литературе при отсутствии индивидуальных стилей существовали только жанровые[34], а потому «государственный смех» мог быть также только жанровым.
По мере сужения индивидуального начала в соцреализме и расширения влияния и места госсмеха в «смеховом мире» сталинизма жанровый принцип усиливается. Основные жанровые манифестации комического в сталинизме практически лишены индивидуального измерения. Если смех Булгакова отличим от смеха Олеши, а смех Маяковского от смеха Демьяна Бедного, то в сталинизме уже не важно, кто именно был автором того или иного фельетона (Леонид Ленч или Семен Нариньяни), сатирической пьесы (Николай Вирта или Андрей Макаенок) или карикатуры (Михаил Черемных или Юлий Ганф). Поэтому наш интерес сосредоточен на самой природе комического и особенностях его функционирования в различных жанрах.
Те формы и жанры комического, которые находятся в центре настоящей книги, не только позволяют лучше понять работу сталинского искусства, но приводят к пониманию сталинского субъекта путями, которые еще едва разведаны. На этих почти не хоженых путях можно увидеть такие важные аспекты сталинизма, которые скрыты от глаз на магистральных путях политической и социальной истории. Этим, в частности, объясняется то обстоятельство, что книга построена на сочетании исторического и жанрового принципов (первая часть). Другим важным фактором является природа использованных в сталинизме жанров комического. Одни из них, рассматриваемые во второй части книги, связаны с сатирическим ритуальным «смехом сверху» и литературной традицией (басня, фельетон, сатирическая пьеса); другие, напротив, – с жанрами низовой (массовой) культуры, «смеха снизу» (пословица, частушка, колхозная комедия, водевиль) и анализируются в третьей части.
В самой структуре книги происходит как бы распаковывание политико-эстетических форм и функций госсмеха. От политического смеха, рассматриваемого сквозь центральные события сталинизма (Большой террор, Великая Отечественная и холодная войны), где в смехе сверху мы имеем дело с прямой речью и оптикой власти, к несобственно-прямой речи власти, посредством которой сталинская культура формирует образ власти. Поскольку через этот смех сверху осуществлялась одна из ключевых стратегий сталинского режима по самолегитимации – конструирование собственного образа, его специфика прослеживается через трансформацию жанров сатиры (от басни и фельетона до сатирической комедии). В центре третьей части книги – процесс создания образа массы, какой ее хотела бы видеть власть. Эта косвенная речь массы раскрывается через стилизацию юмора в (квази)народных жанрах (от пословиц и поговорок до частушек и колхозных комедий). В этом смехе снизу с его апелляцией к фольклору легко прочитывается крестьянская генеалогия сталинской культуры: воображаемое новой пролетаризованной массы, хотя и подвергшейся поверхностной урбанизации, оставалось именно фольклорным. Различия между проекциями прямой, несобственно-прямой и косвенной речи позволяют эксплицировать структурные различия жанровых модификаций, трансмедиальный характер которых позволяет по-новому понять взаимодействие высокой, официальной и массовой культур в соцреализме и осмыслить сталинскую культуру как настоящий Gesamtkunstwerk – синтез смеха сверху и идущего от низовой культуры, которому посвящена последняя часть книги.
Вступление, 1, 6, 7, 9 и 11 главы написаны Евгением Добренко; 2, 3, 5, 8 и 10 главы написаны Натальей Джонссон-Скрадоль; глава 4 написана совместно.
Часть I
Смеющийся Левиафан
Глава 1
Смеховой мир сталинизма: судьба комического в героический век
Тот, на чьей стороне смех, не нуждается в доказательствах.
Теодор Адорно
Эстетика «радикальной народности»: Политические измерения
Ни одна эстетическая категория не привлекала к себе большего внимания философов и теоретиков искусства, чем комическое, – от Аристотеля до Канта, от Гоббса до Гегеля, от Шлегеля и Шеллинга до Шопенгауэра и Кьеркегора, от Жан-Поля и Бергсона до Ницше, Фрейда и Юнга. О смехе писали и крупнейшие советские гуманитарии и литературоведы – Юрий Тынянов и Борис Эйхенбаум, Виктор Шкловский и Владимир Пропп, Лев Выготский и Ольга Фрейденберг, Михаил Бахтин и Дмитрий Лихачев, Елизар Мелетинский и Арон Гуревич, Сергей Аверинцев и Юрий Лотман[35].
То обстоятельство, что ни героическое, ни трагическое, ни возвышенное не были предметом столь пристального интереса, объясняется не в последнюю очередь тем, что, помимо дразнящей и так и неразгаданной «загадки смеха», именно комическое содержит в себе вызов самому теоретическому дискурсу. Оно – своего рода остраненная теоретическая серьезность. Вскрывая комизм в сходстве и различиях, алогизмах, гротескных и иронических тропах и приемах, философ фактически занимается самоанализом и самокритикой, мета-описанием, обращая на себя аналитический и ироничный взор.
Ни одна другая эстетическая категория не дает платформы для мета-философствования – ни героика, ни трагизм, ни возвышенное. Более того, эти категории «высокой эстетики» в силу близости к ненавистной интеллектуалам мелодраме и апелляции не к разуму, но к чувствам являют собой зону риска, тая в себе самую большую опасность – опасность оказаться смешным. Остроумие, напротив, – сфера интеллектуального комфорта, где интеллектуал чувствует себя вполне дома. А занятие смехом – своего рода занятие техникой (интеллектуальной) безопасности.
Но как никакая другая эстетическая категория, кроме комического, не притягивает теоретиков больше, так ни одна из них, кроме комического, не показала свою сопротивляемость теоретизированию. Огромное большинство работ о смехе посвящено бесплодным классификациям принципов и приемов комического, их бесконечным типологиям на различных основаниях, нередко унылой и пустой систематизации, определениям, номенклатурам, каталогам разновидностей, порой натянутым и надуманным, изобретенным досужими классификаторами исключительно ради расположения каждого жизненного примера и художественного образца по соответствующим логическим гнездам. Ситуацию хорошо суммировал Владимир Пропп:
Первый и основной недостаток всех существующих теорий (особенно немецких) – это ужасающий абстракционизм, сплошная отвлеченность. Теории создаются безотносительно к какой бы то ни было реальной действительности. В большинстве случаев такие теории действительно представляют собой мертвые философемы, причем изложенные так тяжеловесно, что их иногда просто невозможно понять[36].
В 1956 году насчитывалось восемьдесят теорий смеха[37]. Спустя четверть века их число достигло двухсот (включая варианты)[38]. Спустя еще тридцать лет оно, вероятно, перевалило за три сотни. Эти теории уже сами классифицируются (социальные, психоаналитические, когнитивные, физиологические, коммуникативные, структурные, формальные и т. д.). При всех различиях они схожи в том, что чаще всего посвящены смеху вообще, редко обращены к теме национального смеха, в котором отражается некий национальный вневременной ментальный профиль, еще реже – к историческим модификациям смешного. Именно эти два аспекта будут в фокусе нашей книги. Обычно в таких внеисторических и вненациональных перечнях мелькают имена Гарпагона и Дон-Кихота, Хлестакова и Тартюфа, Фальстафа и Фигаро. Проблема большинства этих работ, пестрящих примерами от Аристофана и Лукиана до Гриммельсгаузена, Рабле и Стерна, от Сервантеса, Шекспира и Мольера до Свифта, Гейне и Доде, от Гоголя и Салтыкова-Щедрина до Маяковского и Ильфа и Петрова, состоит в том, что смех лишен здесь какого бы то ни было национально-исторического измерения.
Между тем смех национально и исторически специфичен. Различны основания смеха романского и германского средневековых миров, но еще более различны смех Древней Руси и смех западноевропейского Средневековья. Смех допетровской эпохи отличается от смеха XIX века. Смех внутри этой эпохи различен в аристократическом салоне и в вертепе. Смех – явление не только национальное (английский юмор отличается от французского), но и цивилизационное.
Блестящий исследователь комического близкий к Бахтину Лев Пумпянский проницательно заметил, что «рождение комедии есть доказательство полной фиктивности, т. е. глубоко эстетического, действительно гениального характера культуры. Создание комедии было поэтому уделом немногочисленных цивилизаций – тех, которые были наиболее глубоко историчны»[39]. Бесспорно, что сталинизм, породивший свою эстетику смеха (а комическое понимается нами как эстетическое измерение смешного), и был одной из таких цивилизаций, породивших оригинальную смеховую культуру.
Поскольку сталинизм был культурой популистской, предметом нашего интереса станет перекресток исторического и социального смеха. Читатель не найдет здесь ни классификаций, ни типологий, ни общих рассуждений о природе смешного, которые, при всем различии, едины в том, что пытаются объяснить, почему смешно, а не почему не смешно; «как сделано» смешное, а не как сделано несмешное; как смех подрывает власть и устои, но не как укрепляет их и становится одной из опор власти. Именно эти пропущенные наукой звенья и являются центральными в нашей книге.
Неудивительно, что книга Бахтина о Рабле, впервые соединившая смех и «народную культуру», открыла во второй половине ХХ века новые ракурсы чтения культурных текстов и указала на ключи к дешифровке поведенческих кодов прошлого. В отличие от предшественников, занимавшихся типологизацией и психологизацией смеха, Бахтин открыл новое измерение народной культуры, социологизировав и историзировав смех[40]. То немногое, что было сделано в плане рассмотрения советской смеховой культуры с тех пор, опиралось, однако, на некритическое восприятие бахтинской теории: сталинская культура если не игнорировалась, то читалась плоско-антисоветски как официозный квазигероический эпос, где «смеховой культуре» просто не было места. Для подобного чтения бахтинская теория карнавала подходила идеально: она фундировала советологически-интеллигентскую картину героической борьбы диссидентствующей «смеховой культуры» с «нудительной серьезностью» сталинских догматов и государственного насилия[41]. Хотя, как мы увидим, к сталинской культуре вся эта патетика отношения не имела.
Согласно Бахтину, карнавал разрушал (пусть и временно) «всемогущие социально-иерархические отношения». Бахтин утверждал, что карнавал
отменяет, прежде всего, иерархический строй и все связанные с ним формы страха, благоговения, пиетета, этикета и т. п., то есть все то, что определяется социально-иерархическим и всяким иным (в том числе и возрастным) неравенством людей. Отменяется всякая дистанция между людьми, и вступает в силу особая карнавальная категория – вольный фамильярный контакт между людьми. Это очень важный момент карнавального мироощущения. Люди, разделенные в жизни непроницаемыми иерархическими барьерами, вступают в вольный фамильярный контакт на карнавальной площади[42].
Бахтин писал о субверсивном смехе как о единственно аутентичном. Но из описанной им «народной смеховой культуры» феномен «тоталитарного смеха» понять нельзя. Между тем, как замечает Младен Долар, «смех сам по себе не должен быть субверсивным. Он также может быть очень консервативным»[43].
Разница между субверсивным и тоталитарным смехом (или госсмехом) такая же, как между антисоветским анекдотом и «Кубанскими казаками»: оба принадлежат к советской смеховой культуре, однако на этом их сходство исчерпывается. По всем внешним параметрам сталинизм предлагал зрителю карнавал: ликующие на площадях и побеждающие бюрократов массы. Но на этом сходство с бахтинским карнавалом и заканчивается: в бахтинской системе координат невозможно помыслить карнавал, целью которого было не отрицание, а утверждение социальной иерархии, укоренение социальной дистанции и классовых барьеров, легитимация законов, запретов и ограничений, «карнавал», внутренним содержанием которого были страх и ликование[44].
Далее, бахтинская теория «народно-смеховой культуры» исходит из резкого противопоставления культуры низов и верхов. Подобное разделение культуры на «официальную» и «народную» было в советской эстетике общим местом. В его основе лежала так называемая ленинская теория двух культур. В советской школе заучивались наизусть цитаты из ленинских «Критических заметок по национальному вопросу» (1913) о том, что «есть две национальные культуры в каждой национальной культуре. Есть великорусская культура Пуришкевичей, Гучковых и Струве, – но есть также великорусская культура, характеризуемая именами Чернышевского и Плеханова»[45]. При этом бахтинское разделение вписывалось как в эту официозную советскую модель культуры, так и в диссидентскую: в нем читались антисоветские аллюзии, а Бахтин квалифицировался как борец с советской ортодоксией.
Рассматривая книгу о Рабле как своего рода отражение эпохи террора, обычно указывают на то, что она является своеобразным ответом на конкретную политическую ситуацию.
Серьезность в классовой культуре, – утверждал Бахтин, – официальна, авторитарна, сочетается с насилием, запретами, ограничениями. В такой серьезности всегда есть элемент страха и устрашения […] Смех, напротив предполагал преодоление страха. Не существует запретов и ограничений, созданных смехом. Власть, насилие, авторитет никогда не говорят на языке смеха[46].
При чтении этих рассуждений о смехе (в особенности в той их части, где они выходят за рамки Средневековья и претендуют на широкие обобщения[47]) трудно поверить, что они писались в сталинской России, что все это говорилось в культурной ситуации, в эстетической среде, в окружении искусства, буквально залитых светом радости, улыбок, всенародного ликования («жить стало веселее»). Смех в сталинской (классовой) культуре был проводником и легитимацией насилия, запретов и ограничений. Он был орудием устрашения. Власть, насилие, авторитет, выражающие «народную», то есть патриархальную культуру, культуру вчерашних крестьян и освященные их «карнавальным мироощущением», говорили с ними и для них на языке смеха. Таким образом, «радикально народным» был не средневековый карнавал, предполагавший временность и знавший свои границы. Радикально народной становится власть, не противопоставляющая себя «народной культуре», но инкорпорирующая ее и адаптирующаяся под нее. Такими «радикально народными» были сталинизм и соцреалистическое искусство.
Бахтинская категорическая оппозиция двух культур сталкивается здесь с невозможностью (в отличие от Средневековья) противопоставить официальность и народность в Новое время, в эпоху «восстания масс», радикального популизма и массовых обществ (будь то фашизм, нацизм или сталинизм). Дело здесь в изменившемся принципе легитимности: если в Средневековье легитимация власти происходила от Бога, то Новое время, эпоха радикальной демократизации и обожествления «Народа», не нуждается в Боге. Именно Народ является источником и окончательным референтом власти и террора, идеологически оформленного и политически институализированного режимом. «Народ» и есть выразитель последней воли, а потому он становится субъектом, равным Богу и единственным объектом культа. Это, как точно замечает Михаил Рыклин, атеизм террора, опирающегося на коллективные тела и заключающего Бога в себе самом в виде народа, – «атеизм новой религии, способной питать собой социальную жизнь, основанную на насилии»[48].
В ситуации, когда богом стали массы, именем которых легитимируется политический строй, искусство обретает новые основания. В этом контексте сталинское искусство соцреализма было куда более «радикально народным», чем средневековый карнавал, который существовал в строгих «календарных рамках» и протекал в пространственной и временнóй резервации: «народная культура» в «Свинарке и пастухе» и «карнавал» в «Волге-Волге» не знали ни пространственных границ, ни временных рамок – они текли вне времени по всей стране – с севера на юг (в фильме Пырьева) и с востока на запад (в фильме Александрова). Сталинизм не только использовал, включал в себя низовую культуру, не только ориентировался на горизонт ожиданий вчерашних крестьян, но поднимал эти культуру и эстетику патриархального общества до государственного уровня, придавал им идеологический вес, эстетическую материальность и социальную акустику – медиализировал, институционализировал, инструментализировал, историзировал и бесконечно воспроизводил. Соцреализм, таким образом, творил сам легитимирующий политический субъект – «народные массы». В своей радикальности такая практика просто несопоставима со средневековым карнавалом.
Тему тоталитарной народности бахтинского карнавала развил Борис Гройс в эссе «Тоталитаризм и карнавал» (в немецком оригинале 1989 года название было куда более провокационным: «Карнавал жестокости. „Эстетическое оправдание“ сталинизма Бахтиным») он сформулировал основные претензии к идеям Бахтина с точки зрения своеобразного «постмодернистского гуманизма»[49]. Связав две главные теории Бахтина (полифонического романа и карнавала) в единую теорию тоталитарного коллективного тела, Гройс довел ее до противоположности. Политические импликации бахтинской мысли, согласно Гройсу, указывают на то, что Бахтина никак нельзя рассматривать в качестве «последовательно антитоталитарного мыслителя». Напротив, он был одним из тех, кто занимался «эстетическим оправданием эпохи». «Бахтинский карнавал ужасен – не дай Бог попасть в него», в нем – отрицание личной суверенности, гимн смерти всего индивидуального, радость по поводу «победы чисто материального, телесного принципа над всем трансцендентным, идеальным, индивидуально бессмертным». В нем – торжество
народного или космического, «телесного» идиотизма над мучительными корчами терзаемого индивида, который кажется ему смешным в своей одинокой беспомощности. Это смех, рожденный примитивной верой в то, что народ есть нечто количественно, материально большее, нежели индивидуум, а мир – нечто большее, нежели народ, т. е. именно верой в истину тоталитаризма […] личность не имеет в карнавале никаких шансов, кроме как осознать свою собственную гибель в качестве позитивной ценности[50].
Придя к заключению, что «целью Бахтина была вовсе не демократическая критика Революции и сталинского террора, a их теоретическое оправдание», Гройс завершал свои инвективы указанием на то, что бахтинская теория воспроизводит
атмосферу сталинского террора с его неправдоподобными восхвалениями и поношениями, а также постоянно неожиданными увенчаниями – развенчаниями, имевшими безусловно карнавальный характер. (Сам Сталин тогда говорил, что «жить стало веселее», и его любимым фильмом, как известно, был сугубо карнавальный фильм «Волга-Волга».) О специфической веселости 30-x годов сохранилось множество свидетельств. Характерно, в частности, что показательные процессы и, особенно, вынесение приговоров часто сопровождались тогда смехом публики. На сталинский контекст указывает также то обстоятельство, что и полифонический роман, и карнавальное действо, имея якобы народное происхождение, все же инсценируются у Бахтина конкретным суперавтором – Достоевским или Рабле, что косвенно указывает на автора соответствующего «жизненного текста», которым мог быть только Сталин[51].
Критика Гройса, дружно звучавшая со стороны бахтинистов, упускала, однако, главный дефект его позиции: важно не то, был ли Бахтин в своей теории карнавала «крипто-сталинистом»[52] (именно об этом – все эссе Гройса, в принципе чуждого моральных (о)суждений), но то, что в действительности бахтинская теория как раз не соответствовала сталинской культуре. С ее помощью сталинская культура не может быть описана, поскольку Бахтин видел «народную культуру» исключительно в оппозиции официальной, тогда как сталинизм (и шире – культуры массовых обществ ХХ века) попросту снимает это различие, инкорпорируя народную культуру и адаптируясь под нее.
Не в том даже дело, насколько адекватно бахтинская теория «народной смеховой культуры» описывает средневековый мир (заметим попутно, что Арон Гуревич, полемизируя с тезисом Бахтина о карнавально-смеховой природе средневековой народной культуры, подчеркивал теснейшую связь в ней смеха и страха[53]). Куда важнее то, что бахтинская теория амбивалентного смеха, построенная на «невстречающихся» оппозициях, оказывается бессильной описать смеховую культуру массового общества, в котором смех (и шире – «народная культура») давно стал частью официальной культуры. Это искусство просто не могло бы выполнять своих функций, будь оно основано на постулируемом Бахтиным расколе «низовой» и «официальной» культур. Изображаемые в нем массы не просто монументальны. Они застывают в момент ликования, торжества, радости, веселья, песни, пляски. Эти образы массы не были просто навязаны или «спущены сверху». Они были взяты из самой «низовой культуры», они питались желанием масс видеть себя возвышенными, облагороженными – в полном соответствии с массовым же вкусом. Именно их в промышленных количествах и производило сталинское искусство.
Бахтинская теория игнорирует то, что в сталинизме находится на самом видном месте. Исходя из нее, просто нельзя понять, что такое песни Дунаевского, фильмы Александрова, радостный мир спортивных парадов, оптимистически-раешный строй советской поэзии (точно, что не феномены «нудительной серьезности»!) – все то, что окружало Бахтина в то именно время, когда он создавал свою теорию. Кажется, что он просто не слышал, не видел, не знал этой культуры вокруг себя. Его теория поражает не тем, что она якобы «отражает» сталинизм, как утверждает Гройс, но как раз наоборот – абсолютной слепотой, глухотой и непониманием сталинизма.
Было бы несправедливо винить в этом Бахтина – автора книги о культуре Средневековья и Ренессанса: он не занимался советской культурой. Однако Бахтин – автор теории, претендующей на универсальность, – являет в этом смысле образец той именно интеллигентской зашоренности, когда не сконструированная, не идеально-утопическая и не чужая, но своя, реальная, здесь-и-сейчас протекающая «народная культура» попросту игнорируется, с презрением списывается как «масскульт», а всякие занятия ею третируются как недостойные серьезной науки. Именно это объединяет советскую интеллигентскую мифологию – в широком диапазоне от формалистов до Бахтина и структуралистов, идеологические фобии которых проявились в этом игнорировании реальной «народной культуры» наиболее зримо. Как представляется, здесь сказывались классовые фобии советской интеллигенции.
После появления книги Бахтина о «карнавальности» в русской культуре ХХ века не утихают споры. Одни доказывают, что ее расцвет приходится на эпоху Серебряного века с его интересом к арлекинаде, эксцентрике, балагану и «низким» жанрам[54]. Другие утверждают, что ее пиком стали 1920-е годы, революционная культура[55]. Но все сходятся на том, что сталинизм – пора угасания карнавальности. Такое восприятие сталинского искусства – аберрация, основанная на взгляде на него как на искусство «официоза». Под сталинским искусством обычно понимается героизация, монументализация, ориентация на классические формы, но совершенно игнорируется его популистская природа. Будучи сориентированным на массового потребителя – вчерашнего крестьянина с его представления о «красивом», оно стало ответом на массовый запрос, эстетически оформленным массовым вкусом, соответствующим горизонту ожидания своего потребителя.
Типичное рассуждение о сталинской культуре таково:
…по карнавальным законам, «официальная» и «неофициальная» сферы жизни равноправны и лишь приурочены к разному времени и месту, тогда как в конце 30-х годов они становятся в Советском Союзе почти исключающими друг друга. Кроме того, оказывается отверженным, все более вытесняется именно то направление в искусстве, которое как раз и содействовало возрождению карнавала в России[56].
В этой проекции соцреализм – это идеологическая жвачка, скучная дидактика, далекая от реальных вкусов «простого человека» и навязанная ему. Именно так он оценивался в западной советологии и советском диссидентском литературоведении в те редкие моменты, когда они, отвлекшись от Пушкина, Блока и Пастернака, бросали презрительный взгляд на убогие соцреалистические поделки. Вариацией на эту тему стало противопоставление неких реальных вкусов масс якобы «навязанной сверху» дидактике. Этот взгляд, как всегда, предельно радикально обозначил Борис Гройс:
30–40-e годы в Советском Союзе были всем чем угодно, только не временем свободного и беспрепятственного проявления настоящих вкусов масс, которые, несомненно, и в то время склонялись в сторону голливудских кинокомедий, джаза, романов из «красивой жизни» и т. п., но только не в сторону социалистического реализма, который был призван массы воспитывать и потому, в первую очередь, отпугивал их своим менторским тоном, отсутствием развлекательности и полным отрывом от реальной жизни, по радикальности не уступавшим «Черному квадрату» Малевича[57].
Однако соцреализм отнюдь не был чужд ни голливудских кинокомедий (а чем, собственно, были кинокомедии Александрова, Пырьева или Юдина?), ни легкой запоминающейся музыки и джаза (а чем иным были песни Дунаевского и джаз Утесова?), ни тем более романов из «красивой жизни» (по части описания «красивой жизни» советская лакировочная литература не знает себе равных). Более того, этот соцреалистический популизм не был какой-то периферией «парадного» (официозного) соцреализма, а кинорежиссеры Александров и Пырьев, композиторы Дунаевский и Захаров, поэты Исаковский и Твардовский, писательницы Николаева и Коптяева, актеры Жаров и Чирков, актрисы Орлова и Ладынина становились лауреатами многочисленных Сталинских премий. Создававшаяся ими популистская версия соцреализма была полноправной частью парадного («официозного») соцреализма. Как напоминает М. Чегодаева, картина Федора Решетникова «Опять двойка» популяризировалась и тиражировалась никак не менее, чем картина Федора Шурпина «Утро нашей Родины»[58]. Эти два типа соцреализма создавались одними и теми же авторами (так, Симонов писал в одно и то же время «Жди меня» и «Убей его!») и нередко неразделимы в одном произведении – будь то фильм С. Эйзенштейна «Александр Невский», поэма А. Твардовского «Василий Теркин», роман М. Шолохова «Поднятая целина» или «Песня о встречном» Д. Шостаковича и Б. Корнилова. Нигде здесь соцреализм не был простой дидактикой. Прокламируемая им «истинная народность» – оборотная (патриархальная) сторона «буржуазной массовой культуры». Обе, несомненно, «принадлежат народу». Только вторая видит в нем лишь потребителя, а первая – еще и конструируемый объект. Разница принципиальная.
Из противопоставления «масскульта» официозу вырастает и другой интеллигентский миф – о непричастности великих мастеров советского искусства к производству соцреализма (коль скоро последний был сплошь «масскультом»). Эта позиция была хорошо сформулирована Чегодаевой:
Тоталитарная сталинская художественная культура была на девять десятых «масскультом». Под кличкой «социалистический реализм» она утверждалась в качестве высочайшей вершины мирового искусства всех времен и народов. Песенка Захарова на слова Исаковского «И кто ж его знает, чего он моргает» в исполнении хора имени Пятницкого учила музыкальной грамоте Шостаковича и Прокофьева. Утвердившийся во главе Академии художеств, прибравший к рукам всю власть над изобразительным искусством АХРР в бессильной злобе срывал с музейных стен Ван Гога и Сезанна[59].
Дело, однако, в том, что принадлежавшие «высокой культуре» Шостакович и Прокофьев, Эйзенштейн и Вертов, Жолтовский и Щусев создавали образцовые произведения сталинской культуры. Оборотной стороной этой интеллигентской «элитарной» мифологии была интеллигентская же «народническая» мифология (бахтинская теория смеховой культуры, несомненно, относилась именно к ней). Со всеми другими их объединял взгляд на соцреалистическое искусство как на искусство скучное, «серьезное», говоря словами Гройса, «отпугивающее своим менторским тоном», искусство, из которого
изгонялись шутки, трюки, смешинки – вольный язык лубка и балагана. Цензорами и редакторами последовательно, упорно, умело изгонялась народная стихия. Да, – утверждала Нея Зоркая, – в государстве победившего народа государственная идеология истребляла народную стихию. Вместе с наследием «позорного и постыдного десятилетия в истории русской интеллигенции», как именовался в советской историографии «русский Серебряный век», выбрасывалась на свалку лубочная, фольклорная культура этого периода[60].
Но поскольку последняя неистребима,
лубок (в широком смысле) исподволь проникал в виде троянского коня в торжествующую эстетику «социалистического реализма». Структуру и поэтику старинной «разбойничьей» легко найдем в «Чапаеве». Музыкальные «колхозные» комедии Ивана Пырьева – нормальные народные фарсы, слегка приправленные темами соцсоревнования и деревенского изобилия в реальных условиях тотального голода начала 1930-х годов, катастрофического на Украине – месте действия кинокомедии «Богатая невеста»[61].
О сказочности пырьевских картин писала и Майя Туровская[62]. Этот пласт легко читается в самой сюжетике этих фильмов, и вряд ли можно спорить с тем, что
героиня, будь она знатная трактористка-орденоносец или прославившаяся на весь СССР свинарка, выполняла функцию некоей Коломбины из русских балаганных представлений-«арлекинад» 1910-х годов, в которую влюблены одновременно прекрасный юноша и противный богатый старик-ухажер (вариант: комичный уродливый недотепа). Эти балаганные комедийные сюжеты, пришедшие из Европы в XIX веке, адаптировались и закрепились на российской почве. Разумеется, традиционные персонажи русского балагана прошли до пырьевских кинолент путем метаморфоз «осовременивания»[63].
Что представляется в высшей степени спорным в этих широко распространенных суждениях, так это сама исходная посылка: в противовес утверждениям о том, что «тоталитарная сталинская художественная культура была на девять десятых „масскультом“», здесь утверждается нечто прямо противоположное: якобы «низовая культура» проникала в культуру сталинизма «в виде троянского коня». В этой перспективе «случайностями» оказываются тотальная фольклоризация советского искусства под руководством Горького в 1930-е годы, соцреалистическая «народность», борьба с формализмом (который и был настоящим «троянским конем» в соцреализме), ориентация на стилевые конвенции традиционного «реализма»… Однако советская колхозная поэма писалась раешником[64], а «народническое» направление доминировало и в литературе (достаточно вспомнить дискуссию о Маяковском, в ходе которой выяснилось, что «лучший, талантливейший поэт советской эпохи» не имел в ней наследников), и в кино (начиная с «кинематографии миллионов» Б. Шумяцкого). В искаженной исследовательской проекции «высокая» («элитарная»?) сталинская культура третировала «низовую», тогда как в реальности все обстояло ровно наоборот: гостем в соцреализме был не композитор-хоровик Захаров, но композитор Шостакович; не кинорежиссер-сказочник Пырьев, но кинорежиссер Эйзенштейн; не поэт-песенник Исаковский, но поэт Пастернак… Доктор Живаго был здесь (незваным) гостем, а хозяевами – Василий Теркин и дед Щукарь.
Бесспорно, что именно масса задает параметры госсмеха. Она же является источником террора. В той мере, в какой смех «народен», он тоталитарен, будучи одной из террористических практик. «Народная» власть, будучи «машиной кодирования потоков желаний массы»[65], институционализирует, политически инструментализирует, эстетически и идеологически оформляет и обслуживает их. В этом смысле соцреализм есть радикально народная культура, которая понимается как культура, якобы навязанная сверху, только благодаря инерции интеллигентской (диссидентской, советологической, эмигрантской) мифологии о «неучастии» и «непотреблении» этой культуры, якобы абсолютно далекой от потребителей.
«Народные массы» были не только участниками, но и соучастниками создания сталинской культуры. Поэтому соцреализм может рассматриваться как матрица советского массового политического бессознательного; по нему можно изучать и эстетическое измерение этого бессознательного. Тоталитарная культура – это и есть «народная культура» Нового времени, которая не может рассматриваться в традиционной оппозиции «народная» vs «официальная», но лишь в категориях присущей ей «радикальной народности», то есть вне подобной оппозиции. Если в описываемую Бахтиным эпоху Средневековья и Ренессанса «народная культура» противостояла официальной, то в Новое время она превратилась в рудимент патриархальности, оказавшись полем борьбы крестьянской коллективистской культуры с наступающей модернизацией, основанной на индивидуализме и интеллектуализме.
Это, кстати, проясняет вопрос о статусе пародии в смеховой культуре. Согласно Бахтину, при всей «подлинности», «вторая жизнь, второй мир народной культуры строится в известной мере как пародия на обычную»[66]. Иначе говоря, карнавальная жизнь, будучи пародией, еще и обладает сущностной подлинностью того, пародией чего она является. Мысль эта взята Бахтиным у О. М. Фрейденберг, которая утверждала, что этот пародийный двойнический аспект имеет отрицательный, «нарушительный и мнимый» характер, заключающийся в повторении только внешней формы, без подлинной сущности явления. Но, как верно заключает Рюмина, ни о какой самостоятельности и «подлинности» этого «второго мира, на чем базируется весь пафос книги Бахтина, речи быть не может, наоборот, О. М. Фрейденберг подчеркивала его мнимый, зависимый и „изнаночный“ характер»[67]. Идея Бахтина о том, что пародия может быть самодостаточной, продолжает Рюмина, абсурдна, поскольку пародия по определению «паразитирует» на том, что пародирует, и самостоятельной субстанциально быть не может, то есть сущностной ценности не имеет, потому она и «„тень“ и „изнанка“ чего-либо»[68]. Одновременно просто нельзя обладать подлинной сущностью и быть пародией. В этом смысле, бахтинский карнавал – феномен «несамостоятельный, вторичный, производный», имеющий «паразитарную» природу[69].
«Народная культура» эгалитарна, безлична и коллективистична, ее пережитком в Новое время является культура новых же «социальных низов» – прежде всего, культура крестьянская и органически связанная с ней культура слободы, городских окраин. Эта культура отличается эстетическим консерватизмом и конвенциальностью. К сталинскому карнавалу этот момент имеет прямое отношение: в отличие от бахтинского карнавала, «народная культура», будучи основой соцреализма, ничего не пародирует, то есть, в отличие от бахтинского, сталинский карнавал не является пародией. Он первичен.
«Русский смех» и национальные предпосылки сталинской народности
Ключевой категорией бахтинской теории карнавала является понятие амбивалентности (по сути, это была карнавальная версия другого центрального понятия Бахтина – романной полифонии). Но такой же мнимой, какой являлась «сущностная пародийность» карнавала, была и его «абсолютная амбивалентность». Хотя Бахтин пишет о карнавале, в котором сочетаются смерть и возрождение, все же, как точно заметила Рюмина,
…гибель, смерть, отрицание, разрушение и т. д. абсолютны и реальны, а рождение нового, возрождение, жизнь, расцвет и т. д. относительны и призрачны. То есть в «амбивалентности» преобладает отрицание над утверждением, минус над плюсом. A если точнее, то «амбивалентность» предполагает реальность отрицания, негатива, разрушения, смерти и т. д. при видимости утверждения, позитива, возрождения, жизни и т. д.[70]
Ничего подобного нельзя сказать о сталинском карнавале, где силы разрушения и смерти находятся за пределами советского мира (будь то внутренний враг или внешний – фашисты, «поджигатели войны» и т. д.). Никогда эти силы не равноценны «силам добра». В основе идеи карнавала лежит превращенная религиозность, основанная на ясном различении позитивного и негативного, отрицающем всякую амбивалентность[71].
Не случайно основные споры в связи с идеей карнавала развернулись вокруг религиозных интерпретаций бахтинских построений. Не только теоретические, но и исторические основания бахтинской концепции карнавала вызвали серьезные дискуссии. Суммируя их, Рюмина замечает: согласно Бахтину,
официальные в средние века в Европе христианство и основанная на нем культура никак не могли иметь народный характер. Но ведь это не так. Общеизвестно, что в средние века христианство пронизывало вообще все сферы жизни европейцев, от обыденного быта до праздников, от мира до войны всегда и во всех слоях населения. Любой учебник по истории средневековья содержит этому множество примеров, от религиозного народного воодушевления в кризисные периоды войн и эпидемий, вылившегося даже в форму крестовых походов, до обыденной жизни, цикл и ритм которой до мелочей определялся христианскими ценностями. Как «официальный» план культуры в средние века, так и «неофициальный» были христианскими[72].
Можно поэтому помыслить внецерковность карнавальных форм, но никак не их внерелигиозность. Здесь содержится и ответ на вопрос о природе советского карнавала: полагать, что в сталинизме имелись сферы, находившиеся в некоем идеальном пространстве незараженной советской идеологией «народной культуры» – сугубо антисоветской, диссидентской и пародирующей сталинизм – все равно, что рассуждать о «внерелигиозности» средневекового человека.
Этот религиозный аспект важен для понимания специфики так называемого русского смеха, частным (хотя и радикальным) случаем которого является советский смех. Разумеется, соотнесенность идеи карнавала с христианством в атеистическом государстве имела свою специфику. Несомненно также, что опыт сталинизма с его превращенной религиозностью (разрушение ритуала при сохранении религиозного сознания, в полном соответствии с которым развивалась советская эсхатология, строился культ вождя и т. д.) наложил отпечаток на бахтинские взгляды. Как точно заметил по этому поводу В. Щукин, «создатель концепции карнавала берет от христианства очень многое, но это многое – то, что роднит его с язычеством. И, добавлю, с той специфической формой христианства, которое можно определить как московское православие и позднейшее старообрядчество»[73].
Специфика «русского смеха» определялась резко негативным отношением к нему в православии, где смех – это грех. Хохочущий дьявол, кощунствующий черт назывался в России шутом. С этим был связан нравственный запрет на смех в России («Смехи да хихи введут во грехи», «Где грех, там и смех», «В чем живет смех, в том и грех», «Сколько смеха, столько греха», «Смех наводит на грех» и т. д.). «Святость допускает и аскетическую суровость, и благостную улыбку, но исключает смех», – замечал Лотман[74]. О травле скоморохов на Руси написано немало. Особый случай – юродство как презрение к социальным нормам, антиповедение[75]. В советской культуре юродство становится бранным словом. Ему нет места в сталинизме (неслучайно здесь Толстой решительно предпочитается Достоевскому).
В смехе традиционно акцентируется лишь один – «освобождающий» – аспект. Ф. Шеллинг утверждал: «Как греческая трагедия в своем вершинном виде провозглашает принцип высшей нравственности, так же точно […] комедия выражает предел мыслимой в государстве свободы»[76]. Верно, однако, и то, что смех связан с несвободой.
О предложенной Аверинцевым в статье «Бахтин и русское отношение к смеху» формуле «спокойное пользование дозволенным» Козинцев заметил, что она «в принципе оксюморонна. Сколь бы узаконенным ни было место смеха в культуре, как бы институциализированным ни был его контекст, непременным условием самого смехового акта, стихийного и негативистстического по своей сути, является преодоление некоторого внутреннего запрета»[77]. Однако стоит помыслить ситуацию, в которой смех сам является формой запрета.
Полемизируя с Бахтиным, С. Аверинцев замечал, что смех есть «переход […] от некоторой несвободы к некоторой свободе». И тут же уточнял: «переход к свободе по определению – не то же самое, что свобода, что пребывание „в“ свободе. Смех – это не свобода, а освобождение»[78]. Объясняя эту коллизию, Аверинцев указывал на то, что смех
…по определению предполагает несвободу как свой исходный пункт и свое условие. Свободный в освобождении не нуждается; освобождается тот, кто еще не свободен. Мудреца всегда труднее рассмешить, чем простака, и это потому, что мудрец в отношении большего количества частных случаев внутренней несвободы уже перешел черту освобождения, черту смеха, уже находится за порогом.
Этим, между прочим, и объясняется то, почему сталинская культура была столь «смешлива».
Хотя Аверинцев не пользовался категориями, которыми оперировал в XIX веке Чернышевский, рассуждая о «возвышенной» и «благородной» природе людей, понимающих юмор, но говорил о мудрецах и простаках, социология здесь та же: простак менее свободен, чем мудрец; культура, ориентирующаяся на «простаков» (то есть на вчерашних крестьян), чтобы быть функциональной в обществе, находящемся в процессе модернизационного сдвига, но все еще глубоко патриархальном (и потому несвободном), обречена на производство дедов Щукарей и пырьевских «Свинарок и пастухов». Массовым их производством она и занималась. И это – материальное доказательство того, что смех связан не только со свободой, но и с несвободой.
Аверинцев формулирует эту мысль, исходя из религиозных посылок: «предание, согласно которому Христос никогда не смеялся, с точки зрения философии смеха представляется достаточно логичным и убедительным. В точке абсолютной свободы смех невозможен, ибо излишен». Следуя этой логике, можно сказать, что в точке абсолютной несвободы (а Россия проходила именно такую точку своей истории в сталинскую эпоху) смех не только возможен, но абсолютно необходим. Более того, культура несвободы пропитана им.
Из рассуждений Аверинцева также можно понять, почему столь чужд сталинизму был юмор: «Если смеховой экстаз соответствует освобождению, юмор соответствует суверенному пользованию свободой». Такой свободой в Советской стране мог пользоваться только сам Сталин, черный юмор которого был обусловлен его социальным происхождением, воспитанием, психологическим профилем и ментальным горизонтом.
В одном лишь смысле сталинский карнавал похож на бахтинский: в нем тоже смеются, когда можно, смеются с разрешения. С той, впрочем, разницей, что в сталинском карнавале смеются еще и над тем, что разрешено. Здесь, однако, имеется и компенсация за контроль над объектом смеха: тогда как западный карнавал – феномен календарный, в нем смеются лишь в специально отведенное для этого время[79], сталинский, напротив, не имел ни пространственных, ни временных границ – в нем смеются везде и всегда: на партийных съездах и на киноэкранах, на демонстрациях и на сценах колхозных клубов, на страницах газет, в поэмах и романах.
Вопрос о степени свободы в смехе позволил Аверинцеву усомниться в самом основании теории Бахтина, который писал:
Понимали, что за смехом никогда не таится насилие, что смех не воздвигает костров, что лицемерие и обман никогда не смеются, а надевают серьезную маску, что смех не создает догматов и не может быть авторитарным, что смех знаменует не страх, а сознание силы, что смех связан с производительным актом, рождением, обновлением, плодородием, изобилием, едой и питьем, с земным бессмертием народа, что наконец смех связан с будущим, с новым, с грядущим, очищает ему дорогу[80].
Комментируя эти «постулаты символа веры» Бахтина, «высказанные на одной интонации непререкаемости», Аверинцев замечал, что
смехом можно заткнуть рот как кляпом […] Террор смеха не только успешно заменяет репрессии там, где последние почему-либо неприменимы, но не менее успешно сотрудничает с террором репрессивным там, где тот применим. «Смех не воздвигает костров» – что сказать по этому поводу? Костры вообще воздвигаются людьми, а не олицетворенными общими понятиями; персонификациям дано действовать самостоятельно лишь в мире метафор, в риторике и поэзии. Но вот когда костер воздвигнут, смех возле него звучит частенько, и смех этот включен в инквизиторский замысел: потешные колпаки на головах жертв и прочие смеховые аксессуары – необходимая принадлежность аутодафе.
«За смехом никогда не таится насилие» – как странно, что Бахтин сделал это категорическое утверждение! Вся история буквально вопиет против него; примеров противоположного так много, что нет сил выбирать наиболее яркие[81].
Обращаясь к монументальной фигуре «карнавализатора» Ивана Грозного, Аверинцев заключал: «в начале начал всяческой „карнавализации“ – кровь». И, наконец, прямо апеллировал к советской истории:
Иван Грозный был, как известно, образцом для Сталина; и сталинский режим просто не мог бы функционировать без своего «карнавала» – без игры с амбивалентными фигурами народного воображения, без гробианского задора прессы, без психологически точно рассчитанного эффекта нескончаемых и непредсказуемых поворотов колеса фортуны. Да и раньше, в 20-е годы, чем не карнавал – суд над Богом на комсомольских собраниях? Сколько было молодого, краснощекого, физкультурного смеха, пробовавшего крепкие зубы на ценностях «старого мира»![82]
Мыслитель последней трети ХХ века, Аверинцев хорошо понимал, что смех был куда более сложным инструментом, чем просто продуктом «народной стихии», что тоталитаризм хорошо знал цену «неготовому, незамкнутому, пластичному» и был заинтересован в их утрировании и сохранении:
Готовым он считает только себя, точнее атрибут непререкаемости, каждое мгновение присущий волеизъявлению «вождя»; содержание волеизъявлений импровизационно. Действительность должна быть пластичной, чтобы ее можно было взять и перекраивать. Люди должны быть неготовыми, несовершеннолетними, в становлении, чтобы их можно было воспитывать и перевоспитывать, «перековывать»; с ними нечего считаться, их нечего принимать всерьез, но им не следует унывать, потому что у них все впереди – как у детей[83].
С детством их должен был сближать страх, иллюзию преодоления которого предлагал смех и карнавал. Связь смеха со страхом отмечена давно. Именно через страх объяснял смех Ницше. Его иррациональная трактовка комического основана на том, что природа смеха обусловливается атавизмом страха: всегдашняя готовность к борьбе и смерти порождала страх, поэтому всякий раз, когда человеку удавалось вырваться из объятий опасности и страха, он «становился веселым, приходил в состояние, противоположное страху. Этот переход от мгновенного страха к краткому веселью зовется комическим», – утверждал Ницше[84].
Шопенгауэр видел в комическом средство вырваться из-под гнета разума, Фрейд усматривал в остроумии возможность преодоления преград, возведенных логикой и моралью, а Бахтин – способ преодоления пиетета и страха… Этим традициям нередко слепо следуют современные исследователи, не учитывая того, что смех и сам может быть продуктом рациональной симуляции, логики, морали, средством утверждения пиетета, страха и укрепления социальных ролей.
Показательны в этой связи размышления Ю. Лотмана о замечании Д. Лихачева о том, что в России смешно не значит не страшно: в западноевропейском карнавале действует формула «Смешно – значит не страшно», поскольку смех выводит человека за пределы средневекового мира, где он делается жертвой социальных и религиозных «страхов» (запретов). В русском смехе – «смешно и страшно». Игра не выводит за пределы мира как такового, а позволяет проникнуть в его заповеданные области, туда, где серьезное пребывание равносильно гибели. Поэтому она всегда – игра, смешная и опасная одновременно[85]. Таким образом, главное различие между западноевропейским и восточноевропейским пониманием карнавала лежало в том, что в западной культуре допускался временный выход из обязательного социального поведения и наступал смеховой катарсис серьезного средневекового мира, а в православной культуре средневековой Восточной Европы происходило прямо противоположное: «Разрешение в определенные сроки на карнавальное поведение связывалось с верой в то, что само это поведение остается греховным». Поэтому, замечал Лотман, если у Бахтина смех отменяет страх, то у Гоголя «смех подразумевает страх»: «вывороченный наизнанку мир масок и ряженых смешон и ужасен одновременно». Таким образом, Гоголь, с одной стороны, «стремился преодолеть серьезность литургического отношения к искусству» через комизм и театральность. С другой стороны, смех «вызывал у Гоголя ужас», снять который «он стремился серьезной культурой утопии и проповеди»[86]. Еще дальше пошел А. Козинцев, заключивший, что «как православный человек с вполне архаическим образом мыслей, Гоголь был связан внутренним запретом на смех»[87]. Это подводит нас к пониманию специфики так называемого русского смеха.
После выхода книги Д. С. Лихачева и А. М. Панченко «Смеховой мир Древней Руси» (Л., 1976) Ю. Лотман и Б. Успенский выступили с полемической рецензией, где, помимо прочего, оспаривали тезис о том, что в Древней Руси существовали «смеховой мир» и «смеховая культура», сопоставимые с западными, и главное, что описанные в книге древнерусские феномены не имели «смехового» характера, то есть не были достаточно «универсальны» и «амбивалентны», не выходили за пределы церковного, религиозного мира[88]. В этом смысле наличие в сталинизме «смеховой культуры» представляется бесспорным. Однако сталинская культура пронизана особого рода смехом, основанием которого являлась «народная культура», понимаемая не как (нео)народнический конструкт некоего «народного лада» и не как некий композит якобы «народных черт» (доброта, душевность, широта и т. п. добродетели), но как совокупность массовых эстетических предпочтений и горизонт ожиданий в сфере искусства, вплоть до политической культуры, которая во многом определяется как исторически непреодоленными пережитками патриархальности, так и внушенными населению комплексами элит (антизападничество, этатизм, почвенничество).
Бахтин идеализировал смех, видя в нем всецело утверждающий, позитивный характер, средство торжества свободы и победы над насилием и страхом. Он мыслил некий смех без насмешки. Но поскольку всякая пародия содержит элемент насмешки, его карнавальный народный смех – утопия. Бахтин утверждал, что обличающий смех сатиры – признак распада и продукт разложения некоего аутентичного («подлинного») комизма «народно-смеховой культуры», хотя работы антропологов показывают, что это не так: насмешливый смех отличался от дружелюбного уже на родоплеменной стадии развития общества. Это, между прочим, соответствует пониманию смеха Фрейдом, который рассматривал шутки как социально приемлемое средство агрессивных и враждебных побуждений.
В ничтожестве сатирических персонажей сатира, подобно героике, утверждает «авторитарную незыблемость истины»[89] и устоев социального миропорядка: «Фактически сатира исходит из героической личности как актуальной духовной потребности общества, но реализует ее в „безгеройной“ актуальной ситуации»[90]. Вот почему именно сатира была близка героически-эпическому миру сталинизма, в котором не было места ни иронии, ни юмору. Ведь ирония является оборотной стороной трагедии. В отличие от авторитарной установки сатиры, ирония всегда сугубо личностна. Однако поскольку трагедия чужда соцреализму, ирония в сталинской культуре такая же редкая гостья, как и трагедия. Тем же обусловлена и невозможность чистого (не имеющего сатирической заданности) юмора в сталинизме. Здесь смех – почти всегда насмешка. Лучше всего это видно в сарказме, этом перевернутом отражении романтики. По точному замечанию В. Тюпы, «саркастическая ирония формируется на почве кризиса романтического сознания»[91]. Сарказм, издевка, карикатура – вот продукт разлагающегося в соцреализме «загнивающего» романтизма.
Соцреализм, эти руины «революционного романтизма», оставил на месте революционной романтической и трагедийной культуры пустоту, выжженную пустыню, которая, подобно выступившим солям, создавшим на месте осушенного моря мертвые солончаки, заполнилась кислотным, желчным, злобным сарказмом, направленным на окружающий мир. Но не только ориентация на ритуальную героику и «перебродившую» романтику определила в соцреализме доминирование их двойников – сатиры и сарказма. Были здесь и причины более глубокие, лежавшие в самой природе «русского смеха».
Маркиз де Кюстин, мало интересовавшийся религиозными аспектами русской жизни, полагал, что смех и веселье – редкие гости в русском обществе вовсе не от избытка религиозности, но оттого, что «в России единственный дозволенный шум суть крики восхищения»[92]: «Тщетно искал я среди шести-семи тысяч представителей сей фальшивой русской нации, что толпились вчера вечером во дворце в Петергофе, хотя бы одно веселое лицо; когда лгут, не смеются» (1, 311–312). Попутно, впрочем, он замечал: «Ни при одном дворе не встретишь веселья – но при дворе санкт-петербургском не дозволяется даже скучать» (2, 420). Напускная веселость, которая пронизывала атмосферу высшего общества (когда смеяться не можно, а нужно), способствовала, согласно де Кюстину, развитию «злобно-насмешливого смеха». Он утверждал, что в салонах царит «саркастично-язвительный тон, ради которого насилуют себя и говорящие, и слушающие» (2, 256).
Особенности «русского смеха» де Кюстин выводил из своего понимания природы русского национального характера, утверждая, что русские
…умны, но ум их подражательный, a значит, более иронический, чем плодовитый: такой ум все копирует, но ничего не в силах создать сам. Насмешка – главная черта характера тиранов и рабов. У всякой угнетенной нации ум склоняется к поношению, сатире, карикатуре, за свое бездействие и унижение она мстит сарказмами (1, 296).
Согласно де Кюстину, главная характеристика русского смеха – его злобность:
Подобно разъяренной змее, русский ум самый колкий на свете. Насмешка – это бессильное утешение угнетенных; здесь в ней заключено удовольствие крестьянина, точно так же как в сарказме заключено изящество знатного человека; ирония и подражательство – вот единственные природные таланты, какие обнаружил я в русских (1, 315).
Эту «злобную насмешливость» в высших слоях общества де Кюстин объяснял суровостью климата:
Тонкую и простодушную французскую шутливость заменяют здесь враждебная наблюдательность, лукавая приметливость, завистливая колкость, наконец, унылая язвительность, которая кажется мне куда опасней нашего смешливого легкомыслия. В здешних краях суровый климат, принуждающий человека к постоянной борьбе, непреклонное правительство и привычка к шпионству делают характер людей желчным, недоверчиво-самолюбивым (2, 256–257).
Но нечто подобное отмечал он и в «низших слоях»:
В России все народные развлечения исполнены меланхолии, радость здесь – привилегия, поэтому она, по моим наблюдениям, почти всегда преувеличена, наигранна, неестественна и производит куда более тяжкое впечатление, чем печаль. В России смеются только комедианты, льстецы или пьяницы (2, 195).
Эта схожесть смеха «верхов» и «низов» указывает на то, что речь идет о «национальном смехе». Она подкрепляется более поздними свидетельствами.
У Достоевского находим проницательное замечание: «Если захотите рассмотреть человека и узнать его душу, то вникайте не в то, как он молчит, или как говорит, или как он плачет, или даже как он волнуется благороднейшими идеями, а высмотрите лучше его, когда он смеется»[93]. Итак – как же он смеется? Примером проникновения в психологический комплекс русского человека (и именно через смех Достоевского) могли бы служить высказывания Сомерсета Моэма во время его пребывания в России в 1917 году:
Когда русский смеется, он смеется над людьми, а не вместе с ними, и поэтому предметом его шуток могут стать причуды истерической женщины, нелепая одежда провинциала, кривлянье пьяницы. Вы не можете смеяться вместе с ним, потому что его смех немного дурного тона. Юмор Достоевского – это юмор трактирного завсегдатая, привязывающего жестянку к собачьему хвосту[94].
Схожесть наблюдений двух проницательных иностранцев говорит о многом. Моэм, описывая смеховые «повадки» русских не высшего, но низшего сословия, и не в пору николаевской «стабильности», но в эпоху революции, сходился с де Кюстином в определении основных характеристик «русского смеха» – это злой (а нередко и злобный) смех; это смех над, а не с; это смех неразвитый, примитивный, смех дурного тона, смех простолюдина. Характерно и то, что оба обращали внимание на социальные аспекты национального смеха.
У истоков социологии смеха в России стоял Чернышевский, который в эпоху, далекую от современной политической корректности, напрямую связывал юмор и сатиру со степенью развитости индивидуума. Для интеллектуально и эмоционально более развитых людей он отводил сферу юмора:
К юмору расположены такие люди, которые понимают все величие и всю цену всего возвышенного, благородного, нравственного, которые одушевлены страстною любовью к нему. […] Сознавая свое внутреннее достоинство, человек, расположенный к юмору, очень хорошо видит все, что есть мелкого, невыгодного, смешного, низкого в его положении, в его наружности, в его характере. Все эти слабости, мелочи, которых так много почти во всяком человеке, тем невыносимее для него, чем возвышеннее характер и ум его, чем восприимчивее, раздражительнее, нежнее его натура[95].
Уделом менее развитой публики были сатира и фарс. Сталинская культура, стремившаяся потрафлять массовому вкусу, невосприимчива к юмору. Массовый вкус в крестьянской стране был неразвитым, говоря словами Моэма, «немного дурного тона». Вчерашнему крестьянину смешон дед Щукарь; вчерашнему зрителю балаганных фарсов нужен был слэпстик, клоунада, грубое фиглярство; вчерашнему потребителю лубка и «трактирному завсегдатаю» нужна была карикатура. Его мир – мир простой физики, мир гэгов. Юмор как продукт тонкой и сложной интеллектуальной игры ему не просто чужд, но – недоступен.
Другой аспект осмеяния связан с тем, что оно является, по сути, формой самоутверждения. По рассуждению того же Чернышевского, «смеясь над глупцом, я чувствую, что понимаю его глупость, понимаю, почему он глуп, понимаю, каким бы он должен был быть, чтобы не быть глупцом, – следовательно, я в это время кажусь себе много выше его. Комическое пробуждает в нас чувство достоинства»[96].
Однако для того, чтобы превосходство над осмеиваемым глупцом имело основание, его уровень должен быть ниже уровня реципиента. Ясно, что чем ниже уровень последнего, тем (еще) ниже должен быть уровень осмеиваемого. Если уровень реципиента и без того предельно низок, его объектом становится путешествующий из романа в роман и из поэмы в поэму «в коммунизм идущий дед» – крестьянин-полуидиот. Все это возвращает нас к теме «русского смеха», в котором читается прежде всего потребность в национальном самоутверждении через оглупление, сатиризацию и окарикатуривание Другого.
В. Хализев видел одно из главных достижений русской классической литературы в том, что она «осудила и заклеймила смех надменно-холодный и цинически-глумливый»[97]. Имея в виду, что ни одна литература не «глумилась», например, над «маленьким человеком» или над святынями собственной национальной истории, заметим, что сталинской культуре такой смех был свойственен в высшей степени. Причем надменно-имперский советский «смех победителей» имел предпосылки в русской литературе XIX века, и не только на каких-то маргинальных линиях ее развития, но и в самом ее «ценностном центре», начиная со стихотворения Пушкина «Клеветникам России» и заканчивая «Дневником писателя» Достоевского, пронизанных надменно-глумливым тоном по отношению к Западу и исполненных православно-имперской спеси.
Вместе с тем «советский смех» является прямым наследником русского «народного» смеха. Будучи культурой антиинтеллигентской и антиинтеллектуальной, воспетая Бахтиным «народная смеховая культура» чужда иронии и юмора. Характерна в этом смысле откровенная неприязнь, с которой сталинизм относился к «безыдейному юмору». Как и многие подобные установки, это отношение прямо не формулировалось в самой культуре, но нашло законченное оформление лишь в постсоветской сталинистски-националистической публицистике. Ярким публицистом такого рода был Вильям Похлебкин. В апологетической книге о Сталине «Великий псевдоним» (1998) он пространно рассуждал на интересующую нас тему:
Юмор, смешочки, смешки да хаханьки – были всегда связаны с представлением о паясничание, скоморошестве также и в среде простого русского народа, который рассматривал таких «юмористов» как юродивых, а потому и относился к ним в массе своей не только не серьезно, но и ощущал, как и образованные люди, в действиях юродствующих нечто несолидное, неприятное, шокирующее. Смех, комичное, если и возникали в народной среде, то всегда были связаны с пошлостью, с дефектом, с чем-то ущербным, недоразвитым[98].
И напротив,
революционеру приличествует гневная, бичующая, уничтожающая сатира, a не пошлое и хлипкое интеллигентское хихиканье […] Ленин и Сталин бичевали всякие попытки заменить или подменить разящую, уничтожающую наповал сатиру – хихикающим, маленьким, пошленьким «юмором». Этот вид «деятельности» не нужен был ни русскому народу, ни его пролетарской, серьезной, a не марионеточной партии. И именно на этой почве неоднократно происходили стычки и расхождения с меньшевиками. «Юмористов» было особенно много среди бундовцев и троцкистов, которые были склонны в силу психологии своего национального характера, даже и в политических спорах, не столько спорить по существу, сколько стараться «поддевать» разными «остроумными», но поверхностными замечаниями своих большевистских оппонентов, пытаясь уйти от сути проблемы и прибегнуть к какому-нибудь эффектному софизму […] Партии не нужны были люди, способные хихикать по поводу общественных явлений и привлекать симпатии масс дешевой, «развлекательной» популярностью. Русскому народу нужны были серьезные, строгие, солидные вожди, – не бросающие слов на ветер (66).
Но Похлебкин не останавливался на истории большевизма. Он совершал экскурс в глубины национальной истории и русской литературы, утверждая, что в России, у русского народа, усваивавшего с IX века греческую культуру через религию, «„зубоскальство“ признано одним из самых отрицательных свойств человеческой натуры и потому презирается как „скоморошество“, „юродство“, как показатель несерьезности и неполноценности» (65). И только в ХХ веке этот «народный лад» подвергся разлагающему влиянию инородческой среды: в русской литературе
появляются писатели-смехачи, начинают проникать переводные произведения западных юмористов […] в советское время появляются «отечественные» «иностранцы еврейского происхождения по юмористической части» – Илья Ильф, Леонид Ленч (псевдоним русского писателя Попова. – Е. Д.), Михаил Зощенко (sic! – Е. Д.), не говоря уже о «мелкоте», «мелкотравчатых хихикалах» – Дыховичном, Слободском, Райкине и их сегодняшних эпигонах.
Для русского национального характера типична уничтожающая сатира, разящая, давящая, беспощадная, как у Салтыкова-Щедрина, не смешки да хаханьки, так называемый «беззубый» (а на самом деле пошлый) юмор, никогда не был свойственен ни русской национальной культуре, ни русскому характеру, ни русским историческим условиям. Смешки да хаханьки – чисто южное явление, следствие исторически сложившейся беззаботности. И в том, что Чехов, выросший на полугреческом-полуукраинском юге, в том углу Новороссии, где русской культуры вообще не существовало до 20–30-х годов XIX в. и где русское население стало притекать только после отмены крепостного права, стал первым русским писателем-юмористом, была своя историческая закономерность: на русском Севере, в великорусском Центральном районе Срединной России, среди русского коренного населения, писателя, способного хихикать и даже просто смеяться, скалить зубы прилюдно, не могло просто возникнуть и не возникло. Всех юмористов-литераторов, которые захотят опровергнуть подобное утверждение, достаточно просто слегка «колупнуть» на предмет их национального происхождения, чтобы сразу понять, что в их «юморизме» и склонности к смеху заложено слишком «южное» (65).
Эти рассуждения характерны прямой увязкой сталинского «уничтожающего», «разящего», «давящего», «беспощадного», «строгого» смеха с националистически воспринятой «народной культурой». Комическое невежество и дремучий антисемитизм автора позволили ему прописать эту связь в предельно прямой форме.
Патетике чужда какая бы то ни было ирония. И не случайно «советский смех» столь чужд иронии. Именно о ней писал в трактате «Что такое социалистический реализм» (1957) Андрей Синявский: «Ирония – неизменный спутник безверия и сомнения, она исчезает, как только появляется вера, не допускающая кощунства»[99]. Можно добавить: она исчезает там, где появляется претензия на полноту знания, столь характерная для сталинизма. В своей книге о 1960-х, как будто продолжая рассуждения Синявского, Петр Вайль и Александр Генис писали об иронии как о едва ли не главном бродильном начале, разрушавшем «нудительную серьезность» сталинизма: «Ирония расцветает тогда, когда у автора нет идеала, с которым он мог бы сопоставить действительность. Ирония всегда обманывает читателя, всегда обещает больше, чем знает. Но она делает свое великое кощунственное дело, разоблачая ложь, не говоря правды»[100].
Совсем иная кислотная среда требуется не знающему иронии соцреализму. Его стихия – основанные на «знании» и «идеалах» сатира и сарказм. Стоит заметить, что советская эстетика просто не выработала дискурса, который соответствовал бы столь чуждому ей предмету. Те редкие случаи, когда советские критики брались рассуждать об иронии, сами являются образцовыми объектами иронии: «Ирония прежде всего несет широкое общественное назначение, она должна стоять на высоком идейном уровне, защищать существенные интересы общественного прогресса, идти навстречу волнующим общество интересам и настроениям»[101].
После карнавала: «Оружия любимейшего род»
Сатира, которая являет собой не «распад народной смеховой культуры», но лишь один из видов смеха (насмешка, осмеяние, издевательство), стала излюбленным модусом сталинизма, обнажившего в ней форму непрямой агрессии в виде «инструментального смехового поведения» (по определению Ю. Артемовой[102]). Сатира, которую так не любил Бахтин, видя в ней выражение упадка амбивалентного народного смеха, действительно редко бывает веселой (смешной). Она чаще мрачна, поскольку в ее основе лежит скепсис; уныла, поскольку является формой морализаторства; антикарнавальна, поскольку лишена амбивалентности[103]. Сатира менее смешна еще и потому, что связана не с «народной культурой», но с личностным самоопределением, которому свойственно скорее ироническое, чем комическое мироощущение.
Парадоксальным образом, бахтинская теория карнавала утверждала системную, а отнюдь не революционную природу «низовой культуры». Как полагает А. Козинцев, «безудержное словесное озорство» крестьянской культуры «было всего лишь выражением двоемыслия, средством „выпускания пара“, а следовательно, и предотвращения бунта»[104] (то же, попутно заметим, относится и к политическому анекдоту, который не был ни бунтом, ни сатирой). Сатира – эстетическая форма, требующая огромной личностной свободы: «Для сатиры нужна внутренняя свобода. Чтобы стать сатириком, нужно перейти из области антиидеала в область личности. Сатира диаметрально противоположна двоемыслию и антиповедению»[105].
Госсмех в этом смысле похож на сатиру не больше, чем Сергей Михалков похож Гоголя. С этим, между прочим, связано и то, почему в советской культуре не работало универсальное, в целом, правило, точно сформулированное Л. Пумпянским: «Трагический поэт может быть (и обыкновенно бывает) совершенным человеком нации, комический поэт – никогда; в нем ускользают завязи, пункты отвердевания, он вечно слагающийся человек»[106]. Не то в сталинизме, где один из главных комедиографов одновременно являлся автором государственного гимна…
Официальная советская доктрина с ее политической инструментализацией искусства видела в смехе почти исключительно «оружие сатиры» (всякий иной смех квалифицировался здесь как «безыдейный», как «пустое смехачество»). В сущности, сатира превращалась в универсальный инструмент «реалистического отражения жизни». Если сама жизнь, по известной советской формуле, есть непрестанный «процесс борьбы нового, передового со всем отжившим», то сатира, по определению Владимира Ермилова, есть наиболее адекватная форма отражения жизни: «Борьба нового, передового со старым и отсталым является содержанием советской сатирической комедии во всех возможных случаях и вариантах»[107].
Не удивительно, что комедия здесь по умолчанию понималась как сатира, а юмор рассматривался лишь как ступень к ней:
В чем органическая связь сатиры и юмора? В том, что это могучие средства критики, и отделить их от друга глухой стеной трудно, да, видимо, и не нужно. Но всякое оружие разнится типом и целевой установкой, калибром и величиной заряда. При использовании его в соответствии с объектом эмоционально-эстетической критики и задачей выбираются либо сатирические, либо юмористические заряды[108].
Ясно, что эти «цели» и «заряды» отнюдь не равноценны. Большая цель требует именно сатиры: «Юмор охватывает весь широкий круг комического, достигая своего высшего, наиболее глубокого и острого выражения в сатире»[109]. И это утверждали отнюдь не только советские критики, но и такие литературоведы, как Владимир Пропп, видевший в юморе (комизме) лишь склад приемов для сатиры: «Комизм есть средство, сатира есть цель»[110]. Комическое и сатирическое в советском искусстве можно было бы сравнить с производством сыра (сатиры) из молока (комическое), где лирическая (несатирическая) комедия – это своего рода сыворотка. Водевиль и лирическая комедия стали оборотной стороной сталинской сатиры, заполнив ниши массового спроса, которые не могли пустовать в периоды снижения запроса, а то и запрета на сатиру.
Как форма критики комическое рассматривалось только как сатира, в которой было единственное оправдание смеху. Слова Маяковского из поэмы «Во весь голос» (1930) «Оружия любимейшего род», сказанные о застывшей «кавалерии острот, / поднявшей рифм / отточенные пики» и «готовой рвануться в гике», бессчетное число раз повторялись в советской критике. Именно Маяковский привил советскому сатирическому дискурсу милитарную метафорику, навсегда сохранившуюся в соцреализме. Книга В. Фролова «О советской комедии» (1954), которая обобщала опыт и теорию сталинской комедии, с первых же строк сообщала:
«Смех казнит отсталые явления жизни. […] Пьеса без обличения, без веселого или гневного смеха не может считаться комедией. […] Сатира, живой юмор – оружие комедии. Смех беспощаден ко всему, что заслуживает разоблачения. […] В реалистической комедии смех – веселый, но суровый обличитель» и т. д. (курсив везде наш. – Е. Д.)[111].
Сама эта лексика раскрывает понимание комического в сталинизме: казнить, обличать, разоблачать; смех – оружие сатиры; сатира – оружие в борьбе за коммунизм…
Не удивительно, что советский сатирик стал подозрительно походить на сотрудника госбезопасности:
В советском обществе носители тех или иных пороков крайне редко действуют в открытую – они хитрят, приспосабливаются, маскируются. Сатирик призван разоблачать всяческие увертки фальшивых людей, показывать «новые» приемы и средства их мимикрии, он должен обладать качествами искусного разведчика, умеющего находить зло под любым прикрытием[112].
Поскольку кампания 1952 года по возрождению сатиры была направлена на подготовку Сталиным новой чистки в высших эшелонах власти, не удивительно, что инструментализация сатиры достигла в это время предела. Теперь она прямо связывалась с такими понятиями, как «бдительность», «агенты», «маскирующиеся враги». Яков Эльсберг писал:
Советские люди должны помнить, что существует капиталистическое окружение, которое засылает к нам своих агентов, что враги искусно маскируются. Внешние враги не могут найти в нашей стране какой-либо социальной опоры. У нас нет также классовой базы для господства буржуазной идеологии. Но у нас еще сохранились ее остатки, пережитки частнособственнической психологии и морали. Среди нас живут и действуют фальшивые, разложившиеся люди, проводники чуждых, враждебных взглядов, буржуазные перерожденцы, скрытые враги. Капиталистическое окружение пытается использовать в своих целях все это отребье[113].
В самих перечнях объектов, подлежащих осмеянию, выпячивается политическое измерение: бдительность требуется «по отношению к бюрократам, чинушам, вельможам, карьеристам, глушителям критики снизу, нарушителям социалистической законности», а также «к очковтирателям, ко всем мешающим улучшать и совершенствовать государственный аппарат, удовлетворять нужды трудящихся, заботиться об их благе, к людям, не умеющим хранить государственную тайну, страдающим политической беспечностью, к ротозеям, клеветникам» (6–7).
Политические последствия подстерегали сатирика со всех сторон. С одной стороны, «сатирики не имеют права изображать тип бюрократа как нечто более или менее безобидное. В бюрократах советские люди видят „заклятых врагов партии“[114]» (23). Но с другой стороны, небезобидное изображение бюрократа не менее политически опасно, поскольку, согласно Эльсбергу, «если писатель, критикуя недостатки нашей жизни и быта, потеряет чувство меры, забудет о наших достижениях, изменит правде жизни и истории, то такая критика перерастет в клевету» (86). Даже такое явление, как «пошлость», которая была излюбленным объектом советской неполитической сатиры с начала 1920-х годов, теперь также приобрело выраженно политический смысл:
Совершенно недостаточное внимание уделяется нашими сатириками такому общественному явлению, как пошлость, хотя партия не раз указывала на опасность, ею представляемую. Щедрин учил видеть политическую суть пошлости, засоряющей, захламляющей сознание, облегчающей проникновение всякого рода реакционных влияний (31).
Возрождение сатиры и тех или иных тем в ней всегда были связаны с мобилизационными задачами. Поэтому Эльсберг был прав, утверждая, что запрос на Гоголей и Щедриных – не просто литературная мода: «Одной из важнейших задач, поставленных сейчас партией перед литературой, является создание значительных сатирических произведений, ярких, острых нарицательных сатирических типов, способных воспитывать и укреплять политическую бдительность» (192).
Госсмех представляет собой чрезвычайно важное звено в функционировании советского политико-эстетического проекта, привычно пропускаемое в традиционной советологии. Ярче и последовательней других выразил доминировавший как в эмигрантском, так и в советологическом литературоведении подход к проблеме Михаил Геллер в докладе «Клоун и комиссар», с которым он выступил в ходе Международного симпозиума «Одна или две русских литературы» в Женеве в апреле 1978 года. Согласно Геллеру, для того чтобы выжить в сталинскую эпоху, писателю
нужно было принять советскую власть в соавторы. И в этом уникальность советской литературы. Книги, написанные советскими писателями, написаны ими в соавторстве с властью. […] За исключением одного жанра: сатиры. Сатирический жанр остается единственным, который советская литература не в состоянии прожевать, переварить. Сатиру нельзя исправить цензурой, ибо она двусмысленна по своей сути. Даже цензор по подтексту не может ее выхолостить – она вся подтекст. Сатира не может говорить «да», не перестав быть собой. Объект сатиры не может быть ее соавтором. Комиссар не желает надевать клоунский колпак[115].
Так рождался лелеемый в эмиграции героический образ сатиры: «Клоун, единственный свободный человек в Советском Союзе, продолжает смеяться над комиссаром. […] Сегодня – шутовство стало геройством. Сатирическая литература стала литературой героической, отказавшись от соавтора, казавшегося всесильным» (225). В ней видела советология настоящее зеркало советской жизни:
Сатира, гротеск, карикатура, клоунада способны наиболее полно передать гротескную, карикатурную советскую действительность. В кривом зеркале сатиры точно и ярко отражается кривая, ненормальная реальность общества. […] Сегодня – думается – стало очевидным, что общество, в котором – по решению ЦК – все обязательно счастливы, может увидеть свое подлинное лицо только в сатирической литературе (224–225).
Здесь исчерпывающе представлена логика советологического подхода к сатире. Ею признаются только антисоветские тексты: Геллер обращается за примерами к Замятину и Булгакову, Платонову и Зощенко, Эрдману и Олеше – вплоть до Синявского и Белинкова, Солженицына и Максимова, Войновича и Владимова, Ерофеева и Зиновьева. Парадоксальным образом, он приходит к тому же, за что высмеивает в начале доклада отрицателей сатиры 1920-х годов: для него «советская сатира» такой же оксюморон. Сатира делает исключительно антисоветское дело («смеется над комиссаром») и только она может отразить советскую реальность. Советская же сатира вообще не признается: это – «литпродукция».
Эта прямолинейная и до сих пор не преодоленная схема не учитывает того обстоятельства, что, подобно эйзенштейновскому Ивану Грозному, комиссар охотно надевал на себя клоунский колпак. Более того, именно в нем он был особенно эффективен, получая полный контроль над зеркалом и создавая в нем именно тот образ советской действительности, который нужен был комиссару, который массы в состоянии были воспринять и с которым могли себя идентифицировать. Советская литература не только успешно «прожевывала и переваривала» сатиру, но и в больших количествах производила ее. Эту сатиру не надо было «исправлять цензурой». Она сама была цензурой. Поэтому она легко «говорила „да“». Разумеется, это была особого рода сатира. Она выполняла особые функции, оставаясь понятной и любимой советским читателем и зрителем. Это и был неузнанный никем госсмех.
Героическая же картина, представленная в советологии и эмигрантской критике, по иронии, воспроизводила советский дискурс. Надо ли говорить, что литература не столько «отражает […] подлинное лицо» реальности, сколько создает и эту реальность, и этот образ, и самого субъекта, который конструируется в процессе «потребления» этого образа и, самоидентифицируясь с ним, получает собственное «лицо».
Если, к тому же, иметь в виду, что через комическое, через манипуляцию смехом в соцреализме конструировался сам легитимирующий субъект – «народные массы», – станет ясно, что мы имеем дело отнюдь не с периферийным явлением, не просто с «литпродукцией». Внутри советской идеологической модели сатира была важным элементом динамики и трансгрессии. И в этом смысле природа сатиры весьма далека от того миметизма, который ей приписывался в советской эстетике. Последняя исходила, как известно, из так называемой ленинской теории отражения, согласно которой комическое в искусстве есть отражение комического в жизни. С этой точки зрения, «враги нового, общественно отрицательные, эстетически отрицательные силы содержат объективную основу для их сатирического осмеяния. Комичность врага – его ахиллесова пята»[116]. В действительности же все обстояло как раз наоборот: превращая то или иное явление в комическое, советская сатира маркировала его как враждебное. Условно говоря, комический персонаж назначался, исходя из политической целесообразности (это мог быть сегодня «бюрократ», завтра «мещанин», послезавтра «космополит», затем «стиляга» и т. д.). Точно так же он маркировал прошлое.
Сатира – всегда о прошлом: «Пафос сатиры заключается в заострении вопроса о старом, гниющем, омертвевшем, об его остатках в общественной жизни, в глубокой вере в победу над старым», а «советский сатирик противопоставляет поэтические образы людей нового типа мерзким чертам отребья прошлого»[117]. И действительно, то, что сегодня подлежит осмеянию и отрицанию в советской сатире, это всегда вчерашний образ власти. Так, бюрократизм, в 1920-е годы излюбленный объект сатиры как феномен сегодняшнего (и даже завтрашнего в пьесах Маяковского) дня, в госсмехе превращается в «отребье прошлого». Фамилия бюрократа в «Волге-Волге» не случайна: Бывалов (даже не то, что было, но бывало и уже прошло). На самом деле, не прошлое смешно, но то, что смешно, – прошлое. Тот образ, который подлежит замене, сатиризируется и тем самым как бы отменяется, «преодолевается» путем простого помещения в прошлое.
Отчасти поэтому так любили советские теоретики комического (от Бахтина и Проппа до Эльсберга и Ермилова!) знаменитую цитату из раннего Маркса о том, что
история действует основательно и проходит через множество фазисов, когда уносит в могилу устаревшую форму жизни. Последний фазис ее всемирно-исторической формы есть ее комедия. […] Почему таков ход истории? Это нужно для того, чтобы человечество весело расставалось со своим прошлым[118].
Применительно к госсмеху эта мысль должна быть переформулирована: в соответствии с политической целесообразностью, в целях выживаемости и приспосабливаемости к изменениям, власть должна периодически обновлять собственный образ, менять его. Но для того чтобы этот процесс выглядел естественно, не наносил ущерба легитимности и не воспринимался как политическая манипуляция, он сопровождается имиджевым сдвигом, осуществляемым при помощи приемов традиционной сатиры.
Этот процесс смены/коррекции собственного образа на советском языке назывался «критикой и самокритикой», которые мыслились как своего рода идеологический perpetuum mobile:
Неудовлетворенность достигнутым сегодня и желание лучшего, большего завтра – святое и созидающее чувство. И одной из форм такого созидающего недовольства собой, творческой неуспокоенности и неудовлетворенности достигнутым является смех, критическое остроумие. Самокритика – не временная, а вечная категория развития социалистического и коммунистического общества[119].
Делать это политически аккуратно позволяет сам механизм сатирической типизации. С одной стороны, сатира основана на персонализации зла: сатирический тип имеет имя, и это обстоятельство позволяет индивидуализировать социальный феномен – говорить о бюрократе, в крайнем случае о бюрократизме, но не о бюрократии. С другой стороны, комический тип (а не личность) статичен, обобщен, почти всегда основан на выделении устойчивой черты характера, которая акцентируется и нередко утрируется. Этим он отличался от психологизированных и динамичных трагических характеров, которым не было места в героической сталинской культуре.
Смех победителей: Истоки «положительной сатиры»
Сталинская эпоха была эпохой эпоса и героики. Советская эстетика провозглашала ее даже более героически чистой, чем эпоху первичного эпоса:
Не в прошлом, но лишь теперь, в век социализма достигнуто подлинное единство внутреннего побуждения и внешнего веления. Оно богаче, глубже, чем единство, которым будто бы обладал мифический герой. Человек социалистического общества, его деятель, находится с обществом в диалектическом единстве […] Познавая общественную необходимость, индивидуум превращает ее в свою свободную волю. Исходя из своей личности, он исходит из своих общественных интересов; действуя для общества, он действует для себя. […] Подлинно советский человек всегда является государственным деятелем, какое бы скромное дело он ни делал: присущее ему единство личного и общественного, страсти и долга заставляет его и позволяет ему всегда выступать выразителем интересов «субстанциального целого», ревнителем этих интересов, борцом за их торжество.
Поэтому советское искусство располагает неограниченным количеством героев для своих произведений. Люди нашего времени обладают такими характерами и совершают такие действия, которые отвечают основному требованию героического искусства, искусства о героях для героев. […] Мы вправе назвать наш век веком героическим. То, что было угадано человечеством на заре его существования и воплощено им в образцах искусства, мы ныне воплощаем в самой действительности. То, что Гегель, разбирая этот мифологический век героев, относил к навеки исчезнувшему прошлому, характеризует именно и только нашу эпоху[120].
Михаил Гус, автор этого патетического монолога, написанного после волны террора, в эпоху короткой «бериевской оттепели», в 1940 году, с некоторым благодушием писал о том, что в этом мире чистой героики достойно если не осмеяния, то порицания – о пережитках в сознании советских людей: противники стахановцев, например,
далеко не всегда бюрократы или мошенники. И они тоже стремятся к новому, но они понимают это новое хуже, чем их антагонисты, или не обладают в должной мере чертами характера, которые необходимы для смелого и безостановочного движения вперед. И противники героя также хорошие люди, но с изъянами и недостатками. В борьбе против них герой достигает и того, что помогает своим «противникам» измениться к лучшему[121].
В этом мире просто не было места юмору. Единственной адекватной формой смеха был так называемый смех победителей – либо радостно-ликующий, либо обращенный ко всем тем «пережиткам прошлого», что копошились у подмостков великой героической драмы, разворачивавшейся в стране Советов.
В «1984» Оруэлл рисовал картину еще более светлого будущего, чем то, в котором живет герой. В нем, говорит О’Брайен, «не будет иного смеха, кроме победного смеха над поверженным врагом». О таком смехе говорил Михаил Кольцов в речи на Первом Всесоюзном съезде советских писателей: «Рабочий класс – последний класс, и в истории классов он будет смеяться последним»[122]. Но поскольку все классовые отправления пролетариата в сталинизме были апроприированы государством, его можно было бы назвать номенклатурно-бюрократическим. Природу этого (гос)смеха не понять без обращения к истокам советского утопического проекта.
Главный теоретик пролетарской культуры Александр Богданов, посвятивший смеху специальную работу, понимал выражение «смех победителей» совершенно буквально. Он полагал, что смех возможен только как смех превосходства победителя над тем, что повержено, то есть «исключено из социальной связи». Субъект смеха – коллектив или группа; объект – враг или добыча; содержание – ощущение превосходства. И так – «по всей линии развития, от первобытно-грубых форм смеха до самых мягких и культурных»[123]. В основе смеха (здесь Богданов опирался на теорию смеха Людвига Нуарэ) – оскал зубов и крики коллективно ощущаемого удовольствия, когда племя или толпа, одолев врага, «сардонически смеется» и «дьявольски зубоскалит» над его жестокими страданиями: «Хохот насильника, наслаждающегося мучениями жертвы, заключает в себе все эти элементы; и их же мы найдем в легкой улыбке, которую вызывает у нас наивный вопрос ребенка – та же схема при бесконечном смягчении формы» (179).
Богданов утверждал, что «симпатия, социальное чувство подавляют комизм, и смех возможен лишь постольку, поскольку их нет или они временно замирают». Куда важнее «социальное чувство» противоположного свойства: «Смех социален […] Его социальность связывает общим чувством тех, кто вместе смеется. И более того: лучшая почва для смеха – это враждебность, борьба. Родство смеха и гнева непосредственно понятно каждому. Смех могучее, жестокое оружие в социальной борьбе» (177). Вот почему так богаты смехом революционные эпохи. В смехе Богданов видел «остатки коллективного боевого возбуждения – источник смеха, низверженного врага – его объект, и ощущение превосходства силы – его содержание» (180).
Близкий Богданову А. Луначарский о смехе писал много и занимался им специально. Прослеживая эволюцию его взглядов на смех, отметим упор на социальную, политическую функцию смеха. Еще в 1925 году Луначарский писал, что «смех – признак победы […] В нас есть большой запас силы, ибо смех есть признак силы. Смех не только признак силы, на сам – сила. И раз она у нас есть, надобно направить ее в правильное русло»[124]. Он писал, что «самым лучшим смехачом нашим является Демьян Бедный», видя в нем образец, к которому должен стремиться советский смех для того, чтобы найти свое место в «работе дня»: он должен быть популистским и актуальным – два качества, которые характеризовали Демьяна Бедного. Но то, что делал Бедный, казалось Луначарскому недостаточным и даже «ничтожным по сравнению с большой задачей направить в достодолжное русло стихию народного смеха» (3, 76).
В сущности, задача, как ее понимал нарком просвещения, сводилась к тому, чтобы декарнавализировать и инструментализировать «народный смех». Его рассуждения о смехе отличались стремлением совместить политическую функциональность смеха с пониманием его как «народной стихии». С одной стороны, единственное оправдание смеху в новом государстве он находил в его роли своеобразного социального «санитара» и «дезинфектора» (3, 77). Но с другой – эффективность этого оружия, согласно Луначарскому, прямо пропорциональна тому, в какой мере оно станет народным. И тут он огромную роль отводил «народной стихии», едва ли не в карнавальном ее воплощении. Он призывал:
Организуйте, товарищи, братство веселых красных скоморохов, цех истинно народных балагуров, и пусть помогут вам наши партийные публицисты, в статьях которых сверкает порою такой великолепный смех, и наши партийные поэты, писатели и поэты пролетарские, равно как и те из старых, сердце которых уже начало биться в унисон с громовыми ударами сердца революции (3, 78).
Эту народную стихию Луначарский почти по-бахтински связывал с антиклерикальностью и язычеством:
Русская церковь пролагала путь самодержавию и ненавидела гудошников и веселых скоморохов. Они представляли стародавнюю, вольную от аскетизма, республиканскую, языческую Русь, а ведь это она должна теперь вернуться, только в совершенно новой форме, прошедшая через горнило многих, многих культур, владеющая заводами и железными дорогами. Но такая же вольная, общинная и языческая (3, 78).
С годами, однако, Луначарский не просто склонялся к сатире, отходя от своей эгалитарной утопии «народного смеха». Судя по статье «Что такое юмор?» (1930), он едва разграничивал юмор и сатиру. Смех в его интерпретации был слишком социален, чтобы в нем было место юмору. Он постоянно апеллировал к Гоголю и Щедрину, у которых комическое связано с сатирой, а не с юмором. В написанной в том же 1930 году статье «О сатире» Луначарский выступал ярым защитником сатиры, утверждая, что она есть форма самокритики (8, 186). В сущности, Луначарский выступал за сатиру в дозволенных рамках, и в этом он был гибче тех, кто в то время требовал ее полного запрета.
В последние годы жизни Луначарский писал книгу «Социальная роль смеха». В конце 1930 года по его предложению при группе языков и литератур Отделения общественных наук Академии наук СССР была создана под его председательством Комиссия по изучению сатирических жанров, преобразованная 10 января 1932 года в Кабинет по собиранию материалов сатирического жанра. Судя по темам представленных там работ (а Луначарский привлек к работе таких ярких ученых, как О. М. Фрейденберг, П. Н. Берков, В. П. Адрианова-Перетц, К. Н. Державин, И. М. Нусинов и др.), проблема смеха полностью превратилась в проблему сатиры (8, 621–622). Смех Луначарский понимал почти исключительно как насмешку. В этом смысле его можно признать теоретиком того вторичного, неаутентичного смеха, к которому с такой неприязнью относился Бахтин. Луначарский мыслил смех классово и исключительно в категориях социального доминирования (8, 535–537). Не удивительно поэтому, что в докладе на заседании Комиссии по изучению сатирических жанров он утверждал, что именно в сатире «яснее всего выступает социальный характер смеха» (8, 533).
Тема эта казалась Луначарскому настолько важной, что он пытался вписать это «обличительное направление» в нарождавшуюся теорию соцреализма. Тогда как Горький требовал «революционного романтизма» и выступал против попыток «очернения советской действительности», относя критический пафос литературы всецело к ее прошлому («критический реализм»), Луначарский незадолго до смерти в докладе «Социалистический реализм» на 2-м пленуме Оргкомитета СП СССР в феврале 1933 года говорил о важности «форм отрицательного реализма», который прямо увязывал с сатирой: «Карикатурой, сатирой, сарказмом мы должны бить врага, дезорганизовать его, унизить, если можем, в его собственных и, во всяком случае, в наших глазах, развенчать его святыню, показать, как он смешон» (8, 500).
Эволюция Луначарского станет понятной на фоне непрекращающихся в течение 1920-х годов споров о смехе в условиях нового режима. Видное место в них занимали ревнители революционной идеологии и (в особенности, в эпоху нэпа) пролетарской аскезы. В статье «Скороходы истории», опубликованной в газете «Жизнь искусства» в июне 1920 года, М. Кузьмин писал:
После победы, во время строительства должна утихнуть и даже совершенно умолкнуть сатира. Против кого поднимается этот бич? Бичевать поверженных врагов не великодушно, а уничтожать врагов еще не сломленных, значит уменьшить значение победы. Сатирически же изображать окружающую действительность, хотя бы в ней и были недостатки, – не значит ли это толкать под руку работающего?[125]
Сами сатирики требовали отказа от мелкобуржуазного «водевильного» смеха. Так, Владимир Масс резко выступал против того, что тогда называли «пустой развлекательностью» и «улыбчатым» театром.
Современному театру, – писал он в 1922 году, – нужен смех, но не лоснящийся смех армянского анекдота, a смех как орудие общественной выправки. Не праздный юмор беспринципного каламбура, а ядреная издевка над нашим бытом и косностью нашего сознания; не добродушная улыбка благополучного бюргера, a зубастая и уничтожающая карикатура; не услужливое щекотание хозяйских пяток, а хорошие удары по самодовольной физиономии нэпа[126].
Выбор между весельем кафешантана и социальной сатирой был сделан в пользу последней. Но такая сатира неизбежно наталкивалась на цензурные рогатки. Яков Шафир, выступивший в 1923 году в «Красной печати» со статьей «Почему мы не умеем смеяться?», задавался вопросом о том, почему так случилось, что «старые, испытанные фельетонисты, работающие у нас, и те потеряли в значительной мере способность смеяться». Конечно, рассуждал Шафир, кроме нэпмана и попа есть еще советский бюрократ, но «к сожалению, до сих пор наша печать не осмеливается трактовать эту важнейшую для советской власти тему со всей решительностью»[127].
Смех стал невозможен из-за того, что фельетонисты «не осмеливаются» писать о советских бюрократах. Осмеянию открыты только «язвы прошлого» (попы и нэпманы). Кроме того, спор о бюрократии в середине 1920-х годов приобрел отчетливо политический оттенок: именно в бюрократическом перерождении партии обвиняли Сталина его оппоненты во главе с Троцким. Выход Шафир видел в том, чтобы цензурными органами была установлена граница дозволенного:
Знать точно, где кончается критика отдельных личностей и где начинается критика режима, дело нелегкое. Ясно, однако, что в действительности существует такая граница между необходимыми и полезными разоблачениями и недопустимыми вредными выступлениями в печати, которые могут быть на руку только контрреволюции. Необходимо только чтобы эта граница для печати не определялась на местах любым представителем нашего госаппарата. Никто, кроме руководящих парторганов, не должен в этом деле брать на себя роль указчика[128].
Своей заметкой Шафир открыл дискуссию о фельетоне, где ему отвечал Н. Крынецкий статьей «О красном смехе»: в эпоху гражданской войны, утверждал Крынецкий,
смех меньше, чем что-либо, отражал требования момента. И кому на ум придет – смеяться голодным […] война, революция, голод, борьба, застой промышленности, безработица […] совсем не располагали к смеху, и если изредка и смеялся рабочий, то смеялся резким, коротким, жестким революционным смехом, который не нашел себе отражения в печати, ибо новых форм смеха не было, а в старые рамки фельетонного смеха он не укладывался.
Так что «смех временно замер»[129].
Но дело не в прошлом, а в будущем: «Такого значения, какое имел смех в дореволюционной печати – как средство борьбы – хотя бы с бюрократизмом, в революционной Советской России смех не имел и вообще иметь не будет», – утверждал Крынецкий. «Нужен ли нам фельетон? Можем ли мы придать ему характер и значение той борьбы, которая велась в дореволюционное время?» – задавался он вопросами. И отвечал однозначно:
Конечно, нет. Дореволюционная печать вынуждена была это делать, т. к. она была бессильна бороться какими-либо иными способами и приемами с проявлением царского бюрократизма, кроме высмеивания. Злой смех был ее единственным оружием. Смехом либеральной дореволюционной прессы определялось ее бессилие против царского самодержавия[130].
Не то теперь:
Нужен ли такой смех в борьбе с бюрократизмом наших советских учреждений и советских бюрократов нашей революционной печати теперь? Ответ ясен – нет. Печать имеет возможность в любую минуту поместить какую угодно разоблачительную статью и к зарвавшимся бюрократам будут приняты своевременные меры. Бюрократизм как тема для фельетона, основная тема, вообще не пригоден.
Интересна мотивировка:
Бюрократизм незаметный, мелочный смеха по своей мелочности не вызывает совсем […] освещение в смешном виде более крупных видов бюрократизма, граничащего с преступлением, а иногда и вовсе преступного свойства, неизбежно вызовет озлобление масс, и результаты будут весьма незавидные.
Вывод Крынецкого звучал как приговор: «подходящих условий для развития фельетона нет»[131].
На этом фоне и разгорелась в 1925 году дискуссия о сатире (именно к ней сводился разговор о смехе). В этой дискуссии нашло отражение накопившееся недовольство цензурой, с одной стороны, и третирование всякой критики режима как контрреволюционной – с другой. Дискуссия проходила на страницах «Жизни искусства», «Советского искусства», «Искусства трудящимся», «Нового зрителя» и «Вечерней Москвы»[132]. Центральной ее фигурой стал критик В. Блюм, позиция которого была самой радикальной: между искусством и жизнью он не усматривал никакого различия, утверждая, что искусство переходит в действительность, или, точнее, последняя отменяет искусство, которое не должно заниматься «отражением жизни». Вместо сатиры Блюм предлагал: когда появляются на теле советской государственности «язвы», «перед гражданами-художниками открыты общие со всеми гражданами Союза прямые, организованные пути как государственного и общественного строительства, так и изживания его уклонов, ошибок и всяческих отдельных недостатков и уродств»[133].
Эти «прямые, организованные пути» понимались Блюмом совершенно буквально: в одной из статей он объяснял, как недостатки нужно критиковать («оздоровлять») «по другой линии»:
Вспомните… что вы – гражданин, черт побери, – пишите о жулике-кооператоре статью в газету, идите на общее собрание кооператива, где вас выберут в ревизионную комиссию, подавайте заявление в РКИ и ГКК и т. п. Но остерегайтесь «художественного обобщения», ибо результаты лишь порадуют сердце любого из тех, что за рубежом[134].
Это радикальное жизнестроительство, допуская лишь институциализированную критику, категорически не воспринимало сатиру как эстетический феномен.
Но Блюм шел дальше, отрицая право на какую-либо критику в принципе.
Нечего и говорить, что сейчас – после Октября, – писал Блюм в статье «К вопросу о советской сатире», – когда государство стало «нашим», эти приемы (приемы сатиры. – Е. Д.) никуда не годятся. Вышучивать и тем «потрясать устои» пролетарского государства, издеваться над первыми, может быть, неуверенными и «неуклюжими» шагами новой советской общественности по меньшей мере неумно и нерасчетливо.
Теперь сатирик
должен отказаться от сатирической миссии: задачи так называемой «советской сатиры», в связи с изменением социальной обстановки, безмерно суживаются. Объект сатиры отныне – не общественное, а индивидуальное: именно теперь сатирик становится «моралистом»… На долю «советской сатиры» осталось изображение «случайных гримас» действительности… Кто из «советских сатириков» этого на понимает, тот впадает в контрреволюцию и клевещет на новый быт[135].
Близкую Блюму позицию занимал В. Вешнев, утверждавший, что традиции дореволюционной сатиры неактуальны в советских условиях, поскольку русские классики выступали против «основных, коренных, органических недостатков» самодержавного строя, тогда как недостатки советской действительности не являются «органическими недостатками нынешнего режима диктатуры пролетариата». Согласно Вешневу, советская сатира будет возможна лишь тогда, когда социалистический строй утвердится полностью и окончательно. Поскольку же «наше общественное время… характеризуется тем, что оно в самом себе несет сознательное и добровольное самоотрицание во имя будущего общества», для сатиры просто не остается места: сама действительность «своим добровольным самоотрицанием обезоруживает сатирика, не оставляя ему серьезных точек приложения для своей органической критики, которая могла бы иметь сколько-нибудь длительную художественную ценность»[136].
В ответ на «нигилизм» Блюма В. Масс утверждал, что усматривать в каждой сатире «„потрясение основ“ – значит проявлять ту излишнюю подозрительность, которая очень сродни пустому чванству и казенщине». И поскольку «смех – это лучшая швабра для того, чтобы начисто вымыть и выскрести то старое, гнилое, пошлое, что еще осталось в наших нравах и в нашем быту», необходим «смех тенденциозный, с определенной общественной установкой. Смех, направленный на старое во имя нового, – нам нужна советская сатира»[137].
Следующая дискуссия 1929–1930 годов[138], протекавшая в новых условиях – на фоне политического запроса на критику в связи с разгромом Сталиным оппозиций, была куда более предсказуемой. В центре опять оказался В. Блюм, но на этот раз было ясно, каким будет исход спора, который велся через головы критиков между Сталиным и Горьким. Разгромив «правую оппозицию» и сделав резкий вираж влево, Сталин объявил шумную кампанию критики и самокритики, сопровождавшую очередную волну чисток. Горький, который не принимал этого лозунга, требовал делать упор на «наши достижения». В переписке с Горьким Сталин увещевает его, доказывая сменившему вехи автору «Несвоевременных мыслей», что
Мы не можем без самокритики. Никак не можем, Алексей Максимович. Без нее неминуемы застой, загнивание аппарата, рост бюрократизма, подрыв творческого почина рабочего класса. Конечно, самокритика дает материал врагам. В этом Вы совершенно правы. Но она же дает материал (и толчок) для нашего продвижения вперед, для развязывания строительной энергии трудящихся, для развития соревнования, для ударных бригад и т. п. Отрицательная сторона покрывается и перекрывается положительной.
Возможно, что наша печать слишком выпячивает наши недостатки, а иногда даже (невольно) афиширует их. Это возможно и даже вероятно. И это, конечно, плохо. Вы требуете поэтому уравновесить (я бы сказал – перекрыть) наши недостатки нашими достижениями. И в этом Вы, конечно, правы. Мы этот пробел заполним обязательно и безотлагательно. Можете в этом не сомневаться[139].
Сталин сдержал слово: провозглашенный вскоре соцреализм действительно «заполнил пробел»: достижения не только уравновесили, но и перекрыли недостатки.
Позже, в 1934 году, Горький сформулирует свою позицию предельно ясно: «Сатира – верный признак болезни общества: в обществе здоровом, внутренне целостном, построенном на единой, научно обоснованной и жизненно гибкой идеологии, сатира не может найти себе пищи»[140]. А пока эту позицию отстаивал один из ведущих театральных критиков, выступавший под псевдонимом «Садко», и одновременно ведущий театральный цензор, выступавший под своим именем, – Владимир Блюм. Он назвал бессмысленностью само словосочетание: «советская сатира»[141], поскольку сатира – всегда враг существующего строя, борьба с которым является преступлением против пролетарского государства. Тем, что в этом государстве подлежит искоренению, занимается не сатира, но милиция, суды, прокуратура и органы госбезопасности. В этих условиях сатира способна принести только вред.
В статье в «Литературной газете» «Возродится ли сатира?» Блюм развивал свою «ликвидаторскую» теорию, утверждая, что
…несмотря на все заклинания, не расцветает у нас сатира! Фельетон с указанием лица, места и времени (добрая половина материалов наших сатирических журналов…) – менее всего подходит под определение сатиры. Сатира есть прежде всего обобщающий жанр, есть художественный метод, а фельетон… нисколько не ниже, но совсем другое. Разница между ними приблизительно та же, что и между игровой и неигровой фильмой[142].
[…] «Бичующая», «острая» сатира у нас не вытанцевалась, – это надо признать совершенно открыто, без всякой паники. И не должна была вытанцеваться – это тоже пора признать без всякой либеральной «краски в лице»!
Блюм выступал против самого взгляда на сатиру как на средство социального врачевания: «Весь наш исторический опыт убеждает нас, что сатира никогда никого и ничего не исправляла». Напротив, она «всегда была острым орудием классовой борьбы. Сатирическое произведение широчайшим обобщением наносило удар чужому классу, чужой государственности, чужой общественности». Отсюда вывод: «Продолжение традиции дооктябрьской сатиры против государственности и общественности становится прямым ударом по нашей государственности и нашей общественности. Это неумолимая диалектика, и ничего тут не поделаешь»[143].
Теорию Блюма на страницах газеты дружно разбили Г. Якубовский, М. Роги и сама редакция в редакционной статье. Именно в ходе этой дискуссии и была впервые сформулирована идея так называемой положительной сатиры. Отстаивая право на сатиру от нападок Блюма, М. Роги предупреждал, что
сатира не должна ломать побегов, срывать плоды, а тем более подкапываться под корни советского строя. Тут и уместно сказать про партию, профсоюзы и добровольные общества. Сатира, если она действительно советская, не может пройти мимо этих органов и организаций, не показать их положительной роли, их борьбы с одиозными пережитками в нашей государственности и нашей общественности[144].
Нужна, иными словами, «положительная сатира». В статье «Сегодня советской эстрады» О. Литовский скажет об этом прямо: «Не может быть только отрицающая сатира: сатира должна быть и утверждающая. В сатирический жанр должны быть введены моменты патетики и пафоса»[145].
Завершавшая дискуссию редакционная статья «О путях советской сатиры» требовала «серьезной сатиры». «Гримасы нэпа» вышли из моды, став историей вместе с самим нэпом: «Юмор, который пытался заменить сатиру и состоявший в конце концов из однообразного типажа, а именно – обывателя, приспособившегося к революции, потревоженного ею или напуганного – отзвучал и приобрел тошнотворный привкус старого анекдота». Все это «так называемое голое смехачество, анекдотизм, смех ради смеха – все это, конечно, не может ни в какой мере охарактеризовать советскую сатиру. С этой стихией духовного бездельничества ей никак не по пути»[146].
Неожиданными защитниками советской сатиры оказались рапповцы, которые носились с идеей «пролетарской сатиры». Для них вопрос о сатире был ясен: «Сатира – это орудие революционного класса, срывающего маски с классового врага»[147]. Ориентация рапповцев на классические образцы («учеба у классики»), их борьба с «идеалистическим романтизмом» («Долой Шиллера!») и, наконец, лозунг «срывания масок» делали их естественными сторонниками сатиры. Именно в рапповской критике было введено само понятие «лакировки».
Видя в классике образец для подражания, рапповцы требовали от пролетарских писателей такой «учебы», в которой те вырабатывали бы на основе «техники классиков» собственный «метод»:
Пролетарский и крестьянский сатирик в критике отрицательных сторон действительности опирается не на утопический идеал, а на преобразующие жизнь конкретные процессы социалистического строительства, на его достижения. Субъективные намерения пролетарского сатирика совпадают с объективным ходом развертывающегося социалистического строительства[148].
Если у классиков настоящее было мрачным, а будущее абстрактным, то для советских сатириков, напротив, все мрачное осталось в прошлом, а все хорошее происходит в настоящем и будущем. В этом, кстати, была одна из причин, почему рапповцы столь резко восприняли «Клопа» и «Баню» Маяковского, которые рисовали весьма мрачную картину как настоящего, так и будущего.
После разгона РАППа атаки на сатиру возобновились. Так, в 1932 году Борис Алперс в статье «Жанр советской комедии» приходил к выводу, что «выход к комедийному спектаклю, идейно насыщенному и здоровому по своему общественному значению, лежит через преодоление гоголевских традиций в комедии». Ему, как и Блюму, не нравилось, как советские комедиографы продолжают традиции Гоголя; эти традиции, по словам Алперса, приводят к появлению «комедий с надрывом», «сатирических памфлетов» вроде эрдмановского «Самоубийцы». И далее Алперс, повторяя мысли Ермилова и Блюма, писал:
В тех случаях, когда объектом для такого осмеяния берется мир прошлого… эти традиции («традиции русской обличительной комедии». – Е. Д.) могут быть еще использованы драматургом. В тех же случаях, когда с таким оружием автор подходит к явлениям новой становящейся жизни – со сцены глядит на зрителя искаженное, изуродованное гримасой лицо действительности[149].
Замечательно, что в этих же выражениях писал Ермилов о «Бане» и «Клопе»: «вся фигура Победоносикова вообще является нестерпимо фальшивой. Такой чистый, гладкий, совершенно „безукоризненный“ бюрократ, хам, такой законченный мерзавец […] – вообще невероятно схематичен и неправдоподобен»[150]. А Алперс утверждал, что в лице Присыпкина
современный мещанин приобретает какие-то вневременные черты. Происходит многократное искусственное увеличение факта. Из социально-бытового, классово-обозначенного, типичного только для данного, сравнительно короткого отрезка времени, он становится фактом общечеловеческой истории, характеризующим неопределенно широкий исторический период[151].
Сатира, которую отстаивали рапповцы, вся была повернута в прошлое («пережитки») и, в сущности, не имела будущего. Апроприация классики играла здесь важную роль, а вопрос о дореволюционной сатире, поднимавшийся, как можно видеть, едва ли не в каждом выступлении, использование «классического наследия» всеми сторонами имели ключевое значение для обоснования новой роли комических жанров (сатиры, прежде всего) в условиях советского строя. В сущности, это был вопрос о направленности, границах и функциях критики (внутри) режима.
С одной стороны, советские историки литературы с гордостью утверждали, что «подлинной родиной великой обличительной комедии и общественной сатиры является Россия»[152]. С другой стороны, еще в мае 1927 года С. Гусев в статье «Пределы критики (О пасквилях, поклепах, клевете и контрреволюции)» в газете «Известия» писал: «К сожалению, у нас еще нет наших советских Гоголей и Салтыковых, которые могли бы с такой же силой бичевать наши недостатки»[153]. Спустя ровно четверть века, на самом излете сталинской эпохи «Правда» констатировала то же самое: Гоголей и Щедриных так и не появилось[154].
То, чем на самом деле стала советская сатира, действительно было связано с «классическим наследием». Только не с XIX-м, a с XVIII веком. Герман Андреев сравнивал советскую и дореволюционную сатиру: «Советская сатира исходила из того, что высшие категории нравственности – это советское уголовное законодательство. Русская же сатира исходит не из уголовного кодекса, она исходит из нравственно-религиозных представлений»[155]. Но это относится к сатире XIX века. Никакого родства с ней у советской сатиры не было. Ее настоящие истоки, утверждал Андреев, – в XVIII веке. Продолжая мысль Синявского о том, что «соцреализм» есть не столько реализм, сколько классицизм, Андреев сравнивал советскую сатиру с допушкинской эпохой: все общественные пороки связывались в ней со «старым неустройством», а кроме того, сатирик работал вместе с государством. В результате, замечал Андреев, «получаются такие совершенно поразительные симбиозы: сатирик Державин, он же одописец; сатирик Михалков, он же автор государственного гимна. Мне трудно представить себе Салтыкова-Щедрина в качестве автора гимна „Боже, царя храни…“ […] Таковы предки советской сатиры»[156].
Советская теория комического (даже в 1980-е годы!) настаивала на том, что «советская сатира – сатира новаторская… она приобрела новые, неизвестные ранее черты. Она стала – в отличие от сатиры предшествующих эпох – не орудием, разрушающим породившее ее общество, а орудием, утверждающим его»[157]. Советские Гоголи и Щедрины, пафос сатиры которых был положительно-утверждающим, имели с классиками мало общего:
В классической комедии осуждались основы эксплуататорского строя. Критика эта носила характер разрушающей критики, осмеивая и обличая эксплуататорские порядки господствующих классов. […] В нашем социалистическом обществе, освобожденном от классовых антагонистических противоречий, назначение критики качественно изменилось. В нашем обществе критика и самокритика направлены на утверждение идей коммунизма, на укрепление основ социалистического строя[158].
Кроме того, сам утверждаемый идеал советской сатиры уже воплощен в советской действительности, так что, в сущности, советской сатире нечего утверждать, она не знает разрыва между идеальным и реальным:
Идеал, из которого исходят советские сатирики, получил реальное, практическое воплощение в социалистическом строе, нормы которого определяют поведение членов нашего общества. Утверждая основы нашей действительности, советские сатирики отрицают все, что подрывает эти основы, все, что мешает их развитию и укреплению. В этом существенное отличие советской сатиры от сатиры прошлого[159].
Эта небывалая миметическая сатира потому и основывалась на некоей идее «реалистической комедии», которую якобы отстаивали Белинский, Чернышевский и «революционно-демократическая критика»[160], требуя «типических живых характеров», «правдивости и исторической конкретности»[161]. В советской действительности ей оставалось заниматься лишь отражением «прекрасного». Не удивительно поэтому, что, вопреки самой природе сатиры, советская сатира была оптимистичной. Если «в оптимистической по своему духу сатире великих русских писателей прорывались мрачные, трагические нотки, вызванные невозможностью конкретного выражения силы, способной победить зло и неправду»[162], то, ясное дело, подобных «ноток» госсмех не допускал.
Утверждения о том, что советская «сатира служит делу укрепления нашего общественного строя, отвечающего идеалам народа, в чем состоит ее качественное, принципиальное отличие от сатиры дореволюционной, которая усматривала свое назначение в разрушении господствовавшего тогда антинародного строя»[163], работало лишь на историзацию теории положительной сатиры.
Один из ведущих рапповских теоретиков И. Нусинов сформулировал новый подход к сатире наилучшим образом. Поскольку, утверждал он, «классическая сатира всегда была отрицанием системы», в условиях пролетарского государства «не следует преувеличивать перспективы сатиры и юмора». Явление это обусловлено исторически: «классы, уже находящиеся у власти, не выдвигали великих сатириков и по мере укрепления какого-нибудь класса, скажем, буржуазии, сатира в его литературе падала»[164]. Борьба с социальным перерождением немыслима через сатиру, полагал Нусинов. «Здесь дело идет не о своем, которого надо исправить смехом, а о чужом, которого надо отсечь».
Но невозможна не только пролетарская сатира. Согласно Нусинову, невозможен и пролетарский юмор, поскольку «смех юмористов проникнут сочувствием, снисходительностью и всепрощением, а то и просто обывательским самоутешением». Понятно, что для «классовой борьбы» это негодное средство (43). «Если сатира, – писал И. Нусинов, – займет в пролетарской литературе третьестепенное место, то и юмор, как литературная категория, социально чуждая пролетариату, не может претендовать на особое значение. […] Их роль с каждой новой победой пролетариата будет все уменьшаться. Пролетарская литература не создаст классиков сатиры и юмора» (41, 43). Сатира только «на родной почве может дать хорошие плоды». Такой почвой является для нее мелкобуржуазная попутническая среда, а вовсе не пролетариат. Но «по мере того, как попутнический писатель будет проникаться пролетарской идеологией, задачами пролетарской борьбы и строительства, пафос созидания, пафос творческой борьбы оттеснит в его творчестве сатирический смех» (40). Прогноз Нусинова оказался абсолютно точным. На рубеже 1930-х годов начался процесс резкой трансформации сатиры и юмора в госсмех.
Позже, когда развернется критика рапповского лозунга «срывания масок» (который не мог распространяться на советскую действительность) «идейных защитников» (кроме самих сатириков, разумеется) у сатиры не останется вплоть до 1952 года, когда «Правда» вновь призовет «советских Гоголей и Щедриных». Последний бой в защиту сатиры будет дан на Первом съезде писателей М. Кольцовым:
Не раз и не два в наших дискуссиях и на страницах печати проскальзывал тезис о ненужности, о ложной роли, даже о бессмысленности существования сатиры в нашей обстановке… Но не надо даже быть советским писателем, достаточно быть только современником с глазами и ушами, ощущающими нашу эпоху, чтобы понять всю неправильность и легковесность этого утверждения[165].
Но что это была за сатира?!
В докладе на съезде В. Киршон, один из бывших рапповских вождей и популярный в те годы драматург, уже развивал идею о «новом типе комедии – комедии положительных героев», которая фактически снимала вопрос о сатире. Разумеется, автор «Чудесного сплава» обставлял отказ от сатиры оговорками («Это не значит, что у нас нет места для бичующей сатиры; в нашем быту еще много уродливых явлений, капиталистические пережитки еще дают себя знать, перо сатирика может найти для себя подходящие объекты. Но смех победителей, смех освежающий, как утренняя зарядка, смех, вызванный не насмешкой над героем, а радостью, зазвучит на нашей сцене»). Словом, уродливые явления имеют место быть в нашем быту (только в быту!), имеются и «капиталистические пережитки» (только пережитки!). «Пережитки», а вовсе не изображаемые сатирой 1920-х годов беды и язвы советской повседневности, бюрократизм и «комчванство». Приходит время смеха, помещающего настоящее в прошлое и объявляющего его побежденным. Перед этим «смехом победителей» сатира отступает, вытесняемая «освежающей» и бесконфликтной «лирической комедией».
Благо к концу 1920-х годов в комедии окончательно сложились два направления: сатирическое и водевильное. К первому относятся «Работяга Славотеков» Горького, «Клоп» и «Баня» Маяковского, «Воздушный пирог» Ромашова, «Выстрел» Безыменского, «Усмирение Бададошкина» Л. Леонова, «Мандат» Эрдмана, пьесы М. Булгакова и др. К водевильно-бытовому жанру можно отнести «Фабрику молодости» и «Чудеса в решете» А. Толстого, «Квадратуру круга» Катаева, «Вредный элемент» и «Шулер» Шкваркина и др.[166] Второе направление и будет доминировать в 1930-е годы. Проснувшаяся было в годы войны сатира будет вновь приглушена в 1946 году серией идологических постановлений и в особенности травлей Зощенко. Накануне выхода постановления ЦК «О репертуаре драматических театров» (1946) Константин Финн убеждал коллег-драматургов: «Все старые типы комедии не для нас. Нельзя высмеивать людей, когда вокруг так много положительного. Нет дурной среды, как в „Горе от ума“, нет плохих нравов, и надо высмеивать пережитки прошлого, любуясь»[167]. Это «любование» завершилось в 1952 году, когда был сформулирован запрос на советских Гоголей и Щедриных. Однако удар по сатире был настолько сильным, что и после смерти Сталина можно было прочесть:
Нередко можно слышать, что уже саморазоблачение, осмеяние отрицательного предполагает положительный идеал. Конечно, осмеяние негодного, порочного, ошибочного, косного должно вызвать у зрителя, читателя мысль о чем-то противоположном тому, что осмеивается. Однако можно ли быть уверенным, что […] осмеяние того или иного явления обязательно натолкнет зрителя или читателя на правильный вывод? Не лучше ли, не мудрствуя лукаво, показать этот образец для поведения, для подражания? Не логичнее ли непосредственно нарисовать – ярко, выразительно, наглядно – образы передовых советских людей?[168]
Высмеивая подобные рецепты «сатирического осмеяния», Владлен Бахнов писал о советской сатире XXI века:
Мне думается, к тому времени сатирический жанр значительно расширится за счет слияния с такими жанрами, как дифирамб, панегирик и ода. Можно даже представить себе, как сатириков будущего общественность станет призывать смелее и острее вскрывать положительные явления нашего быта[169].
Гармонизирующий смех: Диалектика «положительной сатиры»
Все теории комического едины в том, что оно основано на противоречии – между безобразным и прекрасным (Аристотель), ничтожным и возвышенным (Кант), ложным и истинным (Гегель), нелепым и осмысленным (Жан-Поль, Шопенгауэр), предопределенностью и произволом (Шеллинг), образом и идеей (Фишер), автоматическим и живым (Бергсон), действительно ценным и лишь притязающим на ценность (Чернышевский), необходимостью и свободой, великим и ничтожным… Не чужда была этому и советская эстетика. Как заключал Ю. Борев, «комическое – это противоречие общественно ощутимого, общественно значимого несоответствия (цели – средствам, формы – содержанию, действия – обстоятельствам, сущности – ее проявлению, претензии личности – ее сути и т. д.)»[170].
Проблема, однако, в том, что в сталинизме «комическое как средство раскрытия противоречий» наталкивается на фундаментальное препятствие: эпический мир соцреализма весь устремлен к гармонизации, а вовсе не к раскрытию противоречий[171]. Это создает ситуацию невозможности комического одновременно с постоянной необходимостью в его симуляции, обусловленной соцреалистическим популизмом (народностью) и оптимизмом. Здесь мы имеем дело с оксюморонной в своей основе формой гармонизирующего смеха, дававшей простор для бесконечных диалектических упражнений. Об этой диалектике и пойдет речь.
1930-е годы стали временем утверждения «жизнерадостного» госсмеха и «положительной сатиры». То, что было лишь намечено Киршоном в 1934 году, уже через несколько лет стало догмой[172]. Так, согласно Евгении Журбиной, в советской литературе «стирается демаркационная линия между амплуа писателя „возвышенного строя лиры“ и писателя, „дерзнувшего вызвать наружу всю трагичную, потрясающую тину мелочей“»: «Дух сатирического разоблачения проник глубоко в „мирные“ жанры литературы. Собственно советскому сатирику приходится настраивать свою лиру на „возвышенный строй“, если он хочет, чтобы его сатира оставалась сатирой реалистической»[173]. Эта диффузия лирики и сатиры, согласно Журбиной, полностью обновила последнюю:
Только на наших глазах сатира начинает оживать во всей гамме и полноте лирических оттенков. Удивительная, небывалая в мировой истории сатира рождается у нас – сатира, не содержащая в себе нерастворимых осадков желчи, горечи, иронии, то есть той питательной среды, в которой издавна выращивалась культура сатиры и которая казалась неотъемлемым условием этого выращивания[174].
Только перестроив свою «лиру» на этот «возвышенный строй», советский сатирик может оказаться «на уровне своих задач»:
Лирически-восторженное отношение к нашей действительности делается тем мостом, по которому этот писатель переходит на рельсы новой, советской сатиры. […] Жизнеутверждающий лиризм, лиризм самых светлых, радужных тонов, сделался отличительным признаком лучших ее образцов. Этот лиризм вошел в каждый элемент сатирического построения, не снизив и не притупив высоту сатирического негодования, а только поставив его на новый и контрастный фон – фон радости, бодрости, внутреннего спокойствия и уверенности. Разрешить задачу построения советской сатиры оказалось возможным только на высокой волне гнева и ненависти и на высокой волне жизнеутверждающей лирической патетики [сатиры, свободной] от критического пафоса и чувства негодования, пронизанной безоблачно-светлым лиризмом[175].
В мире этого «безоблачно-светлого лиризма» нет больше места гневу и ненависти; жизнеутверждающая патетика пронизывает советские «лирические комедии» на сцене и на экране, колхозные пьесы и романы.
Журбина утверждала, что «советская литература в целом идет под знаком „разоблачений“ такого масштаба и охвата, которого не знала еще мировая литература. В активе советской литературы громадный опыт „срывания всех и всяческих масок“»[176]. Речь шла, разумеется, о «срывании масок» с прошлого. Совсем иначе обстояло дело, когда речь заходила о современности:
Лирически-патетическое отношение к нашей действительности вытеснило традиционную сатирико-обличительную желчь и сделалось питательной средой наших «разоблачений». Разоблачение, не содержащее в себе нерастворимые осадки желчи, горечи, иронии, т. е. той питательной среды, в которой издавна выращивалась культура разоблачений, – выросло на нашей почве. Жизнеутверждающая патетика должна войти в каждый элемент советского разоблачения, не уменьшив силу разоблачительного выпада, а только поставив его на другой новый контрастный фон – радости, бодрости, внутреннего спокойствия и уверенности. Сквозь расшатывание омертвевших норм мышления и омертвевших социальных «порядков» должен проступить образ новых отношений между людьми[177].
Это «бодрое» и «радостное» разоблачение, лишенное желчи, горечи и иронии, ознаменовало смену сатирико-обличительного пафоса на лирико-патетический. Самым опасным пережитком на этом пути становился сарказм, которому надо было объявить войну: «Гипертрофия сарказма – показатель неблагополучного отношения автора с разоблачаемыми им героями»[178]. Рассуждения Журбиной о сатире полны той Прометеевой диалектики, которой была пронизана эпоха террора. Ее теория «положительной сатиры» основана на вопиющей оксюморонности, радикальной парадоксальности и выходит за пределы логики в область невиданной свободы.
Избавление сатиры от старой «питательной среды» означало избавление ее от ее критической сущности и основного пафоса, без которых сатира просто перестает быть сатирой. Эти формы обличения для Журбиной – лишь «старые меха», которые не могут вместить в себя «молодое вино» радости, оптимизма и ликования. «Гнев, презрение, сарказм, горечь, негодование» отвергались как буржуазные категории, неприемлемые для советского искусства. Не удивительно, что итогом этой интеллектуальной эквилибристики стало причисление сатиры к… лирическому роду литературы. Теперь лирические оттенки, интонации, лирическая патетика формировали эмоциональный фон «положительной сатиры», создавая для нее новую основу. «Лирически восторженное, лирически патетическое отношение к нашей действительности, – утверждала Журбина, – вытеснило традиционную сатирическую желчь и сделалось питательной средой новой, оптимистической сатиры»[179]. По сути, здесь и было окончательно сформулировано то, что впоследствии будет называться теорией бесконфликтности, дана настоящая рецептура «розового лака» советской литературы.
Она будет распространена на теорию драмы. Уже цитировавшийся М. Гус в статье «Современные коллизии» утверждал, что для нашего времени характерны две основные группы коллизий: коллизии познания и коллизии свершения. «Природа этих коллизий, – писал он, – в том, что в них борьба идет между новым и еще более новым»[180]. Автор популярных в 1930-е годы «лирических комедий» В. Гусев в статье «Мысли о герое» сетовал на то, что ему надоели пьесы, в которых человек страдает[181]… Не удивительно, что ко второй половине 1930-х годов сатира полностью исчезла из публичного поля. Она издается только в качестве музейных образцов высокой классики типа новых переводов «Сатир» Ювенала (Academia, 1937) или «Избранных эпиграмм» Марциала (Гослитиздат, 1937). Из современной сатиры выходит книга сатирических очерков Ильфа и Петрова об… Америке. На сцене и на экране доминирует так называемая положительная комедия, то есть комедия без отрицательных героев, расцветают колхозная комедия, колхозный роман и колхозная поэма, наполненные «лирически восторженным, лирически патетическим отношением к нашей действительности». Сатира сохраняется почти исключительно в области политической карикатуры и журналистики для репрезентации внутренних и внешних врагов.
После войны, в обоснование возврата к прежнему курсу после идеологических постановлений 1946 года, В. Ермилов перелицует лозунг Чернышевского в «Прекрасное – это наша жизнь». Под этим лозунгом советское искусство будет развиваться до тех пор, пока «Правда» не объявит об «отставании драматургии», вреде бесконфликтности и потребует советских Гоголей и Щедриных. О комическом до этого писалось мало. Если речь шла о «комедии», то непременно – о «сатире», которая понималась соответственно.
Мы живем в стране социализма и уверенно идем к коммунизму, – рассуждал на страницах «Нового мира» в 1949 году Борис Горбатов. – Поэтому наша сатира и может и должна быть жизнеутверждающей и светлой. Бичуя недостатки, мы знаем, что они устранимы. Громя пережитки капитализма в сознании людей, мы понимаем в то же время, что они не больше как пережитки, вчерашнее, а не завтрашнее[182].
Поворота к сатире, объявленного в апреле 1952 года и продиктованного политическими расчетами Сталина, ничто не предвещало. Буквально за несколько месяцев до того, как будет осуждена «теория бесконфликтности», она привычно утверждалась в писательской среде. Так, в ходе творческого совещания московских драматургов на тему «Конфликт в современной драме» (11 января 1952 года) Константин Финн обосновывал некий особый тип «спокойного конфликта»: в нашей жизни нет «каких-то уродов», нет столкновений между глупым и умным; надо искать конфликт там, где была бы борьба без «выжил», без «прогнал», без того, чтобы «использовал свое положение». «Я за спокойный конфликт. Я лично (опять-таки исходя не из своего опыта, а из опыта мировой драматургии) вижу, что спокойный конфликт – это наиболее интересный конфликт»[183].
Но как только причина «отставания драматургии» была названа «Правдой», начался поиск виновных в создании зловредной «теории бесконфликтности». Задача была непростой: она состояла в том, чтобы теорию эту осудить бесконфликтно, с наименьшими издержками, избежав преувеличения нанесенного ею вреда советскому искусству (уже по одному этому можно было понять, какие именно Гоголи и Щедрины требовались).
Сама «теория бесконфликтности» была объявлена едва ли не политической диверсией. Мастера подобных формулировок В. Ермилов и Я. Эльсберг соревновались в остроте политических обвинений: «Теория бесконфликтности искусства фактически направлена на притупление политической бдительности наших художников» (Ермилов)[184]; «Все эти ошибочные воззрения вели к благодушию, беспечности и притуплению политической бдительности, они всегда играли на руку лакировщикам и перестраховщикам, бюрократам и ротозеям» (Эльсберг)[185].
Автором «теории бесконфликтности» был объявлен ортодоксальный сталинский писатель Николай Вирта с рецензией на кинофильм «Сельский врач» («Произведение большой жизненной правды»), помещенной в газете «Советское искусство» от 16 января 1952 года (получалось, что сама эта «теория» родилась всего за несколько месяцев до ее разгрома), где утверждалось, что
видимого, яркого конфликта, столкновения каких-то сил, идей и понятий в жизни как будто бы больше нет. Если возникают подобия таких конфликтов, то это случается в условиях, вовсе не типических для нашей страны. Если же конфликт начинает приобретать типический характер, он разрешается мощным вмешательством партии, громадных народных масс, всего молодого, светлого, беспрестанно движущегося вперед. Разумеется, бытует конфликт между тем, что отстает, и тем, что находится в беспрерывном движении, между инстинктами мелкобуржуазными, собственническими и между социалистическим отношением к советскому добру, между лодырями и стахановцами, бюрократизмом и новаторством. Но эти конфликты перешли совсем в иное качество, ибо жизнеутверждающая сила всего молодого, здорового и цветущего, что определяет наше современное общество, препятствует распространению отживающего.
Вирту очень радовало «плавное, хрустально-чистое течение великого нашего жизненного потока», увиденное им в кинофильме «Сельский врач». Отсюда он делал вывод:
В фильме «Сельский врач» сценарист М. Смирнова и режиссер С. Герасимов неопровержимо доказали, что создание произведений искусства, где нет антагонистических конфликтов, a есть отдельные жизненные столкновения между современными людьми, столкновения, так сказать, «бескровные», основанные либо на недоразумении во взглядах, либо на отвращении ко всему непорядочному, что мешает нашему движению к коммунизму, – вполне возможны, и не только возможны, но и закономерны, что именно по этому пути и будет развиваться наша драматургия.
Вирта, однако, не исказил замысла фильма. Вот как в том же году на страницах той же газеты рассуждала сама киносценарист Смирнова в статье от 22 октября «Правда – в типическом», в которой развивала взгляды на типическое как наиболее часто встречающееся:
Приступая к новой работе, я вспоминаю свои поиски типического при определении темы сценария «Сельская учительница».
Встречаясь и знакомясь со множеством людей этой профессии, я отмечала и такие характеры, которые вызывали чувство протеста, жалости и даже презрения. Были судьбы, полные драматизма и неожиданных поворотов. Но разве они определяли собой чудесное понятие учитель, которое стоит в одном ряду с понятием мать, отец и которое с первых же шагов жизни человека являет для него пример прекрасного?
Нет! Тысячу раз нет!
Пусть еще встречаются учителя-карьеристы, люди злые и невежественные, но не они типичны для нашего советского учительства, призванного воспитывать человека нового общества.
Как страшно бы я оклеветала сотни тысяч честных тружеников, отдавших всю силу своей души этому высокому и трудному делу! Какую неправду сказала бы, занявшись частностями и не отобразив правды, то есть типического.
Вообще-то писательницу Смирнову соблазняло совсем иное. Она хотела показать в своем новом сценарии одаренного человека, председателя колхоза, отважно сражавшегося на фронтах, сильно искалеченного, оставшегося без рук, но не сдавшегося, не успокоившегося и сумевшего буквально из пепла возродить колхоз-миллионер. Но даже этот вполне стереотипный персонаж кажется сценаристу недостаточно типичным: «Но почему же, – спрашивает она себя, – меня относит в сторону от этой темы? Не значит ли это, что я типическое вижу в обыденном?». И отвечает:
Конечно, тема мужественного преодоления собственного недуга – это большая тема. Ее прекрасно решили в своих книгах H. Островский, Б. Полевой и другие, но я думаю, что описанное ими было типическим явлением для дней войны, когда миллионы людей были в какой-то мере корчагиными, мересьевыми, и это, при всей исключительности положения, было не исключительным.
Я же ищу типическое для периода мирного строительства. Каков же герой этого времени? И вот передо мной встает рядовой агроном, наш кормилец – великий маленький человек. О таких рассказать!
Типичный маленький человек превращается под пером М. Смирновой в абсолютно усредненный объект – она хочет изобразить все среднее:
Возьму очень среднюю МТС, расположенную в средней полосе нашей Родины, где почвы выработанные и тощие… Я вижу своего героя среди полей. Он среднего роста, запыленный, в серой кепке на седоватых волосах, в более чем скромном пиджаке, лицо ничем не примечательное – таких лиц миллионы. А потом оказывается, что этот человек – кладезь знаний, что он – обладатель большой душевной силы и красоты ума и организаторских способностей. Но он – рядовой человек. Он – народ.
Здесь сформулирована целая эстетическая программа: если народ есть воплощенная усредненность и ему противопоказано все неусредненное, то стратегией искусства должно стать не остранение, но, напротив, стереотипизация: собственно, народ – это и есть воплощенный стереотип – средняя полоса, средняя МТС, средний рост, все серое, скромное, непримечательное. Соответственно, изображение подобного объекта не может принимать неконвенциальные формы. Поэтому сатира, тяготеющая к заострению, здесь не просто неуместна, но эстетически невозможна.
Эти «сторонники теории затухания конфликтов, как безмятежные маниловы, идеализировали жизнь, закрывали глаза на недостатки, на борьбу с ними», чем «оказывали медвежью услугу искусству, выступали ликвидаторами конфликтов и правдивого искусства, его действенной и активной силы», были объявлены «последышами»… формалистов:
Сначала ее (комедию. – Е. Д.) пытались сбить с реалистического пути формалисты, отводившие комедийному жанру унизительную роль бессодержательного пустячка, затем ревностные почитатели бесконфликтности чуть ли не наложили запрет на изображение отрицательных лиц в комедиях, объявив их нетипичными. И те и другие фактически уничтожали жанр, с одинаковым усердием подрывали основы реалистической комедии[186].
Вина формалистов сводилась к тому, что все они «в советское время под разными предлогами, в различных вариантах, но упорно хотели ликвидировать комедию, изображающую жизнь через большие общественные конфликты, стремились вытравить из комедии социальное содержание. […] Формалисты превращали комедию в жанр безобидной юморески. И если говорить о корнях пресловутой „теории бесконфликтности“, то эти корни надо искать в различных формалистических и декадентских теориях», которые, в свою очередь, исходили из «буржуазной теории комического реакционного французского философа-идеалиста» Анри Бергсона[187]. И еще определеннее:
Мы глубоко убеждены, что теория бесконфликтности не возникла на песке. В комедийном жанре благоприятной почвой для ее распространения была формалистическая теория, бытовавшая долгие годы среди некоторых театральных деятелей и драматургов […] Формалисты, защищая безыдейную комедию, подготовляли почву для теории бесконфликтности, наносили вред развитию реалистической комедийной драматургии[188].
Освобожденная от формализма и бесконфликтности комедия (сатира) оставалась между тем в тисках знакомой диалектики и после 1952 года, пребывая в процессе постоянной балансировки, условно говоря, розовой и черной красок: «Ей, как и всему советскому искусству, чужды и всеобщая елейно-розовая смазь лакировщиков и всеобщая дегтярно-черная смазь злопыхателей»[189]. В повседневной практике средний путь меж этих двух «смазей» указывался партийными директивами, но в публичном дискурсе он долго не мог найти своего разрешения, пока не стало ясно, что в комедии должны быть представлены оба начала: отрицательным персонажам обязательно должны были противопоставляться положительные герои.
Наличие в советской комедии непременного положительного героя наряду с отрицательным диктовалось самим строем советской комедии – ее популизмом и мажорностью. Предполагалось, что в комедийном положительном герое «драматурги показывают лучшие черты современника. В то же время такой герой вызывает смех, улыбку»[190]. Это был, по сути, знакомый водевильный герой «лирической комедии», герой, изображенный юмористически, комедийность которого «светла, потому что она неотрывна от оптимизма народной жизни. В наших комедиях наряду с едким, разящим юмором есть юмор радостный, свободный от горечи. Такой юмор является прямым отражением счастливой советской жизни»[191]. Одновременно советская комедия должна избегать водевильности. Она «характеризуется бодростью, брызжущей радостью жизни, остроумием и весельем. Но веселье в ней органически вытекает из идейного содержания и не должно заглушать содержание, не должно стать самоцелью»[192].
Однако для сатиры все эти рецепты были непригодны. Предполагалось создание некоего гибрида сатиры с лирической комедией. Соответственно, теория «положительной сатиры» подлежала лишь частичной коррекции. На дискуссии о сатирической комедии, проведенной 8 апреля 1953 года Президиумом правления Союза советских писателей совместно с активом московских литераторов, об этом говорило большинство выступавших. В докладе Е. Суркова содержалось требование обязательного столкновения в сатирической комедии «двух разных социальных характеров». Нельзя, утверждал докладчик, «чтобы положительные персонажи не находились на главной линии действия, чтобы борьба положительных и отрицательных персонажей протекала где-то на периферии пьесы. Борьба только тогда оказывается активной и воздействующей на зрителя, когда положительный герой приходит к победе, преодолевая косные силы и утверждая свою правоту в действии»[193]. Оказывается, после объявления запроса на советских Гоголей и Щедриных
…в советской комедии выросло значение положительных героев. Их появление – это настойчивое требование нашей советской жизни, в которой бесконечно много прекрасного и в которой ни один бюрократ, ни один глупец или пошляк не существует в одиночестве, изолированным от общества. Нет, он живет среди чудесных советских людей, с ним борются, на него влияют наши общественные нравы, и он в свою очередь может влиять на некоторых не очень устойчивых людей. И такой отрицательный субъект просится в комедию! Но не один, а вместе с теми, кто его разоблачает[194].
Итак, был сделан шаг вперед от «положительной комедии»: «Опыт показал, что комедия с участием одних положительных характеров, без отрицательных фигур – бессмысленная затея»[195]. Но он тут же отыгрывался назад. Причем не только критикой, но и работниками театра. Такой авторитетный режиссер, как А. Д. Попов, писал в 1952 году, откликаясь на призыв «Правды»: «Комедия, построенная только на изображении отрицательных образов, не может существовать в нашей драматургии, не искажая общей картины соотношения сил в нашей действительности»[196].
На помощь вновь приходит теория «реалистической комедии»: хотя «советская сатира гневно разоблачает отрицательное и дурное в нашей жизни», ее «высокая и благородная задача» несовместима «с чрезмерным гиперболизированием отрицательных персонажей». Оптимальным типом комедии объявляется
комедия, где изображаются крутые столкновения положительных и отрицательных персонажей, разоблачаются люди скверных нравов, действующие в положительной среде, в среде, где господствуют принципы советской, социалистической жизни. […] Наличие положительной среды – главнейший признак сатирического произведения, написанного на современную советскую тему, ибо в нашей жизни рядом с отрицательным всегда присутствует положительное, и положительное в жизни перекрывает отрицательное[197].
Признаком этой «положительной среды» и являлись «положительные действующие лица»:
Комедия предлагает более или менее широкую картину действительности, охватывает более или менее широкий круг людей. А поскольку это советская действительность и круг советских людей, комедиографу очень трудно обойтись без положительных типов: его здесь подстерегает опасность дать обобщение, искажающее правду нашей жизни. Может получиться «сатира», подобная той, которая едко высмеяна в пародии С. Швецова «Список действующих лиц одной якобы сатирической пьесы»:
Отец – подлец.
Сын – кретин.
Дочь – тупица.
Мать – клеветница.
Старший брат – злостный бюрократ.
Младший брат – явный дегенерат.
Зять – многоженец.
Дед – перерожденец.
Бабка – скряга.
Племянник – стиляга.
Внуки и внучки – барчуки и белоручки.
Дворник Антип – аморальный тип.
Дарья-молочница – сплетница и склочница.
Встречаются также по ходу пьесы дураки, оболтусы и балбесы[198].
Конечно, советская сатира существует не для того, чтобы живописать подобный паноптикум. Поэтому «разговоры о создании такой сатирической комедии, такого романа и поэмы, в которых были бы изображены одни отрицательные персонажи, лишены всяких оснований. Ведь […] каждому ясно, что плохое в нашей жизни, при всей подчас трудности борьбы с ним, все-таки не главное, не основное»[199]. Разумеется, основания для таких «разговоров» были, поскольку речь шла не просто о романе, поэме или комедии, но о сатире. Так что на совсем уж нелепые призывы подобного рода иногда следовал отпор. В статье «В защиту специфики сатиры» Д. Николаев писал: «Плохое, конечно, не главное, не основное в нашей жизни (и это действительно „каждому ясно“), но оно „все-таки“ главное, основное в сатире, ибо именно плохое и является объектом сатирического осмеяния (и это, как показывают факты, ясно далеко не всем)»[200].
В таком контексте ссылки на Гоголя и Щедрина, у которых как раз и были одни отрицательные персонажи, становились бессмысленными. Поэтому В. Ермилов и Я. Эльсберг, занявшиеся по призыву «Правды» созданием «Гоголей и Щедриных», начали переписывать классиков в советских сатириков. Так, В. Ермилов в «Литературной газете» выступил со статьями, вошедшими затем в книгу «Некоторые вопросы советской драматургии: О гоголевской традиции», где писал об «утверждающем смехе» Гоголя: «Неразрывная связь любви и ненависти, отрицание не во имя отрицания, а во имя утверждения – таковы классические гоголевские традиции. Гоголь ввел в эстетику понятие восторженного смеха, светлого смеха»[201]. Поэтому сатира Гоголя провозглашалась «утверждающей», «положительной»: «Гоголевский восторженный смех и означал такое отрицание уродливого, в котором содержалось утверждение прекрасного» (47). В гоголевском смехе подчеркивались «победоносность отрицания», «полнота морального торжества», «революционная любовь и революционная ненависть» и т. д. Эти захватывающие дух диалектические виражи были вполне в духе рассуждений Журбиной, развивавшей за двадцать лет до того теорию «положительной сатиры».
Ведущий литературный критик сталинской эпохи Владимир Ермилов проявил себя настоящим артистом подобной диалектики, с легкостью примиряя непримиримое: «Автор советской сатирической комедии не знает той трудности, какая возникала перед Гоголем: отсутствие типической среды, поля действия для положительного героя. Можем ли мы найти такую среду в советском обществе, где положительный герой выглядел бы фальшивым, „бессильным“, „бледным и ничтожным“?» (22). Для того чтобы это не выглядело призывом к бесконфликтности, Ермилов тут же указывал: «Необходимо изображение борьбы с отрицательными явлениями как характерной черты нашей действительности, а не изображение отрицательных явлений лишь самих по себе» (32).
«Борьба» указывает на конфликт. Тут же включается механизм нейтрализации: оказывается, положительный герой обладает «наступательным характером». Он должен «вести» действие. Иначе, если действие «ведет» отрицательный персонаж (подобный Остапу Бендеру), происходит «искажение пропорций», и «кунсткамера смешных уродцев» выдается за «среду советского общества» (34–35).
Так же неортодоксально, с использованием всего диапазона диалектических оппозиций решался любой вопрос, которого касался Ермилов, объясняя специфику советской сатиры. В сатире важна насмешка? Но «любовь к добру без ненависти к злу есть не любовь, а маниловщина. Чтобы уметь любить, надо уметь ненавидеть» (6), и «чем сильнее мы любим нашу Родину – Родину социализма, чем сильнее любим трудящихся людей, наших братьев во всем мире, тем сильнее, непримиримее мы должны выжигать из жизни все отрицательное, прогнившее, омертвевшее. Все то, что тормозит движение вперед, должны беспощадно оскорблять, преследовать, травить, уничтожать зло» (7). Лозунг «Прекрасное – это наша жизнь» – оправдание лакировки? Нисколько: «С точки зрения материалистической эстетики, а особенно с точки зрения эстетики социалистического реализма, прекрасное – это есть борьба, созидание!» (47) и «Весна человечества, Родина социализма в ее борьбе, в ее безостановочном движении вперед – это и есть прекрасное!» (49).
Советская эстетика демонстрировала чудеса подобной диалектической эквилибристики, переворачивая понятия с ног на голову. Так, утверждалось, что поскольку «типический характер всегда есть выражение определенной жизненной закономерности», «отрицательный для нашей действительности тип должен отражать историческую судьбу отживающих социальных явлений, стоящих на пути развития советского общества. Тем самым отрицательный тип есть негативное отражение неодолимости сил нового в нашей действительности, неодолимости нашего движения к коммунизму»[202]. Иными словами, отрицательное есть положительное. И – наоборот: «Можно сказать, что отрицающая сила социалистического реализма возросла в такой же степени, как и его жизнеутверждающая сила. И советская комедия ни в какой мере не должна поступиться своим специфическим признаком – отрицанием»[203].
Не удивительно, что «основным вопросом теории советской сатиры» оказался вопрос о… «героическом положительном характере»[204]. В 1953 году Я. Эльсберг утверждал, что «один из самых важных творческих вопросов… заключается в том, как распределить на сатирическом полотне темные и светлые краски – каково должно быть соотношение отрицательных и положительных персонажей»[205]. А спустя еще тринадцать лет Л. Ершов и вовсе требовал от сатиры героики: «Нашей сатире потребен не просто передовой идеал, положительный образец, но – героический характер»[206].
Не то чтобы критики совсем не видели разницы между героикой и сатирой: «В комедии мы не станем искать той высокой героики, которая составляет пафос трагедии. Но это отнюдь не значит, что сатирическому обличению в советской комедии чужд пафос утверждения, что она не может рисовать обаятельных образов»[207]. Требование от сатиры «обаятельных образов» отнюдь не было парадоксом. В конце концов, «советская комедия не может, если она не хочет порвать с основными требованиями советского искусства, ограничиться только осуждением, осмеянием и критикой отрицательного, изображением лишь отрицательных фигур. Необходим положительный герой, нужно утверждение положительного начала»[208].
Но и присутствие положительных героев, материализующих «положительное начало» в сатирической комедии, не спасало авторов от политических обвинений в искажении «правды жизни», поскольку от них требовалось, чтобы положительные герои непременно выдвигались на первый план и, будучи «ведущей, наступательной силой в конфликте»[209], численно преобладали над сатирическими персонажами. Такой подход возобладал уже в 1920-е годы, когда в «Выстреле» А. Безыменского (1929) было обнаружено «такое соотношение положительных и отрицательных сторон в среде рабочего класса, партии», которое «нарушает реальные пропорции жизни»[210]. И не только численно, но и качественно, ведь «слабость и невыразительность положительных героев или тем более полное их отсутствие позволяет неизмеримо разрастись отрицательному явлению, почти не наталкивающемуся на достойный отпор»[211].
Мы имеем дело с по-настоящему оксюморонной эстетикой, требующей невозможного:
От писателя, создающего комедию, зритель ждет не зубоскальства, не мелкого подтрунивания на манер зощенковщины над неурядицами и бытовыми нелепостями, которые иногда становятся объектом изображения не очень дальновидных комедиографов. […] Советский драматург, осмеивая пережитки капитализма в сознании наших людей, не может пройти и мимо подлинно прекрасного, передового в советской жизни. Перед комедиографом встает вопрос об изображении возвышенного в комедии[212].
Или:
Монументальность в комедийном искусстве – это высокая завершенность характеров. Актер свои действия на сцене строит на логике поведения персонажа, все осмысливает, переживает; возникает естественный и правдивый комизм (так!). К такой завершенности, к такой типизации образов и должны стремиться актеры при создании характеров в советских комедиях[213].
Поистине революционные требования героики в сатире, монументальности комического, возвышенного в комедии – образцы сталинской радикальной «эстетики невозможного»[214]. Одна из основных проблем при подходе к феномену сталинского/советского смеха состоит в неразличении понятий. Подобно тому, как искусство в соцреализме – не вполне искусство, сатира в госсмехе – это не вполне сатира, а юмор – не вполне юмор. Если нам удастся прояснить их специфику и выявить эти различия, мы будем считать свою задачу выполненной.
Глава 2
Смех в законе: эволюция сталинского большого нарратива
Конечно же, это было незаконно, но где был Закон? Закон был везде, невидимый и живой.
Джефф Райман. Детский сад
После турбулентных лет революции сталинизм принес с собой торжество закона – точнее, законополагающих практик. Зеркально отразив вывод Эмиля Бенвениста о том, что в индоевропейских языках слова, связанные с отправлением законодательства, являются производными от глагола «говорить»[215], сталинизм основывался на убеждении, что все сказанное имеет отношение к закону[216] – либо как уголовное преступление, либо как законообразующий речевой акт, то есть как выражение принципов законопорядка в обществе в широком смысле, без ограничения сугубо юридическими рамками. В сталинской системе, где будничное поведение, неосторожные слова и даже мысли часто классифицировались как уголовные преступления, законополагающие практики имели двойную функцию: с одной стороны, они играли важную роль в повсеместном и ежечасном дисциплинировании граждан, с другой – являлись подтверждением постулата о демократичности советского строя, где нормы, регулировавшие отношения между государством и гражданами, определялись при непосредственном участии самих граждан, в самых разных контекстах и на самых разных уровнях.
Столь нестандартные практики требовали соответствующего языкового оформления, что, видимо, почувствовал и Государственный прокурор Андрей Вышинский, когда выразил опасение относительно того, что его классическое юридическое образование может не позволить ему адекватно сформулировать свое отношение к обвиняемым на московских процессах. «В своем лексиконе я не могу найти этих слов!» – восклицал он в отчаянии. Впрочем, прокурор недооценивал себя. Он нашел эти слова, и, если судить по опубликованным в печати стенограммам, публика зачастую встречала их смехом. Мишель Фуко рекомендовал исследователям политических систем «попытаться зафиксировать власть на крайнем полюсе ее проявления, где она всегда носит наименее законный характер»[217], – а что может быть более отдаленным от сферы формального закона, чем смех в зале суда, когда вот-вот будет произнесен смертный приговор?
Исходной точкой дальнейших рассуждений является предположение, что именно «политически правильный» (потому что зафиксированный в качестве ремарок в соответствующих стенограммах) смех легитимизировал фундаментальное для сталинизма деление на «своих» и «чужих». Поскольку сходство первой категории с невиновностью, а второй – с виной имело прямые юридические последствия, смех следует рассматривать как неотъемлемую часть законополагающего дискурса сталинизма. Трансформации контекстов, в которых раздавался (и фиксировался) смех в зале, отражают эволюцию самих основ сталинского мастер-нарратива. После того как советские люди приучились к смеху в нужных местах, шутки превратились в приговоры и в законы, объясняющие закономерности исторического развития. Так, при непосредственном участии публики, отрабатывался основной закон сталинизма, гораздо более фундаментальный, чем Конституция, ибо только правильное его восприятие могло гарантировать незыблемость сталинского строя. Им стал Краткий курс истории ВКП(б). Увидевший свет в 1938 году, этот сталинский труд не только утверждал определенное прочтение партийной и советской истории, но и окончательно зафиксировал критерии, по которым своих нужно было отличать от чужих, созидание – от вредительства, хорошее – от плохого. Роль шуток властителей и смеха публики в подготовке правильного восприятия этого текста и составляет предмет нашего анализа на следующих страницах.
Начало сюжета
Начнем мы с «Доклада т. Сталина об оппозиции и внутрипартийном положении» на 15-й партконференции осенью 1926 года[218]. Этот сравнительно ранний текст – один из знаковых, поскольку здесь наиболее внятно и развернуто, по сравнению с предыдущими партийными форумами, были оглашены параметры, по которым друзей следует отличать от врагов. Судя по огромному количеству примечаний «Разрядка моя. И. Ст.», вождь внимательно отредактировал текст перед публикацией; следовательно, смех публики зафиксирован с его согласия и в «нужных» местах. «Нужные» места включали в себя в основном представление вождем точки зрения оппозиции, и в первую очередь – Троцкого, автора «великолепной и музыкальной отписки», то есть книги «К социализму или к капитализму?». Сталин цитирует «заблуждающегося» товарища по партии много и охотно, спрашивая предварительно у своей аудитории, «не угодно ли [им] послушать», и представляя цитаты в обрамлении соответствующих комментариев, подчеркивающих несуразность стиля Троцкого:
«Ленинизм, как система революционного действия, предполагает воспитанное размышлением и опытом революционное чутье, которое в области общественной – то же самое, что мышечное ощущение в физическом труде» (Л. Троцкий, «Новый курс», изд. «Красная Новь», 1924 г., стр. 47).
Ленинизм, как «мышечное ощущение в физическом труде». Не правда ли, и ново, и оригинально, и глубокомысленно. Вы поняли что-нибудь? (Смех.)
Письмо Троцкого от сентября 1926 года относительно предполагаемых результатов внутрипартийной борьбы насмешливо определяется как «почти что предсказание… почти что пророчество чисто марксистского типа, предвидение на целых два месяца. (Смех.) (…), [в котором], конечно, … имеются некоторые преувеличения. (Смех.)». Процитировав еще ряд пассажей, где у т. Троцкого имеются «некоторые преувеличения», и придя к выводу, что, «ежели отвлечься от всех этих преувеличений, допущенных т. Троцким в его документе, то от прогноза как будто ничего, собственно, и не остается, товарищи. (Смех.)»[219].
Потуги Троцкого излагать свои мысли наукообразно должны быть смешными не только потому, что в философии сталинизма, как известно, правда – за простотой, а сложность формулировок в лучшем случае смешна, а в худшем – подозрительна и попросту преступна. Троцкий покусился на то, что должно восприниматься как область, доступная и подвластная исключительно самому Сталину: прогнозы на будущее. В этом есть определенная логика: поскольку лишь сам вождь имел право определять политику развития страны на каждый определенный момент, будь то прошлое, настоящее или будущее, все остальные прогнозы и анализы были изначально ошибочны и могли служить лишь поводом для смеха – как то происходит и в заключающей выступление развернутой метафоре, основанной на цитате из Зиновьева:
Я кончаю, товарищи. Тов. Зиновьев хвастал одно время, что он умеет прикладывать ухо к земле (смех), и когда он прикладывает его к земле, то он слышит шаги истории. Очень может быть, что это так и есть на самом деле. Но одно все-таки надо признать, что т. Зиновьев, умеющий прикладывать ухо к земле и слышать шаги истории, не слышит иногда некоторых «мелочей» (Сырцов: «Он другим ухом слушал»). Может быть, оппозиция и умеет, действительно, прикладывать уши к земле и слышать такие великолепные вещи, как шаги истории. Но нельзя не признать, что, умея слышать великолепные вещи, она не сумела услышать ту «мелочь», что партия давно уже повернулась спиной к оппозиции, а оппозиция осталась на мели. Этого они не услышали. (Голоса: «Правильно!»)
Что же из этого следует? А то, что у оппозиции, очевидно, уши не в порядке. (Смех.)
Отсюда мой совет: товарищи из оппозиции, лечите свои уши! (Бурные продолжительные аплодисменты. Конференция, стоя, провожает т. Сталина.)[220]
Основываясь на убеждении, что все написанное и сказанное не вершителями закона и смысла обретает истинный смысл только в устах верховных правителей и только в их репрезентации, Сталин не просто цитирует конкретных лидеров оппозиции – он их представляет в значении represent как почти перформативного акта вызова в настоящем (present) некоего образа, который иначе был бы ограничен рамками письма (как у Троцкого) или же походя сказанной фразой (у Зиновьева). Подобное представление сопровождается комическим эффектом – неизбежным следствием переноса прежде написанного или сказанного из одного медиума в другой, в другие контекстуальные, временные и ситуативные рамки. Кроме того, метафора, однажды употребленный словесный оборот, превратившись в развернутый тезис, приобретает в полном смысле этого слова анекдотический характер по отношению к настоящему. В этом Сталин очень напоминает Ивана Грозного, любившего комические эффекты в общении с врагами. Деспотичный монарх тоже ценил комический потенциал цитат, многократно повторенных с подчеркнутой точностью, копируя стиль адресата и его манеру говорить, будь то на письме или же в личном общении[221].
Приведенные примеры показывают, как два противоположных стиля – и чрезмерно туманный, наукообразный способ изложения Троцкого, и слишком «простецкие» образы Зиновьева – оказываются смешными в представлении вождя. В принципе, не так важно, как именно или что именно говорили политические противники Сталина. Эффект смешного в данном случае достигается не формой или содержанием высказываний его оппонентов, а приемом преувеличения, утрирования, укрупнения деталей при их изложении.
Ролан Барт утверждал, что «каждый режим обладает собственным письмом, история которого до сих пор еще не написана»[222]. Это верно, как верно и то, что стратегии письма каждого режима напрямую связаны со стратегиями прочтения фактов и явлений, которые предшествовали или сопутствовали его появлению. Поскольку чтение (чужих текстов) и письмо (производство собственных текстов) тесно взаимосвязаны, герменевтические методы авторитарного режима неизбежно приобретают законополагающий характер, и ремарки «смех» в стенограммах сталинских выступлений – неотъемлемая часть этой дисциплинарной герменевтики. Аудитория приучается к тому, что оппоненты ошибаются, ибо до смешного неверно интерпретируют события, находят неверный стиль выражения, употребляют гротескно неподходящие метафоры. Приучаясь смеяться, широкие массы партийцев узнают, как следует аккумулировать и перерабатывать голос оппонента/врага; это важный урок чтения и репрезентации.